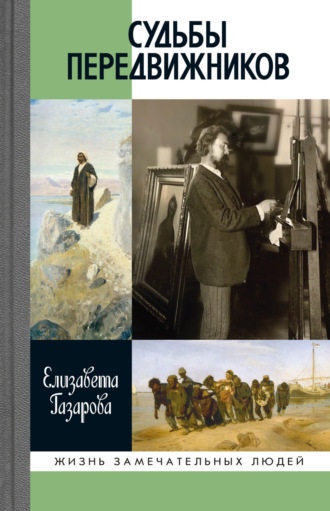
Елизавета Газарова
Судьбы передвижников
Некоторые художники выступали за открытие 1-й Передвижной выставки в Москве, но Мясоедов настаивал – оно непременно должно состояться в имперской столице. Художник размышлял так: «Успех выставки, несомненно, будет находиться в зависимости от её 1-го дебюта. Петербург для России то же, что Париж для Франции. Блестящий успех в Петербурге гарантирует успех и в Москве, и в провинциях». И правильность мясоедовской логики была подтверждена самой жизнью. На 1-й Передвижной выставке Григорий Григорьевич показал несколько своих картин, в том числе «Дедушку русского флота» и «Семейное счастье». А когда выставка двинулась в путь – побывал вместе с ней в Москве, Харькове, Киеве.
Прогрессивный дух новоиспечённой художественной организации всколыхнул творческую энергию живописцев, вовлечённых в её деятельность. Не избежал этого подъёма и сам Мясоедов. Уже на 2-й Передвижной выставке он участвует со своим ставшим впоследствии знаменитым произведением – «Земство обедает». Годом позже публику заинтересовал ещё один заметный холст художника – «Чтение манифеста 19 февраля 1861 г.».
Успех не усмирил страсть Григория Григорьевича к перемене мест. Он снова посетил Италию, побывал в Австрии, поработал в Харькове над декорациями живых картин для Русского музыкального общества, где тогда преподавала его жена. В 1876 году, во время балканских военных событий, художник отправился в Сербию.
Тяга к путешествиям не в последнюю очередь провоцировалась отсутствием у живописца своего дома. Паньково унаследовал старший брат, Григорию Григорьевичу оставалось надеяться на свой талант, а ещё на удачу. И хотя в отчем доме Григория Мясоедова последний раз видели на похоронах отца, в родные места Тульской и Орловской губерний художник продолжал наведываться, останавливаясь у родственников Елизаветы Михайловны. Скитальческий образ жизни, впрочем как и отсутствие наследников, плохо скрепляет семейный союз. Брак Мясоедова и Кривцовой оказался бездетным, и с некоторых пор их супружество обрело формальный характер, но ещё долгие годы Григорий Григорьевич будет регулярно посещать ялтинскую дачу жены и писать местные виды.
Как уже отмечалось, от собеседников Григория Григорьевича требовалась определённая выдержка, ибо художник имел обыкновение говорить «непозволительные по житейским правилам вещи». Только хорошо знавшие человеческую природу Мясоедова не обижались на его шокирующую прямолинейность и высказывания, порой совсем не приглаженные элементарными нормами вежливости. Как ни странно, но дамское общество такая особенность характера живописца ничуть не смущала. Обычно с женщинами Григорий Григорьевич вёл живой, ироничный разговор, глаза его при этом «прищуривались, рот искривлялся в саркастическую улыбку, как бы говорившую: “Знаю всё хорошо, постиг вас, миленькие”».
Дерзость и размашистость натуры Мясоедова раздвигали рамки его творчества. Кроме создания прославивших художника сцен из народной жизни, он пробовал себя в историческом жанре, портрете, пейзаже. Григорий Григорьевич был убеждён – изображение природы обязательно должно отражать личный взгляд живописца, что совпадало с утверждавшимися тогда среди художников представлениями. Пейзажем Мясоедов увлёкся не в последнюю очередь благодаря регулярным посещениям утопающей в солнце Ялты. К 12-й Передвижной выставке 1884 года художник подготовил целую серию крымских пейзажей, положив начало традиции ежегодно экспонировать свои картины с видами природы.
В 1881 году в жизни Мясоедова произошли значительные события. Во-первых, он создал одно из лучших своих произведений – «Дорогу во ржи». Картина была представлена на 9-й Передвижной выставке. А во-вторых, новая подруга живописца, молодая художница Ксения Васильевна Иванова, родила ему сына Ивана. Этот, не освещённый церковью брак, в котором изначально поселилась напряжённая недосказанность, протекал необычно, болезненно. Тем не менее спустя некоторое время после рождения Вани семья пополнилась дочерью Еленой. Девочка, правда, вскоре умерла. Трудно сказать, в чём состояла причина, мягко говоря, странных семейных отношений. Их точно трудно назвать счастливыми, поскольку отец семейства, усыновив собственное дитя, запретил Ксении Васильевне выражать материнские чувства, и Ваня долгие годы не видел в живущей с ним рядом женщине родного человека.
Появление ребёнка и отстранённое положение его матери значительно осложнило существование Мясоедова, не привыкшего к долгому пребыванию дома. И когда художнику, вконец утомлённому бытовой неустроенностью и необходимостью всюду «таскать» с собой малолетнего сына, потребовалась передышка, он обратился к своему многодетному другу-живописцу Александру Александровичу Киселёву с просьбой временно принять Ваню в свою дружную семью. Мясоедов даже растроганно прослезился, когда жена Киселёва «после долгих колебаний согласилась помочь ему».
Примерно в то же время, а именно в 1884 году, Илья Ефимович Репин работал над своим будущим шедевром «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Обратимся к воспоминаниям Мясоедова: «…однажды, когда мы мирно беседовали с Репиным на разные темы и, между прочим, о его новой картине, он вдруг говорит мне “Дон Грегорио – так многие называли меня с лёгкой руки Николая Николаевича Ге, – а не согласитесь ли вы немного попозировать мне для Ивана Грозного? Я сделал бы с вашего лица несколько этюдов, по которым уже мог бы писать и самого царя”… “Да ну, уж и нашли натуру”, – огрызнулся я. “Нет, кроме шуток”… И он объяснил мне, что, по его наблюдениям, моё лицо как нельзя больше подходит для этой цели…
Я пытался, было, отнекиваться… Но не тут-то было: пристал как с ножом к горлу. А я его знал: ежели, уж пристанет, то не отстанет нипочём. К своей цели стремился упорно, напролом, пока не достигнет своего. Так было и теперь. Пришлось сдаться, но в конечном итоге я сделал это охотно и даже с удовольствием. И вот я начал позировать. Ну, знаете, измучил же он меня во время этих сеансов. <…> Раз десять, а то и больше он писал меня с разными поворотами головы, при разнообразном освещении. На различном фоне, заставлял подолгу оставаться без движения в самых неудобных позах и на диване, и на полу, ерошил мне волосы, красил лицо киноварью, имитируя пятна крови, муштровал в выражении лица, принуждая делать, как он говорил, “сумасшедшие глаза”».
А тем временем малолетний Ваня своим упрямым нежеланием подчиняться слову «нельзя», частенько сопровождавшимся «нудным продолжительным рёвом», то и дело ставил Киселёвых в тупик. Все испробованные воспитательные методы к желаемому результату не приводили, и когда во время званого обеда в доме Киселёвых Ваня вытер свой мокрый нос о рукав сюртука Николая Егоровича Маковского, терпение хозяйки лопнуло, и она, посчитав мальчишку безнадёжным в плане восприятия хороших манер, попросила Мясоедова забрать ребёнка. В ответном письме Григорий Григорьевич сообщил, что подыскал для Вани пансион, где сын сможет оставаться до достижения им школьного возраста, после чего отец планировал устроить мальчика в какое-нибудь закрытое учебное заведение.
Пансион в жизни младшего Мясоедова, вероятно, состоялся. Известно только, что в десятилетнем возрасте Ваня стал воспитанником реального училища. В 1889 году у семьи появился свой дом. Близ дремотной живописной Полтавы Григорий Григорьевич приобрёл усадьбу Павленки – большой участок с притаившимся в глубине двора старым деревянным домом. С одной стороны к нему примыкал балкон с колоннами, а с другой – возвышался мезонин, в котором художник хранил свои живописные произведения. В самой большой из семи-восьми комнат павленковского дома царил большой концертный рояль, при нём располагались нотная библиотека и этажерка с отдыхавшими на её полках струнными инструментами. Жилую постройку со всех сторон обступал великолепный сад, где щедрые на урожай фруктовые деревья мирно соседствовали со старыми дубами и плакучими ивами. Между ними где-то там, в глубине сада, стыдливо прятался заросший пруд. Григорий Григорьевич очень любил писать этот поэтический уголок своих владений, не позволяя очищать покрытую ряской водную гладь пруда для сохранения первозданности этого милого закутка природы. Тёплыми летними вечерами благоухающий сад вливал в открытые окна мясоедовского гнезда пряный запах причудливо смешанных цветочных ароматов, а из освещённых недр дома ответной благодарностью неслись чарующие звуки музыки. В трудные моменты внутреннего разлада только они приносили художнику успокоение. «Музыка одна не лжёт, как лгут люди», – любил повторять Мясоедов.
Между тем в Товариществе передвижных художественных выставок нарастали серьёзные противоречия. Назревшая реформа превратила правление Товарищества в Совет, в составе которого снова значился Мясоедов. А в 1893 году Григорий Григорьевич вместе с некоторыми передвижниками стал действительным членом тоже не избежавшей преобразования Академии художеств. Разгорелись нешуточные страсти, такой поступок вызывал активное осуждение со стороны тех, кто считал принцип несовместимости Товарищества и академии непоколебимым, почти что священным. Ревностные блюстители первозданной чистоты идеалов Товарищества высказывались столь же категорично и эмоционально, как это сделал Владимир Васильевич Стасов: «…от прежней знаменитой и могучей этой компании не осталось и следа, не осталось ни единого камня на камне. Все они, как единое стадо, так и сунулись в раскрытую мышеловку, на разные кусочки развешанного сала; они собственными руками надели на шею хомуты и капканы и превратились из свободных людей и художников во всепокорнейших академистов и придворных!..» В пылу обвинений великий критик не учёл только один очень существенный позитивный момент порицаемого им сближения – широкую перспективу пропаганды идей передвижничества среди учащейся молодёжи. Мясоедов эту возможность оценил. Он вообще болел душой за состояние художественного образования в провинции. Григорий Григорьевич активно участвовал в деле усовершенствования художественной педагогической практики в Харькове, Киеве, Одессе и даже исходатайствовал выделение средств для постройки нового здания Казанской художественной школы. А в Полтаве на собственные средства, сняв квартиру «большую и дорогую», Мясоедов организовал для всех желающих рисовальные классы. Удивительно, но этот резкий, нетерпимый человек обладал большим запасом сопереживания.
В 1899 году туберкулёз свёл в могилу 39-летнюю Ксению Васильевну. Григорий Григорьевич переживал утрату тяжело и в приступе скорби поведал сыну об истинных узах, связывавших Ваню с почившей. Само собой разумеется, что раскрывшийся секрет семейной драмы отразился на Иване Мясоедове не лучшим образом, и его от природы трудный характер разросся с годами до необузданной своенравности.
Григорий Мясоедов дал жизнь человеку, безусловно, неординарному. Ваня рано проявил блестящие художественные способности, которые, как поговаривали, превосходили отцовский талант. Став поначалу питомцем открытой отцом в Полтаве частной художественной школы, младший Мясоедов поступил затем в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Каникулярное время Иван проводил в родительском доме. На территории павленковской усадьбы он обустроил себе отдельное жильё. В уединённом флигеле, расположенном на почтительном расстоянии от главного дома, Иван Григорьевич размышляет о жизни и занимается творчеством, «у него постоянно торчат молодые люди, его рабы и наперсники, которых он угнетает своим величием и абсолютностью своих приговоров». Чуть ли не сызмальства восстав против обывательской скуки, Ваня превратился в неуправляемого оригинала. Его внутренняя свобода доходила до шокирующей раскованности. В советах отца молодой художник нуждался мало, неохотно снисходя до общения с родителем и его знакомыми. Не способствовали сближению отца и сына и их разные художественные предпочтения. В живописи Иван Мясоедов тяготел к академической классике, в то время как Григорий Григорьевич был убеждённым реалистом. Учёба в Академии художеств погрузила младшего Мясоедова в стихию античности, он пленился культом красоты человеческого тела. Упорными тренировками Иван и себя довёл до физического совершенства. Красовался нагишом, выступал с силовыми упражнениями в цирке. Принять столь эпатажное сыновнее поведение Григорию Григорьевичу, разумеется, было трудно, но он, всегда выражавший свою позицию с запредельной правдивостью, в жизнь наследника предпочитал не вмешиваться.
Прежняя горячая приверженность Мясоедова к прогрессивным тенденциям в искусстве, не поспевая за временем, превратилась в непреклонный консерватизм. Подстраиваться, корректируя свои ранние представления, у художника получалось плохо, вернее, не получалось совсем. «Непригоже нам, – считал Григорий Григорьевич, – идя в Иерусалим, заходить в кабачок, тонуть в этом новом искусстве. Лучше вариться в собственном соку». Но почва, на которой живописец уверенно стоял столько лет, стала вздыбливаться, сотрясаться, пытаясь сбить с ног Мясоедова и таких же ретроградов из старой гвардии передвижников. Григорий Григорьевич принципиальничал, отстаивал, защищался, но свежие веяния в искусстве оказались упрямее и сильнее. В 1900 году в ответ на очередную попытку «стариков» преградить путь новым тенденциям в искусстве Товарищество покинули семь молодых художников во главе с Валентином Александровичем Серовым. Состоялось эмоциональное заседание Совета, на котором Репин потребовал роспуска ТПХВ. Это решение было практически всеми поддержано, но Григорий Григорьевич продолжал настаивать на сохранении традиций передвижничества в первозданном виде и в результате остался единственным членом покинутого художниками Совета ТПХВ.
Несговорчивость старого передвижника стала вызывать раздражение даже в Академии художеств. От мясоедовских «особых мнений» отмахивались, как от назойливой мухи, запрятывая их в долгий ящик. «Мне остаётся только отойти в сторону, чтобы избавить себя от ответственности за неисполнение свободно принятых на себя обязанностей», – уязвлённо прокомментировал художник пренебрежительное отношение к своим предложениям. В 1902 году Григорий Григорьевич вышел из состава действительных членов Академии художеств.
Теперь раздосадованный, разочарованный Мясоедов не часто появлялся в обществе. Пожалуй, только музыкальный повод приводил его в круг старых друзей. Вечерами на Васильевском острове можно было встретить бредущего по тротуару высокого старика «с умным лицом, длинным и немного искривлённым набок носом, с сухой, саркастической улыбкой тонких губ, прищуренными глазами». Его походка была несколько неестественна. «Это означало, что он шел играть в квартете и нес альт, который висел у него под шубой на животе, привязанный ленточкой через шею».
Строгость мясоедовской позиции в вопросах искусства находила всё меньше поддержки, и Григорий Григорьевич принял решение отойти от столичной, бурлящей новыми настроениями художественной жизни, которой он уже ничего не мог предложить. В знакомой художнику московской семье Васильевых он приметил незамужнюю 35-летнюю Татьяну Борисовну и предложил ей стать помощницей в своих хозяйственно-бытовых делах. Татьяна Васильева последовала за живописцем в Ялту, а потом поселилась в его павленковской усадьбе. Это была молчаливая женщина, старавшаяся лишний раз не попадаться на глаза гостям хозяина дома. Черты её невзрачного бледного лица не оставляло выражение встревоженной заботы. Заметная скованность Татьяны Борисовны в общении с редкими визитёрами дома Мясоедова проистекала, вероятно, от неопределённости её положения рядом с живописцем. Сам Григорий Григорьевич не утруждал себя пояснениями на сей счёт. Как бы то ни было, но Васильева оставалась рядом с Мясоедовым до самой его кончины.
Во время учёбы Вани в Академии художеств Григорий Григорьевич предпринял попытку напомнить о себе. Он взялся за большое полотно, и академия даже предоставила именитому мастеру необходимую для работы квартиру в Петербурге. Для своей очередной картины художник выбрал тему, никак не связанную с гнетущей реальностью: «Пушкин и его друзья слушают Мицкевича в салоне княгини Зинаиды Волконской». Слабое одобрение, высказанное старыми друзьями художника, смыла волна «равнодушия и недоброжелательства» подавляющего большинства мнений. «…такая кругом царит чушь», – растерянно сетовал художник, огорчаясь, что сотворённое им полотно оказалось «ненужно и чуждо».
В последние годы жизни Григорий Григорьевич практически не отлучался из Павленок. Он был уже стар и болен. После яркой, многоликой и многоголосой жизни наступило тягостное состояние оторванности от всего, в чём когда-то виделся смысл и что было дорого. Григорий Григорьевич старался работать, чтобы не сойти с ума от обступившего его со всех сторон одиночества, и, точь-в-точь как персонаж одной из его последних картин, коротал время за игрой в шахматы с самим с собой. В полтавском уединении Мясоедов трудится над этюдами, произведениями жанрового и полужанрового характера, повторяет свои прежние удачные работы, такие как «Страда», «Искушение». Для городского театра он безвозмездно пишет занавес.
В 1908 году Григорий Григорьевич покинул ТПХВ, но продолжал присылать свои произведения на передвижные выставки уже как экспонент. Но однажды Товарищество само явилось в его полтавское уединение, отчего пригорюнившееся сердце художника радостно встрепенулось, и когда выяснилось, что передвижной выставке негде в Полтаве разместиться, Мясоедов принялся хлопотать. Помещение сыскалось, выставка состоялась. Когда же всё закончилось и стихло, забытые на время недомогания овладели Григорием Григорьевичем с новой силой.
Для поправки здоровья художник в сопровождении Татьяны Борисовны предпринял поездку на Адриатику. А потом снова потянулась череда однообразных дней в безмолвном, оцепеневшем от тоски доме. «Вечером так тихо, как будто жизнь остановилась, догадавшись, что продолжать глупо», – горько иронизировал художник. Грусть одиночества одолела даже несгибаемую прежде прямолинейность живописца. Мясоедов жаловался: «Иногда хотел бы говорить, и всё как-то не говорится. Очень давно как-то забыл правду простую и привык ходить около правды…» Только общение с природой дарит художнику утешение. Шум листвы, пение птиц, пышное цветение, роскошный плодоносящий сад поддерживали остаток сил и побуждали к философским итоговым размышлениям: «На старости лет человек начинает подыматься от земных радостей и всё видеть с птичьего полёта, и глаз видит только издалека, и ухо не терпит треска пустой болтовни, и голова отказывается понимать глупое, личное, мелкое, и начинаешь в этой суете видеть ясно, как много глупых усилий делается для целей, ни к чему не ведущих…»
Осенью 1910 года Мясоедов снова лечился на заграничном курорте. Ожидаемого улучшения не произошло, напротив, то ли простуда, то ли усталость, то ли слабость сердца подкосили художника, и он «кое-как доехал домой». Григорий Григорьевич тяжело болеет, едва держится на ногах и всем своим иссякающим существом тянется к животворной гармонии музыкальных созвучий. Вспоминали, что, «находясь уже почти без сознания, он просил играть ему на рояле».
Когда состояние здоровья художника «быстро покатило под гору», Иван Мясоедов готовился в Петербурге к конкурсу на третью заграничную поездку. Григорий Григорьевич, почувствовав, что дни его сочтены, распорядился отправить наследнику телеграмму: «Если хочешь, приезжай повидаться». Сын откликнулся на зов отца, прибыл в Павленки и провёл у постели умирающего все его последние дни и ночи, невозмутимо зарисовывая агонизирующий профиль. Рука Ивана Григорьевича хладнокровно фиксировала трагический процесс угасания человеческой жизни, а в сыновнем сознании тем временем великодушное прощение одерживало победу над детскими обидами.
Григорий Григорьевич Мясоедов завещал предать своё тело земле без всяких религиозных обрядов на территории ставшей ему родной павленковской усадьбы. Но поскольку разрешительный на сей счёт документ был получен с опозданием, похороны умершего 17 декабря 1911 года художника состоялись, как и полагается, на кладбище. Спустя несколько дней Иван Григорьевич перезахоронил прах отца на указанном им ещё при жизни месте. На своём надгробии Мясоедов просил начертать:
«Царство Божие внутри нас».


