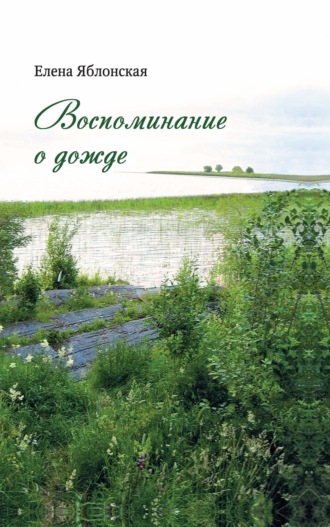
Елена Яблонская
Воспоминание о дожде
Три притчи
I. Вадим Сергеевич и Оля
Поначалу их связывала небольшая научная работа. Вадим Сергеевич заведовал лабораторией, а Оля была аспиранткой, но не у Вадима Сергеевича, а в другой лаборатории, в соседней. Но и когда их совместная работа была закончена, Вадим Сергеевич продолжал к ним заглядывать, доброжелательно дискутировал с Олиным шефом, обязательно спрашивал Олино мнение, чем вызывал краску на её миловидном круглом личике, иногда давал дельные советы, в общем, можно сказать, они дружили. Несколько раз, увлёкшись обсуждением научных проблем, Вадим Сергеевич провожал Олю до общежития.
Тридцатисемилетний Вадим Сергеевич с отличной фигурой и низким, бархатным, прямо-таки чарующим голосом очень нравился институтским дамам. Оля краснела и хмурилась, когда при ней сплетничали о том, что Вадим с женой давно не живёт, собирается разводиться, «можно считать, что он в разводе». Правда, так считается уже несколько лет, да что-то воз и ныне там. «Это ничего не значит, – думала Оля, – то есть, наоборот, если ему так трудно даётся разрыв с женой, это и значит, что он хороший и серьёзный человек, и…» Когда Олины размышления доходили до этого последнего «и», она снова краснела и даже оглядывалась, как будто кто-то мог подслушать её мысли.
В тот вечер Оля дождалась, пока шеф уйдёт, и пошла в лабораторию к Вадиму Сергеевичу, захватив новый журнал со статьёй по интересующей его тематике. Статья была предлогом, наверняка Вадим Сергеевич её уже читал.
Просто Оля очень по нему соскучилась – они не виделись почти неделю, с прошлого четверга.
Стучать в дверь в физических лабораториях не принято – всё равно за стуком и жужжанием приборов никто ничего не услышит. Оля вошла и остановилась в недоумении. За установкой, спиной к двери сидели Вадим Сергеевич и Таня, его аспирантка, умненькая, добрая, но ужасно некрасивая, худая и сутулая девочка с вечно испуганным выражением прыщавой треугольной мордочки. Вадим Сергеевич что-то ей объяснял. Но обладатель отвратительного, скрипучего голоса, в котором отчётливо звучало оскорбительное презрение и отвращение к некрасивой Тане, не мог быть Вадимом Сергеевичем!
«Будто железом по стеклу», – промелькнуло в ошеломлённой Олиной голове. Следующей, уже сознательной мыслью было: «Но так даже с собакой нельзя обращаться!» Вадим Сергеевич очень любил свою собаку, молодую мускулистую догиню с прекрасной родословной, и много о ней рассказывал.
– О-о-о! Оленька! Вот сюрприз! – обернулся Вадим Сергеевич. – А я сегодня целый день о вас думаю. Статья? Отлично, обсудим, но только за чаем. Специально для вас шоколадку припас. Непременно, непременно надо попить чайку, Оленька, я настаиваю. Что-то вы бледненькая сегодня. Устали?
Нежный, вкрадчивый голос Вадима Сергеевича так и переливался колдовскими шелками, обволакивал тёплыми мягкими бархатами, завораживал, усыплял, очаровывал. Таня за установкой ещё больше ссутулилась и втянула голову в плечи.
– Спасибо, извините, меня шеф ждёт, – соврала Оля, отчаянно покраснев.
Положила журнал на стол, пятясь, вышла из комнаты и тихо прикрыла дверь.
– Ну, что там ещё у тебя? – донёсся из-за двери неприятно резкий голос с брезгливыми интонациями.
Больше Оля не приходила к Вадиму Сергеевичу, а если встречала его в коридоре, то старалась незаметно прошмыгнуть мимо. А ещё через год она вышла замуж за нескладного долговязого инженера из отдела охраны окружающей среды. Институтские дамы говорили, что хорошенькая Оля могла бы найти себе более перспективного мужа.
II. Александр Иванович и Зина
Зина уговорила подругу Зойку пойти с ней на выставку. Фамилия художника им ничего не говорила, но надо же иногда выбираться в свет: «А то, кроме работы, ничего не видим, хоть картины посмотрим».
Вошли в зал и ахнули. Не только не слишком искушённым в живописи Зине и Зойке, но и самому взыскательному искусствоведу с первого взгляда было бы ясно, что это настоящий мастер и его полотнам место в Третьяковке. Автор, заслуженный художник России, старик с белой, как у Деда Мороза, бородой, бродил тут же. Оказалось, у него сегодня день рождения – семьдесят пять лет. Но почему презентация его юбилейной выставки проходит не в Москве, в Центральном доме художника, например, а в довольно обшарпанном клубе их маленького научного городка?
Вскоре всё объяснилось. Не дав публике вдоволь налюбоваться картинами, показали документальный фильм под названием «Меценат», в котором виновник торжества промелькнул на фоне одной из своих картин в течение двух секунд. Фильм был посвящён не юбиляру, а Александру Ивановичу. До перестройки Александр Иванович трудился в ранге старшего научного сотрудника в том же институте, где когда-то работала Зина, и именно в том отделе, в котором Зойка, по её собственным словам, до сих пор «горбатится за копейки». В перестройку Александр Иванович сумел как-то очень умно воспользоваться институтскими ресурсами и основал собственную научную фирму, став олигархом местного значения. А теперь вот, оказывается, меценатствует, опекает малоизвестных художников и даже организовал издательство, которое выпускает альбомы живописцев, находящихся под его, Александра Ивановича, патронатом.
После фильма гостей пригласили на фуршет.
– И ты собираешься идти? – зашипела Зойка. – К этому мошеннику, который мало того, что обобрал целый институт, но даже меня, нищую лаборантку, умудрился ограбить. Я ему столько анализов забесплатно переделала, всё обещал включить в какие-то гранты, но так ни копейки и не заплатил. Не могу видеть эту лоснящуюся рожу!
– Я не к нему, а к художнику. А вы с институтом могли бы и не позволять себя грабить. Читали же: «все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путём».
Зойка забралась в самый дальний угол фуршетного зала. Зина набрала полную тарелку закусок.
– Знаешь, а я ведь никогда раньше не ела чёрной икры, – шепнула размякшая Зойка, – красную один раз пробовала, а вот чёрную не приходилось.
– Ну и как? Нравится?
– А то!
– Видишь, а ты идти не хотела. Кстати, меня твой Александр Иванович тоже ограбил, причём три раза. Так что мы сейчас своё едим.
– Тебя?! Каким образом? Вы ведь вроде даже знакомы не были?
– Были, но шапочно, как все в институте. У него уже фирма была, и кто-то сказал ему, что я теперь переводами занимаюсь. Встретил меня на улице, предложил перевести для их фирмы заявку, обещал заплатить намного больше, чем в журнале. Ну, я согласилась, ты же помнишь, как мы тогда бедствовали.
– А он?
– Он сказал, что мой гонорар надо провести через бухгалтерию, он уже подписал ведомость, а сам уезжает в командировку. А его сотрудники заявили, что знать ничего не знают. Я полгода к ним ходила, Александр Иванович то на совещании, то в командировке, бухгалтерша мне уже хамить начала…
– А второй раз?
– Года через полтора мне позвонила одна особа, представилась заведующей отделом переводов в его фирме. «Ах, вас рекомендовал сам Александр Иванович, он вас так хвалил, так хвалил…» И попросила перевести довольно большой текст, страниц двадцать. Я, конечно, рассказала про первый случай. «Ну что вы, это какое-то недоразумение, видите ли, тогда у нас не было службы переводов, а сейчас всё официально, под моим личным контролем…» В общем, распиналась не знаю как. Дамочка из тех, что всё равно не отстанет. Договорились о цене. Перевела. Где гонорар? «Как, – говорит, – разве мы вас не предупредили? Это был контрольный перевод, бесплатный. Но вы блестяще с ним справились и в следующий раз…» – «Какой ещё следующий раз?! Во-первых, никто меня не предупреждал, мы же лично с вами о цене за страницу говорили. Но даже если бы предупредили, где вы видели контрольный перевод на двадцать страниц? Одна страница, ну, две от силы…»
– И что же? – спросила Зойка. – После этого был ещё третий раз?
– Нет, в третий раз я не переводила, – нахмурилась Зина, припоминая. – Но какой-то ущерб точно был. А, вспомнила! Эта же мадам позвонила мне примерно через год. Сказала, что они горят, что если через две недели не представят спонсорам отчёт, то фирме грозит банкротство. «Да, – говорит, – кажется, мы перед вами немного виноваты, но Александр Иванович распорядился сполна заплатить вам и за тот, контрольный перевод, и за какой-то перевод, который вы делали для него три года назад в частном порядке. Видите, он всё помнит! Но мы сможем с вами расплатиться, только если вы поможете нам с этим отчётом, мы горим, понимаете, горим, спасайте!»
– И ты?
– Я решила, что Бог троицу любит. Но сказала, что не начну переводить, пока не выплатят авансом хотя бы половину от стоимости третьего перевода. «Да! – кричит. – Да! Александр Иванович согласен на все ваши условия, но отчёт будет готов не раньше чем через неделю. Вам придётся перевести пятьдесят страниц за два-три дня. Прошу вас, высвободите для этого время, откажитесь от других переводов, возьмите отпуск!» Я так и сделала, отказывалась от любой, даже очень выгодной работы. Через неделю начала им звонить. «Нет, – говорят, – отчёт ещё не готов. Позвоните завтра». А дней через десять эта дамочка сухо сказала: «Извините за беспокойство, мы справились своими силами».
– Да, – прочувствованно сказала Зойка. – Пожалуй, это стоит моих анализов. Посмотри, там икры не осталось? Нет, конечно! Тогда пошли отсюда.
– Подожди, я хочу купить альбом этого художника.
– Продолжаешь поддерживать бизнес Александра Ивановича?
– При чём тут его бизнес? Просто художник замечательный. Этот альбом я папе подарю, читать ему уже трудно, пусть смотрит иллюстрации, ему понравится, я уверена. А главное, я скажу папе, что в этот альбом, а частично и в картины вложен мой труд. В размере трёх переводов.
III. Михаил Петрович и Наденька
Ирина Владимировна сидела на конференции в музее Чехова и с интересом прислушивалась к докладам. Она была не литературоведом, а доцентом архитектурного института и на эту конференцию попала по приглашению знакомой критикессы. Ирину Владимировну попросили рассказать о дружбе Чехова с архитектором Шехтелем.
Почти все доклады нравились Ирине Владимировне, но читали их исключительно пожилые или совсем старые литературные дамы с хмурыми, сердитыми лицами. И одеты они были, будто в униформу, в нечто линяло-серое, «немаркое», как когда-то говаривала бабушка Ирины Владимировны. Да и погода не радовала: конец февраля, за окном обрыдлая московская слякоть. Солнце робко пыталось выглянуть из-за туч и сразу пряталось, словно испугавшись собственной дерзости. Антон Павлович как всегда грустно смотрел со своего большого портрета на стене. «Это неудивительно, – думала Ирина Владимировна, – профессии музейщиков и литературоведов становятся, к сожалению, анахронизмом. Молодых сюда не заманишь. Сколько же они получают, бедные? Наверное, всем приходится где-то подрабатывать, преподавать…»
Вдруг на кафедру впорхнула девушка в алой шёлковой блузке и заговорила о чеховской драматургии с таким воодушевлением, что все невольно заулыбались. «Оказывается, молодёжь всё-таки идёт в чеховедение, – обрадовалась Ирина Владимировна. – Ведь ей лет двадцать пять, не больше. Да ещё такая красавица! И какой вкус – любой нашей так называемой “стильной” дизайнерше сто очков вперёд даст. Только на что она живёт? Наверное, родители помогают».
«Надежда Савельева», – прочитала Ирина Владимировна в программе. Кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник театроведческого института. «Надо же, такие институты ещё сохранились, – удивилась Ирина Владимировна. – А этой Савельевой, пожалуй, все тридцать, а то и тридцать пять. Ну конечно, вон и обручальное кольцо на пальце. Значит, муж богатый и может позволить супруге заниматься театроведением. Что ж, слава Богу!»
Когда Надежда Савельева стала отвечать на вопросы, Ирина Владимировна уже не сомневалась, что они ровесницы – сорок пять, никак не меньше. Но до чего же великолепно женщина выглядит! Вот пример для подражания, а то мы всё ноем и ноем. Ах да, легко сказать, ведь не у каждой богатый муж!
В перерыве Ирина Владимировна спросила у своей знакомой о Надежде Савельевой. Оказалось, что Наденьке, как её называла приятельница Ирины Владимировны, недавно исполнилось пятьдесят пять лет, она сейчас оформляет пенсию. Наденька никогда не была замужем, всю жизнь жила с мамой и только полтора месяца назад вышла замуж за одного профессора, старше её на двадцать лет. Познакомились совершенно случайно тоже на какой-то конференции, но он не чеховед, а филолог-лингвист. Теперь не расстаются, она ходит с ним на его конференции, а он, если не занят в университете, на её…
Последние слова знакомая произносила, понизив голос: к ним подходила Наденька.
– Мне чрезвычайно понравился ваш доклад, – доверительно сказала Наденька Ирине Владимировне, – очень, очень интересно, и даже мой муж его отметил. Мишуня, иди к нам! Позвольте представить, мой муж Михаил Петрович Савельев.
Михаил Петрович оказался обрюзгшим коротконогим стариком с редкими космами желтовато-седых волос, неопрятно лежавшими на воротнике нового, модного, но неловко сидящего костюма. Его внешность можно было бы назвать неприятной и даже отталкивающей, если бы не умный, добрый и внимательный взгляд.
– Вы знаете, мой муж гений! – вдохновенно продолжала Наденька. – Поверьте, я говорю не как жена, а как читатель, вы со мной согласитесь, когда прочитаете Мишину книгу…
Было очевидно, что Михаил Петрович не считает себя гением, но он не возражал и смотрел на жену с нежностью. – Михаил Петрович, дорогой! Наденька, красавица вы моя! Наслышан, наслышан, поздравляю! – подошёл директор музея.
– Извините, мы с вами ещё обязательно поговорим, – шепнула Наденька Ирине Владимировне и обратилась к директору с теми же тёплыми доверительными интонациями:
– Спасибо, Юрий Александрович. Вы знаете, Михаил Петрович написал гениальную книгу, университет выделил деньги в связи с Мишиным юбилеем, на днях ждём тираж, книга гениальная, просто гениальная!
– Михаил Петрович занимается структурной лингвистикой, – тихо рассказывала Ирине Владимировне знакомая, – его гениальную книгу, кроме Наденьки и двух-трёх специалистов, и читать-то никто не будет. Разумеется, он далеко не гений, но всё же человек неглупый, а главное, порядочный. Его жена умерла пять лет назад, дети взрослые, внуки… Наденька их обожает, хвастает всем, что она бабушка…
– Ах, вы знаете, – звенел счастьем Наденькин голосок, теперь она беседовала с двумя старыми критикессами, – наша младшая внучка Машенька необыкновенно талантливая девочка, одиннадцать лет, а пишет совершенно гениальные стихи, и она так похожа на Мишу!
– Как странно и приятно видеть в наше время счастливого человека, – вздохнула похожая на засушенную ящерицу пожилая дама с уныло опущенными уголками губ.
– Это вы Антона Павловича цитируете? – ввернул директор музея. – «В наше время даже как-то странно видеть счастливого человека… Скорей белого слона увидишь». Рассказ «Счастливчик», помните?
– Да, – нехотя пробормотала засушенная дама, но уголки её губ всё-таки чуть-чуть приподнялись.
Чеховеды с удовольствием подходили к Наденьке, улыбаясь, поздравляли с законным браком, с выходом гениальной книги и семидесятипятилетним юбилеем Михаила Петровича. Солнце уже уверенно и вполне по-весеннему светило в окна чеховского дома, а сам Антон Павлович серьёзно и ласково смотрел на собравшихся сквозь пенсне и тоже, казалось, улыбался.
Завистливая деревня
И всё равно под небом низким
Я вижу явственно, до слёз,
И жёлтый плёс, и голос близкий,
И шум порывистых берёз…
Н. Рубцов
Володя пригласил меня на дачу в деревню.
– У тебя ещё и дача есть? – поразилась я. – Куда тебе? Ты же со своим домом не справляешься!
Володя не понял моего удивления. Он серьёзный человек, мой друг, с уже, по-видимому, необратимыми холостяцкими привычками. Володе за пятьдесят, был когда-то женат, развёлся, детей нет, но с бывшей женой по-прежнему дружен и усердно помогает её маме:
– Ты знаешь, она ведь инвалид… И у неё никого нет, кроме меня. Какая дочь? Бывшая жена? Ну что ты! Люсе некогда, она же занимается бизнесом!
Ох уж эти мне «бизнесвумены»!.. Володя бизнесом не занимается, он инженер на заводе. В общем, хороший человек, серьёзный, ответственный, положительный.
Мы с Володей познакомились полтора года назад на какой-то лекции или на презентации книги, журнала, не помню. Он мне тогда очень понравился – высокий, худощавый, с седой чеховской бородкой, голова тоже вся белая. Это хорошо, что он седой, а не лысый. Впрочем, был бы человек хороший. И ещё говорят: «С лица воды не пить». Я ему, наверное, тоже понравилась, потому что в ответ на моё «Очень приятно» Володя сказал: «А мне-то как приятно!» Правда, прозвучало это саркастически, вроде как: «Вот опять зачем-то ввязываюсь в историю…»
Однако, несмотря на мрачные предчувствия, он решительно пригласил меня переночевать у него в Серебрянке (я, как обычно, опаздывала на последний автобус к себе в Курослеповку):
– Места много: три комнаты, кухня большая, на кухне диван… Двадцать минут электричкой с Ярославского вокзала… Поехали!
Тогда я отказалась, сочтя неприличным ехать ночевать к одинокому мужчине в первый же день знакомства. Даже в нашем почтенном возрасте. Я хоть и моложе Володи на десять лет, но что-то и не припомню, когда на меня в последний раз снисходил кураж, могущий быть полезным в подобных случаях. А вдруг Володя вообразит себе невесть что, хоть и буркнул, приглашая:
– Да ладно, я же не собираюсь ничего такого…
Вот и хорошо, что не собираешься. Обязательно приеду. Как-нибудь в другой раз.
«Другой раз» случился примерно через год. Как и в день знакомства, просидели допоздна на лекции в Институте философии. А вообще-то встречались мы часто, почти каждую неделю, на разных литературно-философских мероприятиях. Ну и перезванивались, книгами обменивались.
– Ты что же, не читала Панарина? – возмущался Володя. – Ну, темнота! Я тебе привезу…
Но не привёз, зато долго и обстоятельно объяснял, что все книги у него на чердаке, а чердак два года назад горел. Нет, Панарин точно не пострадал, но, должно быть, весь в копоти и, в общем, Володя его, Панарина, пока не нашёл. Потом как-нибудь. Сам Володя был очень жадным до книг:
– А это у тебя что? У-у! Дай почитать.
Но взятые книги он обыкновенно «зачитывал», то есть начинал читать, бросал, забывал, хватался за что-нибудь другое, и свои и чужие книги валялись у него на погорелом чердаке, в трёх комнатах, на кухне, в прихожей…
Справедливости ради замечу, что, по крайней мере, одну книгу Володя всё-таки вернул после многократных напоминаний. Эта книга была мне необходима для написания новой повести, в которой я отчасти изобразила и Володю, нарочно в самом конце, чтобы заставить его прочитать всё. Но тщетно! Похоже, Володя не добрался и до середины – отвлёкся, как всегда, на новую информацию:
– А статью Кургиняна в последнем номере «Завтра» ты читала? Позор! Газету-то хоть купила? Читай немедленно!
Тогда-то, через год после нашей первой встречи, я поехала к Володе в его Серебрянку ради давно обещанного Панарина и чтобы отобрать наконец свои книги. Увы и ах! Чердак с Панариным был заперт до весны, лезть туда Володе недосуг, а многочисленные книги и газеты валялись на полу, столах, диванах, подоконниках вперемешку с разнообразным домашним скарбом. Рыться во всём этом не представлялось возможным. Володя, впрочем, очень гордился своим обиталищем и находил в нём особый, невидимый постороннему, тем более субъективному женскому, глазу строй и порядок.
Две комнаты в этой самой трёхкомнатной квартире, занимающей половину деревянного одноэтажного дома, получил перед самой войной Володин отец. И отец, и мама Володи в тридцатые годы приехали из смоленской деревни в Серебрянку работать на местной фабрике.
– А почему же всюду пишут и говорят, что до семидесятых годов колхозники были, как крепостные, без паспортов и их никуда не выпускали?
– Что значит «не выпускали»? Ты думай хоть немного, а не повторяй глупости. Прописки в деревнях действительно не было. Зачем она в деревне-то, если каждый в родительском доме жил и все друг друга знали? Паспорта просто не нужны были, если человек не собирался уезжать дальше районного центра. А молодёжь не только отпускали, но и направляли на учёбу. И работу всем, кто хотел, предлагали – на заводах, на фабриках… А как же! Страну-то надо было поднимать. Ты что, не знаешь? Почти все подмосковные жители приехали из других областей – Тверской, Смоленской, Рязанской, Тульской… А всё Подмосковье теперь в Москве.
– Да, правда, – вспоминаю я. – У нас в Курослеповке тоже так. Мне товарищ рассказывал, Мишка. Сам-то он в Ногинске родился, а его дедушка и бабушка приехали из Владимирской области. Мишкину тётку после педучилища распределили в какую-то страшную глушь, в деревню, казалось, что на другом конце области. Тётка, ей двадцать лет было, плакала, не хотела ехать, но пришлось, конечно. Учительствовала там, замуж вышла, дети родились. Мишка с родителями к ним в гости приезжал. Говорит, там хорошо было, такие пруды большие, утки плавали, гуси… Как вдруг в начале шестидесятых всех переселили в пятиэтажки, прямо на месте тёткиного дома построили автовокзал, метро провели, и оказалось, что вот же она, Москва! Преображенка, Сокольники – всё рядом!
А в Володиной семье сохранилось предание: обосновавшись на новом месте, родители купили корову по объявлению, в Егорьевске. В Егорьевск-то Володин папа добирался с пересадками на каком-то транспорте, а обратно шли с коровой пешком трое суток, почти через половину Московской области, ночевали в полях, на опушках, под добрыми летними небесами… Володя, родившийся в пятидесятом, корову не застал, а старшая сестра Нина запомнила её на всю жизнь: «Кормилица наша!»
Да, вот в этом дворике, где теперь сарай, стоял хлев. А дом-то был тогда двухэтажным, с мезонином, на несколько семей. Две коммуналки на первом этаже и две – на втором.
– А в мезонине тоже кто-то жил?
– Нет, конечно. Там бельё сушили, и мы в детстве любили играть. Одно время голубей заводили, потом ежей поймали, целый выводок… Они по ночам бегали, топотали, всему дому спать мешали. Дядя Сеня, сосед, их как-то в мешок собрал и в лес отнёс. Мы ревели, отцы ремнём грозили… – Володя улыбается, щурится и как будто прислушивается к чему-то очень далёкому. Это он вслушивается, всматривается в своё детство.
Дом много раз ремонтировали, перестраивали, жильцов переселяли в новые дома, второй этаж и мезонин снесли. К двадцать первому веку в старом доме остался только Володя, вернее, вернулся сюда после развода. Да ещё сосед, сын дяди Сени, живёт на второй половине дома со старенькой мамой. Но сосед-то свои полдома в конфетку превратил – всё отделано новенькой, сдобно жёлтеющей глянцевой вагонкой, под окнами цветы, дорожки посыпаны мелким гравием… А на Володиной половине двора – лужи, ямы, серый развалюха-сарай, какие-то ржавые агрегаты валяются, лопаты со сломанными черенками, мокнущие полусгнившие доски, старая собачья будка…
– Что же ты собаку не заведёшь? Или кошку?
– Да я же целый день в Москве на работе, – оправдывается Володя.
– Что, и удобства во дворе? Ну, ты даёшь!
– Это временно, – говорит Володя. – Я уже строю тёплый туалет в доме, на кухне…
– Как на кухне?!
– За перегородкой, естественно.
– А душ?
– Душа пока нет. Построю со временем…
– Слушай, с каким таким временем? Тебе же шестьдесят скоро. Нанял бы молдаван, сам ты будешь строить как раз до пенсии.
– А мне раньше и не надо, – сердится Володя. – Я целый день на работе. По воскресеньям в баню хожу. А пенсии, кстати, у нас никакой не будет. Чай не в Советском Союзе живём! Забыла, что ли?
Нет, я не забыла. Одноклассник мой, большой начальник, генеральный директор строительной компании, и тот говорит: «Меня из кабинета вынесут вперёд ногами». А я и подавно буду переводить, пока не помру. Или не ослепну. Я рассказываю Володе страшную историю, приключившуюся со мной пару лет назад. Допереводилась, как обычно, до рези в глазах. Да и грипп, наверно, начинался. Домой часа три ехала – пробки. Вылезла из маршрутки, побрела… А день был – конец ноября, туманно, сыро, да так промозгло, что кажется – в воздухе вода висит мелким ситечком. В нашем микрорайоне тьма-тьмущая, фонари не горят или горят, но я их почему-то не вижу, только еле-еле мерцают огоньки в некоторых окнах, и как-то в глазах всё расплывается, качается, зыбко так, мглисто… Ну, думаю, допрыгалась с этой работой, ослепла. Добрела до подъезда почти на ощупь, там ребята на подоконнике сидят и свечку жгут… И только тут, у лифта, который не вызывался, я догадалась: во всём районе электричество отключили! Смех и слёзы! Доползла на свой восьмой этаж, вошла в квартиру, сын не приехал ещё, он тоже в Москве работает, кот ко мне бросается, прыгает, радуется, кошки ведь в темноте видят, знаешь? А я брожу в темноте обалдевшая и чуть ли не реву от радости, что прозрела. И в то же время понимаю, что дальше так жить нельзя – каждый день по десять часов за компьютером. А свет в тот раз только через сутки дали, холодильник потёк…
– То ли ещё будет, – грустно говорит Володя, – а ты про какую-то пенсию.
В самом деле, что это я! Володю не исправишь, да и зачем? Человек не для того прожил на свете пятьдесят с лишним лет, учился, трудился, читал, увлекался, разочаровывался, любил и страдал, женился и разводился… Не для того это всё, чтобы некая дамочка, явившаяся ниоткуда, вернее, из своей совсем другой, но столь же прочно устоявшейся жизни, вдруг начала бы учить его, как жить, где строить сортир, как ремонтировать старый дом… Пусть уж сам, как хочет. Слава Богу, Володе от меня тоже ничего не надо, мы просто друзья. То ли он по-прежнему любит свою бизнесменшу Люсю, то ли ему уже вообще никто не нужен? Мне нет до этого дела, только вот сейчас очень раздражает этот электрический чайник, что стоит на краешке стола нелепо прислонённый к холодильнику, того и гляди свалится. Я было попыталась его пододвинуть и разместить поустойчивее, но Володя нервно вернул чайник на прежнее место. И чашки я не туда поставила. Мыть посуду лучше бы и не бралась! Оказывается, я не так мою, а надо – вот этак. И обязательно именно этим моющим средством!
Сегодня я приехала ночевать в Серебрянку, потому что завтра первое мая, и мы рано утром едем к Володе на дачу в Тверскую область.
– Зачем же тебе ещё в деревне дом, если ты здесь ничего не успеваешь? Тут ведь тоже всё как на даче – душа нет, туалет во дворе…
– Ну и что? – не понимает Володя. – Здесь я живу, а в деревне отдыхаю. Правда, добираться далековато, на трёх электричках. Отсюда до Москвы, потом до Твери, потом на третьей электричке – до районного города Лихославля, а там уж до деревни – на автобусе рукой подать, дорога хорошая. Но я обычно езжу не на автобусе, а на велосипеде. – Как?! Тащишь отсюда велосипед по трём электричкам?
– А что? Мне так удобно.
К счастью, завтра мы всё-таки поедем не на велосипеде, а на автобусе, а может быть, даже возьмём машину, потому что на дачу выезжает Володина сестра Нина с котом Рыжиком. Они будут жить там всё лето.
– Так это у вас на двоих с сестрой дом в деревне? Тогда понятно.
Зимой Нина живёт в Выхино, она на пенсии, всю жизнь проработала хирургом. Замужем она никогда не была, наверно, потому, что мама умерла, когда Нине было семнадцать, Володе – семь, а среднему брату Павлику – девять. Отец замкнулся от горя, хорошо хоть, пить не стал. Нет, он больше не женился. А Нина училась в мединституте, вела хозяйство, воспитывала братьев, да ещё успевала в походы ходить с друзьями. И пешком, и на байдарках, в Карелию, на Кавказ, в Сибирь… Да по каким маршрутам сложным! Маленького Володю тоже иногда брали с собой. – Наша Нина – замечательный человек, – рассказывает Володя, – вот завтра познакомитесь.
– А Павлик?
Павлик, как и Володя, инженер, у него семья, дочка, сын, год назад внук родился. Всё хорошо.
Завтра Нина будет ждать нас в семь утра на Ленинградском вокзале. Позже нельзя – расписание электричек таково, что если не выехать из Москвы на «семь-десять», то следующую электричку в Твери придётся ждать два с половиной часа. Хорошо хоть, нам на метро ехать не надо – с Ярославского вокзала перейдём на Ленинградский. Но из дома надо выйти в шесть часов!
– Тогда давай спать!
Я укладываюсь на диване на кухне. А Володя вместо того, чтобы ложиться спать, долго сидит (или лежит?) в своей комнате перед орущим во всю мочь телевизором. Видно, так привык. Мне этот ор слышен через две комнаты и прихожую – дверей у Володи нет, в межкомнатных дверных проёмах болтаются оборванные занавесочки. Два часа ночи, но я не решаюсь попросить Володю приглушить звук – если человек сам не понимает, то бесполезно. Ничего, потерплю, я же гостья. Начинаю засыпать. Внезапно слышен резкий трезвон мобильника. Телевизор умолкает. Володя начинает с кем-то объясняться: «технические параметры, реклама, регламент…» Три часа ночи! С кем это он? «Да, – вспоминаю я, – он же говорил, что ушёл с завода и сейчас работает техническим директором какой-то фирмы. Сказал, зарплата совсем другого уровня, но и работы непочатый край».
По-видимому, технический директор – это тот, кто делает абсолютно всё, причём круглосуточно, без праздников и выходных. Под бодрые Володины крики о том, что надо срочно проконсультироваться с юристом, дать объявление о вакансии секретаря, и о том, что все вопросы необходимо решить немедленно, потому что на его даче в Тверской области «“Мегафон” не берёт», я засыпаю.
Будильник звонит в полшестого утра. Я умываюсь, собираю вещи. Володя спит.
– Володя, Володечка, вставай! На электричку опоздаем. Ты же сам говорил…
Володя приоткрывает измученные глаза и тут же опять закрывает:
– Сейчас, сейчас… Я полежу ещё пять минут. Ты выходи, иди на станцию, я тебя догоню…
Я суюсь к двери. Из-за дверного стекла на меня смотрит огромная собачья морда с отвисшими слюнявыми брылями и слезящимися глазами под скошенными веками. Увидев меня, пёс встряхивает квадратной башкой и радостно гавкает. Белая в рыжих пятнах здоровенная псина – московская сторожевая – стоит, упёршись в дверь передними лапами.
– Володя! Что это?!
– Ну, сорвался откуда-то… Иди, он не тронет.
– А как его зовут? Ты его знаешь?
– Откуда мне знать… Мало ли тут собак.
– Нет, я боюсь без тебя.
Володя, чертыхаясь, встаёт, натягивает джинсы, наскоро плещет себе в лицо водой из умывальника.
– Всё собрала? Побежали!
Пёс куда-то исчез. Я еле поспеваю за Володей, он нетерпеливо оглядывается:
– Скорее! Скорей!
Слышен грохот набегающей электрички. А билеты? Какие билеты! Скорей! Спрыгиваем на пути, влезаем на платформу по приставленной доске, вместе с нами поспешают, подталкивая друг друга, ещё десятка два безбилетников. Уф, успели! Поехали.



