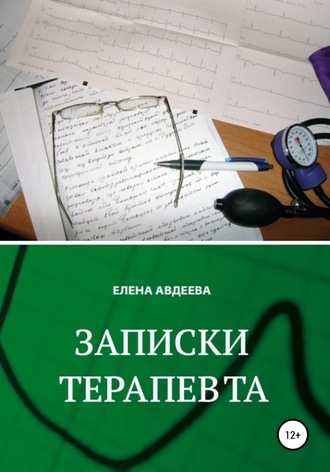
Елена Викторовна Авдеева
Записки терапевта
Некоторое время Е. И. чувствовала себя неплохо, болей никаких не было, только исчез аппетит, и она заметно похудела. Операция была в марте, а в октябре у неё появилась упорная рвота съеденной накануне пищей. Сделали рентгеноскопию желудка, и потрясённая врач-рентгенолог показала мне снимок. Желудок был просто громадных размеров с резко суженным до непроходимости привратником. Теперь уже было ясно, что это рак поджелудочной железы, распространившийся на двенадцатиперстную кишку, и прогноз совсем плохой. Пришлось снова оперироваться. На этот раз обходной анастомоз накладывался между желудком и тонкой кишкой. После операции она прожила, мучаясь, ещё несколько месяцев. А потом появились отёки и выпот в плевральной полости, что свидетельствовало уже о метастазах в паранефральную клетчатку. Её положили в Дальзаводскую больницу, пытались эвакуировать экссудат из плевральной полости, но это уже был финал. Е. И. прожила всего 63 года, за год до своего заболевания похоронив любимого мужа (они были просто образцовой парой), погибшего от метастазирующей гипернефромы. Приходится констатировать, что наблюдение о значимости тяжёлой психотравмы для возникновения онкологического заболевания нашло ещё одно подтверждение.
Дежурства
Моя лечебная работа как ассистента кафедры, включала и обязательные два дежурства в месяц. Наша больница не дежурила по городу, была плановой, но в краевое гематологическое отделение и в инфекционное часто поступали и экстренные больные. Так, в гематологию могли доставить вечером по предварительной договорённости больного из района с острым лейкозом (почему-то их много было тогда) или гемолитической анемией. В задачу дежурного врача входило только назначение экстренных анализов и поддержание жизненных функций: борьба с анемическим шоком или угрозой его развития, нормализация гемодинамики, введение гемостатических препаратов, криопреципитата при гемофилии, если это был уже известный больной. Во всех случаях поступления больного с заболеванием крови дежурный врач связывался по телефону с заведующей отделением или врачом-гематологом для согласования неотложной терапии. Самостоятельно решения не принимались, поэтому, видимо, и ситуации мне эти с конкретными примерами не запомнились.
Совсем другое дело – моя первая встреча на дежурстве с кетоацидотической комой, вернее, ещё прекомой. Это было в первые месяцы после моего прихода на кафедру. Около 22 часов меня срочно вызвали в инфекционное отделение, так как у поступившего больного с рожистым воспалением сахар крови составлял 25 ммоль/л (при норме, как мы знаем, 3,5–5,5 ммоль/л в капиллярной крови). Дежурили мы вдвоём с врачом – интерном, и пошли вместе. Больной Т., 69 лет жаловался на боли в правой голени, на передне-боковой поверхности которой был обширный участок яркой гиперемии с чётко очерченными границами, жар, боли в животе, тошноту и общее плохое самочувствие. Он был в сознании, рассказал, что о наличии у него сахарного диабета не имел понятия, а боли в ноге и лихорадка появились два дня назад. Кожные покровы у него были сухие, щёки почти красного цвета. Тахикардия 100 в минуту, АД 130/80 мм рт. ст. В лёгких хрипов не было. Живот мягкий, умеренно болезнен в эпигастрии. Печень не увеличена. Кажется, все ясно, у больного впервые выявленный сахарный диабет 2 типа, развитие кетоацидоза спровоцировано острым инфекционным заболеванием. Надо было принимать решение, но смущало, что кетоацидоз, как нас учили, – это осложнение диабета 1 типа (у молодых, до 35 лет), а при втором типе, у пожилых, встречается редко. Тактика выведения больных из кетоацидоза на том этапе была жёсткой: одномоментное введение 50–100 ЕД инсулина внутривенно и такое же количество внутримышечно. Далее, по протоколу, в зависимости от снижения уровня сахара, который исследовался каждый час. Я сразу распорядилась поставить капельницу с физиологическим раствором и взять мочу на ацетон. Пенициллин уже был назначен инфекционистом. А дальше – медлю. Жду результата повторно взятого анализа крови на сахар. Дежурный инфекционист, видя мою нерешительность, начинает возмущаться, что ставят дежурить, мол, неопытных. Звоните старшим товарищам! И тут, глубоко вздохнув, я ощущаю резкий запах ацетона. Сомнения отпадают. Назначаю, как и положено, 50 и 50 ЕД инсулина, соду (тогда её еще вводили внутривенно при аналогичных ситуациях), а тут и сообщают из лаборатории: «Сахар крови 30 ммоль/л, ацетон в моче +++). Через два часа больному стало явно лучше: уменьшилась боль в животе, он стал активнее, сахар крови понизился до 17ммол/л. До утра я оставалась в инфекционном отделении, отправив интерна в терапевтический корпус. Всё шло как по-писаному. К моменту прихода врачей отделения и моих коллег, больной был из кетоацидоза практически выведен, оставался только лёгкий запах ацетона и один «крест» в моче.
Вскоре тактика выведения больных из кетоацидоза изменилась, был введён так называемый «режим малых доз», и такого напряжения и даже страха в этих случаях я больше никогда не испытывала. Неотложная помощь при различных вариантах ком при сахарном диабете была чётко запротоколирована, выучена и находилась под руками.
Несмотря на то, что больница «плановая», дежурства порой были очень сложными и даже драматическими из-за больных, уже находящихся на лечении. По какой-то странной закономерности большинство больных умирает именно в вечерне-ночное время – такое у меня сложилось впечатление, хотя о ведении статистики не задумывалась.
Вот один из таких случаев. Больной Л., 37 лет, пациент кардиологического отделения. Диагноз: Семейная кардиомегалия. НК III стадии. Старший его брат уже погиб от этого заболевания примерно в том же возрасте. Состояние больного требовало круглосуточного наблюдения, поэтому его история болезни всегда находилась в папке для дежурного врача, и его знали доктора из всех отделений. Я тогда работала в пульмонологии, и было это в 1978 или 1979 году, за 10 лет до появления в нашей больнице эхокардиографии. Это была моя первая встреча с ним. Изучив историю болезни, пошла на обход. Больной пожаловался на тошноту, появившуюся у него после обеда и ощущение сильных перебоев в области сердца. АД было 90/60 мм рт ст. На рентгеновском снимке тень сердца занимала почти всю грудную клетку. Из-за выраженной одышки и отёков больной самостоятельно не передвигался, только с помощью коляски. На переносном электрокардиографе сняла ЭКГ – по сравнению с предудыщей плёнкой появились в большом количестве желудочковые экстрасистолы, прослеживалось «корытообразное» смещение ST вниз, число сердечных сокращений 80–90 в минуту. Посмотрела лист назначений: больной получал 2 таблетки дигоксина в сутки, накануне по дежурству однократно вводился строфантин. Доза гликозидов, в общем, небольшая, но, учитывая отёчный синдром и, следовательно, снижение фильтрационной функции почек, вероятное извращение чувствительности миокарда из-за генетической аномалии, появление желудочковых экстрасистол и тошноты, я рискнула расценить ухудшение состояния как признак дигиталисной интоксикации. Помощь в этой ситуации, согласно рекомендациям Б. Е. Вотчала, – 4 г калия внутрь. Так я и поступила. А через полчаса у больного развилась резкая брадикардия и, несмотря на повторное введение атропина и адреналина, вызов реаниматологов и проведение реанимационных мероприятий после остановки сердца, больной погиб. На предсекционном разборе мне сказали, что, наверное, не следовало давать больному сразу всю дозу калия, это оказало тормозящий эффект на синусовый узел и привело к фатальной брадикардии. Я и сама это поняла, когда возникла остановка сердца. Больной, конечно, был обречён, но у меня осталось тяжёлое чувство вины, что конец его ускорили мои действия. Для себя я сделала вывод: никогда, ни в плановых, ни в экстренных ситуациях не назначать всю планируемую, тем более максимальную, дозу сразу, а прежде оценить реакцию больного. Опыт горький, но от дальнейших подобных ошибок по неосторожности он меня избавил.
Страшнее всего было встретиться на дежурстве с профузным лёгочным кровотечением. Изредка, но они возникали в пульмонологическом отделении у больных абсцессом лёгкого. Если кровотечения были относительно небольшими, справиться с ними удавалось, используя весь арсенал кровоостанавливающих мер: холод на грудную клетку, эуфиллин для снижения давления в малом круге, желатина, аминокапроновая кислота, трансфузия плазмы и эритромассы. Лёгочное кровотечение – абсолютное показание для экстренной трахеоброхоскопии, но хирург-пульмонолог В. Е. Ивохин, виртуозно владевший техникой ФБС, конечно, не дежурил каждую ночь. Вызвать его из дома не всегда удавалось. Так однажды и случилось на моём дежурстве. У больного Н., 43 лет была большая полость деструкции в правом легком, она хорошо опорожнялась через бронх, и санационная трахеобронхоскопия ему ещё не делалась. Кровотечение возникло внезапно, без предвестников, и сразу массивное. Когда я вбежала в палату, больной, белый, как стенка, покрытый холодным потом сидел в кровати, держа в руках таз со сгустками крови. Кровь была и на постельном белье. Разговаривать он не мог, а в глазах – выражение смертельной тоски. Я назначила всё, что положено, в холодильнике кабинета переливания крови оказалась нужная группа криоплазмы и эритромассы. Мне помогали обе дежурные сестры, подошёл и дежурный хирург. Но события развивались слишком стремительно. После первой волны кровотечения больной немного успокоился, смог принять полугоризонтальное положение в постели, проглотил порошок кодеина, который я принесла ему в надежде подавить кашель. АД снизилось до 80/55 мм рт ст, но повышать его выше этого уровня и не следовало. Перелили плазму, подключили эритромассу. Увы, минут через 20 возник кашель, и с ним – повторная волна кровотечения (не менее полутора литров крови), которую он не пережил.
Другой случай, в котором я оказалась на высоте положения, но, к сожалению, слишком поздно. Это была женщина лет 50, поступившая пару дней назад в гематологическое отделение по поводу спленомегалии неясной этиологии и анемии. До этого около месяца наблюдалась гематологами амбулаторно. Я смотрела её по дежурству, как оставленную под наблюдение. Диагноз на тот момент оставался неясным. Больная жаловалась на одышку, слабость, боли в суставах и повышение температуры до 38 градусов. Из анамнеза выяснено, что месяца два назад она перенесла пневмонию, лечилась в городской больнице, а через 2 недели появилась лихорадка. Начинаю осмотр. Кожа бледная, чистая, никаких высыпаний нет. Суставы внешне не изменены. В лёгких везикулярное дыхание. Хрипы отсутствуют. АД 110/50 мм рт ст. Тахикардия до 95 в минуту, а по левому краю грудины с максимумом в точке Боткина выслушивается тот самый высокочастотный протодиастолический шум, характерный для недостаточности аортальных клапанов. Я связала воедино лихорадку, анемию, большое пульсовое давление и этот шум. Составилась отчётливая картинка подострого септического эндокардита с формированием аортального порока. Записала свои соображения в истории болезни, никаких лечебных назначений не делала, но на следующее утро, не успела я отчитаться за дежурство, как сообщили, что у больной внезапно развилась картина ишемического тромбоэмболического инсульта с потерей сознания. В течение суток больная умерла. На вскрытии – крупные тромботические бородавчатые изъязвления на аортальном клапане, отрыв одного из которых, несомненно, и явился причиной фатального инсульта. А источником инфекции оказалась тромбофлебитическая селезёнка, которая была увеличена. Начало патологическому процессу было положено, вероятнее всего, случившимся год назад острым панкреатитом, потребовавшим оперативного вмешательства. Получается, что диагноз был поставлен практически на предсекционном разборе. Почему этот характерный шум не был услышан раньше, и не придавалось значение умеренному субфебрилитету? Причина, думаю, в нашей слишком узкой специализации, когда гематологи не имеют опыта аускультации сердца, а кардиологи приглашают пульмонолога для назначения лечения острой пневмонии.
С точки зрения больного и, особенно, его родственников, врачи «держат глухую оборону» и защищают друг друга в случае конфликтной ситуации. Корпоративная этика, так сказать. Возможно, со стороны это так и выглядит, но внутри нашего сообщества каждый отстаивает себя и свою клинику, если дело касается их взаимодействия. Справедливый и честный разговор никого не интересует, чьей-то судьбой и репутацией можно и пожертвовать, если это в твоих интересах. И, конечно, как и в спорте, «побеждает сильнейший». Итак, я приступаю к рассказу о самом болезненном событии в моей врачебной биографии.
Шёл 1983 год, у власти был Андропов, пытавшийся железной рукой наводить порядок. Это тогда делали облавы на зрителей в кинотеатрах и клиентов в парикмахерских, выискивая и наказывая прогульщиков. В медицине тоже требовалось наказание виновных, и поощрялись обвинительные заключения. Я тогда работала на кафедре, консультировала больных в пульмонологическом отделении и, как обязательную часть лечебной нагрузки, в глазном отделении. Однажды во второй половине дня меня срочно вызвали осмотреть больную после операции на глазах, в связи с тем, что её низкое АД (90/60) вызывало у врачей беспокойство.
Женщине было 54 года, она была коммуникабельной и хорошо рассказала о своём состоянии. На момент осмотра её беспокоили тупые боли в оперированном накануне глазу и чувство тяжести в поясничной области слева. Болей в области сердца и вообще в грудной клетке не было, но в анамнезе давящие боли при нагрузке появлялись, что соответствовало стабильной стенокардии II функционального класса. Артериальной гипертензии в прошлом не было. Кроме того, она страдала мочекаменной болезнью, по поводу которой несколько лет назад проводилась правосторонняя нефрэктомия. При осмотре – кожные покровы тёплые, розовые. Тоны сердца приглушены, ритмичны, 100 ударов в минуту. АД 90/60 мм рт ст. В лёгких везикулярное дыхание. Живот мягкий, умеренно болезнен в левом подреберье. Поколачивание слева в поясничной области нерезко болезненно. На ЭКГ – диффузные изменения в миокарде левого желудочка, отрицательных зубцов Q и Т не было. Больная не мочилась в течение 12 часов. Заключение по осмотру: Д-з: ИБС, стабильная стенокардия напряжения II ф.к. НК 1ст. МКБ. Конкремент единственной левой почки, не исключается обтурация левого мочеточника с развитием гидронефроза. Снижение АД я расценила как следствие введения больной анальгетиков и спазмолитиков. УЗИ на тот момент в больнице ещё не было, и для уточнения неясной ситуации с мочевыделительной системой (отсутствие мочи в течение 12 часов!) я назначила срочный осмотр уролога и исследование показателей мочевины и креатинина.
Когда я на следующий день пришла на работу, оказалось, что больная уже находится в реанимационном отделении. Накануне вечером приходил уролог, своей «острой патологии не нашёл», и порекомендовал инфузию растворов для борьбы с сохранявшейся гипотонией. При осмотре состояние больной соответствовало средней степени тяжести: она устала и была вялой. Болевого синдрома не было. Показатели гемодинамики прежние. Со слов реаниматолога, на фоне инфузии растворов наблюдалось повышение АД до 140/80 мм рт ст. и выделялась моча. На контрольной ЭКГ – некоторое ухудшение состояния миокарда – появились признаки депрессии сегмента ST. Я сделала запись в истории болезни о том, что данных за инфаркт миокарда в настоящее время нет, необходимы повторный осмотр уролога, внутривенная урография. Вот здесь мне и надо было пригласить на консилиум доцента или профессора, не беря всю ответственность на себя. Или оставаться с больной, дожидаясь уролога и контролируя показатели крови и гемодинамику. Ведь если бы это была моя мама или кто-то из близких, я бы не ушла домой, не прояснив обстановку. А события развивались следующим образом: реаниматологи отвезли больную в рентген-кабинет, на обзорном снимке почек в проекции левого мочеточника находилась тень, подозрительная на конкремент. Не дождавшись прихода уролога, реаниматологи погрузили больную на машину СМП и отвезли в тысячекоечную больницу. А вот как всё происходило там, известно только со слов докладчиков, выступавших на комиссии горздрава. Истории болезни из ГКБ №2 я не видела.
Получалось, что, доставив больную в приёмный покой, реаниматолог не передал её из рук в руки урологу, а просто оставил в коридоре, где она какое-то время пролежала на каталке. В какой именно момент у неё появились нарушения ритма, не зафиксировано. Но согласно докладу на комиссии смотревшего её уролога, молодого доктора, была проведена цистоскопия, в левый мочеточник введен катетер, отодвинувший конкремент, после чего стала отделяться моча (!). На эти его слова старшие коллеги тут же возмущенно зашикали, дескать, этого не было, и доктор смешался. Но раз проводилась манипуляция на урологическом кресле, понятно, что состояние больной на тот момент это позволяло. А дальше у неё развивается аритмический шок, и больная погибает в реанимационном отделении. На секцию отправляют с диагнозом «инфаркт миокарда».
В докладе патологоанатома, выступавшего на комиссии, было сказано, что в области задне-боковой стенки имелись мелкие очаги некроза миокарда, т. е. мелкоочаговый инфаркт миокарда. На вопрос о давности этих изменений он не смог конкретно ответить. Но мог ли такой инфаркт привести к кардиогенному шоку и смерти? Известно, что кардиогенный шок развивается при обширном (около 2/3 поверхности) поражении левого желудочка сердца. У нашей больной, по моему мнению, развился аритмический шок и фибрилляция сердца на фоне метаболических и электролитных нарушений вследствие задержки мочи и, вероятно, болевого синдрома.
Оппонентом выступала заведующая ревматологическим отделением той же тысяче-коечной больницы. По её словам, выходило, что терапевт, консультировавший больную в БМСЧР, то есть я, забыл об атипичных формах инфаркта миокарда и своевременно его не диагностировал. В «подтверждение» были представлены электрокардиограммы в динамике, описанные врачом – функционалистом, работавшим на базе той же тысяче-коечной больницы. Дословно: «На электрокардиограммах, сделанных до перевода больной в ГКБ№ 2, нельзя было исключить инфаркт миокарда». Напомню, что в небольшом проценте случаев инфаркт миокарда на ЭКГ вообще может не регистрироваться, в данной же ситуации я видела нарушение фазы реполяризации без отрицательных зубцов «Т», которое объясняла возникшей у больной анурией. Гемодинамической анурию назвать было нельзя, так как при отсутствии в анамнезе артериальной гипертонии, клубочковая фильтрация при АД 90/60 мм рт ст. должна происходить.
Что же привело к смерти больной – инфаркт миокарда, не диагностированный вначале, или обструкция мочеточника единственной почки, своевременно не распознанная, у больной с ишемическим кардиосклерозом, осложнившаяся пароксизмом аритмии на фоне некоронарогенного некроза миокарда?
На заседании комиссии выступил её председатель – городской хирург, который, прочитав историю болезни, «всё разложил по полочкам», отметив и вину урологов, не оказавших вовремя консультативную помощь, и реаниматологов, не передавших больную непосредственно специалистам и, конечно, позднюю диагностику инфаркта миокарда. Казалось бы, всё должно было быть оценено справедливо, но на обсуждении выводов комиссии присутствовали только сотрудники городской больницы. В результате самым главным виновником оказалась я, мне был объявлен выговор и понижение в должности до старшего лаборанта на 2 месяца. Выговор был объявлен и реаниматологам нашей больницы. Урологи оказались ни при чём.
Я переживала молча. Кстати, электрокардиограммы уже постфактум отнесли на кафедру факультетской терапии, заведующий которой профессор Ляхов Николай Тимофеевич был прекрасным кардиологом, читал лекции по ЭКГ студентам. Он заключил, что диагностировать инфаркт по первым двум плёнкам невозможно, но и при появлении аритмии прямых признаков некроза не было, а выявленные на секции мелкие очаги, скорее всего, проявление некоронарогенного некроза миокарда вследствие дисметаболических нарушений в миокарде при аритмии. Однако комиссия уже сделала свои выводы, и вопрос этот публично больше нигде не обсуждался. Мне только сочувствовали. Рана эта у меня до сих пор болит, и все-таки не даёт покоя чувство собственной вины. Ко всему ужасу, больная оказалась матерью моего одногруппника, и это он, прилетев из Москвы во Владивосток, написал жалобу в Крайздрав, требуя разбора. Но самого этого разбора он не дождался. А для себя я, конечно, раз и навсегда сделала вывод: во всех сложных случаях смотреть больных совместно с коллегами, собирать консилиумы. Ведь если бы тогда рядом с моей подписью стояла ещё подпись кого-нибудь из доцентов или профессора, история эта с момента промедления урологической консультации, перевода больной в другую больницу и до обсуждения произошедшего развивалась бы совсем не так.


