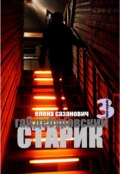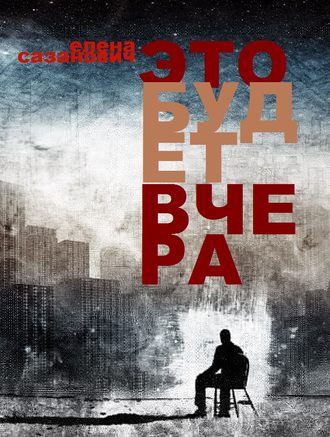
Елена Сазанович
Это будет вчера
– С более зверским убийством я не сталкивался в своей жизни, – монотонно начал Дьер. – А вы, Григ?
– Я? – тошнота подкатывала к горлу, и мне трудно было выдавливать из себя фразы.
– Да, именно вы. Страшное убийство, не правда ли?
– Правда.
– А вы смели недавно утверждать, что не нуждаетесь в адвокатах, – и Дьер тихонько засмеялся металлическим смехом.
И я не выдержал и бросился к Ольге. Она молча стояла, прислонившись к стене, и ее ночные глаза неотступно следили за мной.
– Ольга! Бог мой! Ольга! Ну, скажите же наконец! Ну, объясните же им! Что это неправда! Что вы совсем недавно были со мной. Пили мое вино. А потом поцеловали сильно-сильно! Ну же! Скажите им, Ольга!
Она смотрела на меня, как на сумасшедшего, И в ее глазах даже промелькнуло снисходительное сочувствие.
– Григ, я вас вижу впервые. И вы прекрасно это знаете. Вы неправильно ведете себя, Григ, если хотите, чтобы я вас защищала. А вы мне должны верить. Я неплохой адвокат, правда, Дьер? – И она подарила следователю ослепительную улыбку.
Он в ответ только развел руками. Для него это было неоспоримо.
– Считайте, Григ, что вам крупно повезло. Гильотину могут заменить электрическим стулом. А электрический стул – такой пустяк. И никаких лишних мучений. И всего лишь вспышка яркого света. Как вспышка солнца в ночи. Вы сможете увидеть солнце в ночи, Григ. Это не каждому суждено. Так что считайте, что благодаря Ольге вам крупно повезет.
– Боже! – я лихорадочно надавил на виски. – Что это, Боже, – мой голос стал мягче, ровнее. Мне даже на миг показалось, что я начинаю привыкать к этому сумасшедшему дому. А, возможно, я просто устал.
И тут, словно впервые, заметил Фила. Славный, всегда неунывающий, всегда умеющий найти выход из любой ситуации, Фил за эти часы постарел на несколько лет.
– Фил, – жалобно начал я. – Но ты ведь мне веришь, Фил?
Он не сказал ни слова. Он только прикрыл глаза, и я отлично понял, что он, даже если не может поверить мне, то настолько же не может поверить и им. Это означало, что у меня еще оставался шанс, И я неверно себя веду. Мой страх словно подписывал мне приговор. В конце концов, если я невиновен – мне абсолютно нечего бояться. Абсолютно. Я даже не узнал, кто эти люди. Я даже не выяснил откуда они узнали про фотографии. К черту! Все это блеф!
– У вас есть ордер на его арест? – словно прочитав в глазах мои мысли, спросил Фил.
– Безусловно, – мило улыбнулся Дьер и протянул бумагу. – Кстати, вот и наши удостоверения.
Фил молча изучал их. Я же Ее захотел даже взглянуть на эти бумажки. Но по выражению лица Фила я понял, что это серьезно. И далеко не блеф. Но все-таки решил не сдаваться.
– Можно мне позвонить?
– Пожалуйста! Ради Бога!
Я отыскал в справочнике номер главного прокурора нашего городка, и тут же набрал номер. Я знал его давно. Он был большой поклонник моих фоторабот. И его давняя мечта была приобрести зелененький форд, на котором он бы вместе со мной, великим фотографом подъехал ко Дворцу искусств на вручение мне международной премии. Но, увы, денег на машину он накопить не мог.
– Алло! Алло! – взволнованно начал я.
– А! Это ты, Григ! Я узнал тебя, – сухо начал он. – Кто бы мог подумать! Но факты неоспоримы. У тебя действительно нашли эти фотки?
– Да… Но…
– Влип ты серьезно, и, к сожалению, ничем помочь не могу. Дело передано в высшие инстанции. Лучшие профессионалы из столица будут вести твое дело. Ты – известный человек. И наша провинция не потянула бы это. Так что целиком и полностью доверяй им. И лучше всего расскажи правду. Может быть, это как-то облегчит твою участь. Хотя скандала не миновать. А в остальном положись на Бога.
– Да уж, конечно, не на черта, – и я со злостью бросил трубку на рычаг.
– Да уж конечно, – услышал я за спиной гнусавый-прегнусавый голос. И резко оглянулся. На пороге топтались еще одни милые гости. И я вытаращил на них глаза.
Хотя за сегодняшнюю ночь я потихоньку стал привыкать к сюрпризам, этот мне меньше всего понравился. На пороге стоял маленький человечек, почти карлик с длиннющим крючкообразным носом, на котором болтались кругленькие очки. Ко всей моей эстетической радости его круглая голова была абсолютно лысой, и на его квадратном теле висел костюм в ярко-оранжевую полоску, а на его вставном плечике гордо восседал огромный-преогромный попугай. Я, как фотограф, много куролесил по свету, но дав свою почти отсеченную голову на отсечение, такого чучела я нигде не встречал. Он был настолько огромен, что казалось, в своем атлетическом сложении превзошел своего лысого хозяина. Но самое поразительное – он как две капли воды напоминал лысого. Без хохолка на голове, в кругленьких очках на крючкообразном носу и костюме в ярко-оранжевую полоску.
И рядом с этой прелестной парочкой возвышался не менее мерзкий верзила, почти задевая своей острой макушкой потолок. Он улыбался подгнившими зубами, то и дело встряхивая длинными слипшимися волосами. И все время пытался что-то записывать в огромном блокноте с изображением на обложке золотым павлином. И мой глубоко эстетический вкус был начисто оскорблен его грязными ботинками, дырявыми шортами и искусанными ногтями.
Дьер их встретил как самых родных и близких на свете людей.
– Чудесно! Вовремя! Вас здесь как раз и не хватало.
Мы с Филом невесело переглянулись.
– Ну что ж. Вот и вся следственная группа в сборе.
– Прелестная группа! Прелестная! – прогнусавило это мерзкое чучело на плече лысого.
Фил свирепо на него покосился. А Дьер дружески похлопал попугая по спине. И улыбнулся.
– Ну, без тебя, Ричард, всякое дело обречено на провал. Чертовски рад тебя видеть.
Он еще к тому же и Ричард, с грустью усмехнулся я. А мой друг сквозь смех, душивший его, спросил:
– А это что еще за компания?
Дьер возмущенно всплеснул своими выхоленными руками.
– Вы не имеете чести знать?! О! Насколько, оказывается, необразованно наше искусство.
– Ужасно необразованно! – прогнусавил Ричард.
– Ну да, конечно, им, великим художникам, постигающим мир чисто зрительно, не дано знать, что существуют великие люди, постигающие мир с помощью анализа и чувств.
Я нахмурился. Мне, если честно, не внушали доверия чувства с такими рожами.
– Ну что ж! – и Дьер театрально взмахнул рукой. – Известный во всем мире психоаналитик Брэм, – и он указал на лысого. – И не менее известный во воем мире журналист Славик Шепутинский.
Славик Шепутинский мне понравился почему-то меньше всего, и я свирепо взглянул на его блокнот. Дьер тут же перехватил мой свирепый взгляд.
– Славик слабо владеет словом, высказанным вслух. Но его слово на бумаге – это блеск, вы мне поверьте? Да, Славик?
– Да, – коротко ответил Славик и вновь стал что-то лихорадочно записывать.
– Мысль изреченная – есть ложь, – в нос заговорил лысый Брэм. – Это Гете.
– Впрочем, не изреченная – есть ложь тоже. А это – я, – в тон ему прогнусавил Ричард.
О, они еще и интеллектуалы, невесело отметил я про себя.
– О, это умнейшие, начитанные люди, – вновь продолжил мою мысль Дьер. – Вы знаете, Брэм без ума от животного и растительного мира. Он изучил его досконально. Ведь только поняв, постигнув до конца природу, можно понять, постигнуть до конца человека. Разве не так?
– Мы не раз спорили на эту тему с моим двоюродным братом, – тут же подхватил разговор лысый психоаналитик. – Кстати, его фамилия тоже Брем. Не знаю, знакомы ли вы с его трудами. Но его главная ошибка в постижении природного мира то, что он его описал и поэтому остался навсегда больше писателем, чем психоаналитиком. Я же пошел дальше его. Я отлично усвоил, что высказанные мысли на бумаге теряют свей изначальный блеск и действительно превращаются в ложь, как мудро заметил Гете. Я же оставляю их при себе. Они принадлежат только мне, и никому более. Поэтому я легко могу достигнуть суть и природы, и человека. Поэтому я в силах помочь многим. В тем числе и вам… Григ, если не ошибаюсь?
– Я еще не сошел с ума, – со злостью отрезал я, – и думаю, мне ваша помощь не пригодится.
– Ой-ой-ой, – вмешался мерзкий попугай, – уж мне-то поверьте – сойти с ума легче простого. А вот вернуть уж… – и он важно поправил очки на носу, демонстративно не закончив фразы. Но тут же не мог успокоиться, что не закончил. – Хотя, дорогой Григ, горе от ума гораздо хуже, чем без него. Так что не пугайтесь. Ваша жизнь может еще облегчиться.
Моя жизнь… В одну ночь она рушилась. Моя благополучная удачливая жизнь, и я летел в пропасть вниз головой и видел только эту страшную ночь, и тем не менее в этой сверхкритической ситуации мои мысли, как ей странно, стали приходить в порядок. возможно, чувство самосохранения – одно из главных моих чувств и на сей раз не подвело меня, и я даже попытался проанализировать ситуацию. Нет, меня не запугать электрическим стулом. Нет, меня не сведут с ума каким-то Гете и Брэмом, который к тому же оказался еще и двоюродным братом лысого. Нет, я отлично помню сегодняшний день. Это палящее солнце на набережной. Длинный плащ Ольги. Ее черные, как ночь, глаза. Нет, я все помню. И я еще не сумасшедший.
А Ольга молчала. Она смотрела на меня все теми же умными ночными глазами и я, как всегда, ничего не мог прочитать в них. И я вновь решил сделать попытку. Я взял себя в руки, откашлялся и придал своему облику разумный, насколько это было возможно, вид.
– Ольга, давайте вместе все вспомним. Сейчас решается моя судьба. Моя жизнь в ваших руках, милая Ольга. И вы не можете принять на себя такую тяжкую ношу лжи. Скажите правду, Ольга. Поверьте, человеческая жизнь имеет цену. Хотя бы только потому, что цену смерти нам не дано знать.
И в ее глазах я прочитал недоумение. Недоумение и больше ничего.
– Я понимаю, Григ, – ответила она, – вам сейчас плохо.
Вас уличили в страшном преступлении. И, возможно ваш разум уже не способен воспринимать и понимать то, что вы сделали. Ваш разум теперь цепляется за какие-то странные навязчивые идеи. Я понимав Вас. Я не раз сталкивалась в своей практике с таким родом нарушения психики. Но поверьте, я отлично знаю цену человеческой жизни, и поверьте, как адвокат, я все сделаю для облегчения вашей участи. Но для этого прежде всего нужна правда. А для правды вам просто необходимо собраться с мыслями и постараться вспомнить. И еще…
Но я ей не дал договорить. Это было выше моих давно погасших сил. Я схватил ее за плечи, и до боли их сжал.
– Вы лжете, – прошептал я побелевшими губами. – Вы лжете, – и мои пальцы все глубже и глубже погружались в мякоть ее плеч.
Ей было очень больно. Но она даже не вскрикнула. И Дьер пришел ей на помощь и со всей силы отшвырнул меня в сторону. Я не удержался на ногах и упал.
– А вы не верили, что не нуждаетесь в нашей немощи, – прогнусавил Ричард. – Поспешные выводы вас только погубят.
Я поднял на него тяжелый взгляд. Почему? Почему какой-то мерзкий попугай, которого не существует даже в природе, смеет распоряжаться моими мыслями, моей судьбой, моей жизнью? И я перевел свой взгляд на Славика Шепутинского. Может он, как журналист, имеет хоть чуточку логики и здравого смысла? Может быть он не допустит скандала и хотя бы в газете заявит о моей невиновности, может он не позволит порочить напрасно мое известное всему миру имя? И я резко встал с пола и бросился к нему.
– Славик! Пожалуйста, пиши, – и я ткнул пальцем в его блокнот о золотым павлином.
– Да, – бесстрастно ответил он, не пошелохнувшись.
– Ты слышишь, что я сказал? Ну же, Славик! Ты журналист! Ты обязан описывать все варианты и все версии. Слышишь, Славик?!
– Да, – так же равнодушно ответил он, не шелохнувшись.
– Почему ты не хочешь записать мои слова? – меня он уже же на шутку раздражал и я был готов ударить его по немытой физиономии.
– Ответь, Славик, почему?
– Нет.
Я схватился в отчаянии за голову чтобы не совершить еще одно насилие.
– Бессмысленно, хе-хе, бессмысленно, – закудахтал Ричард.
И тут же ему на помощь с разъяснением пришел Дьер.
– Ну же, Григ! Не стоит так волноваться. Я же объяснил – выстроенные фразы не для Славика Шепутинского. Да и нет – вот единственные слова, которые ей в состоянии произнести вслух. И он где-то прав. В остальном для него главное – это мысли на бумаге. А мысли на бумаге – это его право. Впрочем, как и его право говорить только два слова – да и нет.
Нет, они меня все-таки доконают. Мои ноги уже плохо слушались. И я еле доплелся до дивана и бухнулся на него, прикрыв глаза.
– А вот это верно! – Дьер присел рядом со мной, забросив ногу за ногу. – Присядем на дорожку. На счастливую дорожку. Ведь вы желаете счастья, Григ?
Ольга молча уселась в кресле, а Славик на пол, скрестив свои длинные ноги в немытых ботинках перед собой.
– На дорожку и выпить на посошок не грех! – радостно воскликнул Ричард. И они с Брэмом тут же скрылись в моей кухне и тут же вернулись с бутылкой моего коньяка и моими хрустальными рюмками.
– Тебе, Славик.
– Да, – сказал Славик и мгновенно проглотил коньяк вместе с моей рюмкой. И от хрустящего на весь дом хрусталя я поежился.
– Ну вот, – проворчал Ричард. – Так тебя никто и не научил правилам хорошего тона.
Правилам хорошего тона зато первоклассно были обучены Ольга и Дьер. Они маленькими глоточками смаковали мой коньяк.
– А ты, Фил, почему не присоединяешься?
– Мне не хочется, – отказался Фил. И, по-моему, он впервые в жизни отказался выпить.
– Григ! Григ! – радостно воскликнул Ричард. – А с тобой мы выпьем на посошок! Так сказать, на вечную дружбу. А твоя вечность, Григ, поверь, не за горами!
И это наглее чучело вскочило на мое плечо и схватило своей мерзкой когтистей лапой меня за локоть. И сил сопротивляться у меня уже не было. И я залпом вывил, уже начисто забыв, что давно завязал.
– Прекрасно, Григ! У тебя сноровка, как у прожженного пьяницы! Ты меня радуешь! Теперь поцелуемся! – не унимался Ричард и клюнул меня в губы, и на моих губах выступили капельки крови.
– Тебя никто не целовал до крови Григ? – ликовал Ричард.
Я устало прикрыл глаза. Мне страшно хотелось напиться, и я вспомнил, что мне этого хотелось, как только я встретился с Ольгой. И я вонял, что теперь мне ничто не помешает это сделать. Никакие принципы, никакое чувство самосохранения, никакие мысли о будущем, которое я сегодня потерял раз и навсегда. Но когда я открыл глаза, то увидел, что бутылка моего коньяка уже опустошена начисто, и Брэм с Ричардом, забыв про свои интеллектуальные способности, вырывали друг у друга коньяк, высасывая из него последние капли.
Дьер тут же перехватил мой презрительный взгляд, и сочувственно развел руками.
– Увы, старая, как мир, история – спивающиеся на глазах интеллигенты. Ну что ж, пора, – и он встал. За ним, как по команде поднялась вся компания.
Мы медленно направились к выходу. Я шел с опущенной головой, разве что мои руки не были подняты вверх, и я не выдержал и оглянулся, и столкнулся ее взглядом моего друга Фила. Он стоял не шелохнувшись и как-то уж слишком вдумчиво смотрел на нашу удалявшуюся печальную процессию.
– Фил, – глухо выдавил я. – Я не виноват, Фил. Запомни это, пожалуйста, Фил…
– В чем тебя конкретно обвиняют? Может мне это кто-то внятно объяснить?
– Пожалуйста, – холодно улыбнулся Дьер. – Пожалуйста. Ваш друг обвиняется в жестоком преднамеренном убийстве своей бывшей возлюбленной, которая считалась без вести пропавшей вот уже несколько лет.
Он вытащил из лаковой черной папки мокрые фотоснимки, аккуратно завернутые в целлофан.
– Эти фотографии, сделанные очень четко, профессионально, доказывают виновность вашего друга. Убийство произошло в ее доме, где они жили с Григом. На одном из снимков отчетливо видна тень его силуэта. Он тогда еще не был достаточно классным мастером и, фотографируя жертву, не заметил свою тень на стене. Вот и все объяснение, дорогой Фил. Ну, я думаю, ваша дружба от этого не прервется. Вы даже вправе носить передачи своему другу.
– Григ, – прервал его долгую скучную речь Фил. – Григ, это правда?
– О, Боже! – я со всей силы сжал кулаки. – Да, Фил. Это правда. Я любил эту девушку. Но это не правда. Потому что я не убивал ее. Поверь, Фил. Ведь ты меня столько лет знаешь. Я слишком дорожил своим будущим. Я бы никогда не стал пачкать руки в крови. Никогда. И теперь помочь мне сможешь только ты. Только…
И наши взгляды перекрестились. Не знаю, что он мог прочитать в моих уставших измученных глазах. Но по его взгляду я понял – он мне поверил. Значит, у меня был еще шанс…
Фил протянул мне пачку дешевых сигарет. Единственное, что в эту минуту он мог для меня сделать. И я ему был благодарен, забыв, что давным-давно не курил…
Меня поместили в камеру для подследственных. Это было грязное вонючее место с пошарпанными стенками и протекающим потолком. По ночам меня пугали своим шорохом крысы. Но постепенно я начал к ним привыкать. Они еще как-то напоминали, что я не один в этом мире. Впрочем, постепенно я стал привыкать к этим глухим стенам, и к этой железной койке, и к самой оглушительной пустоте, и к своей безысходности, и мне становилось грустно от мысли, что человек способен смириться со всем на свете. Если даже я, еще вчера купающийся в лучах славы, деньгах, благополучия смог смириться с этим убогим нищенским местом, и я уже ненавидел свое слабость и я уже ненавидел себя.
Но выбора у меня не было. Выбор был один – моя пустая камера, мое бесконечное одиночество и, конечно, надежда, что правда еще победит. Первое время и я писал куда-то письма, мне разрешали звонить в какие-то высшие инстанции. Но безуспешно. Ответ был один. Я подозреваюсь в жестоком убийстве. И следствие но этому делу ведет известная следственная группа из столицы. И мне необходимо им доверять, как самым опытным, честным и порядочным людям.
Это был замкнутый круг, который я, прикованный к одному месту, к одной пустоте, разорвать был не в силах, и оставалась лишь слабая надежда на моего друга, который не забывал меня, передавая мне сигареты, продукты и иногда выпивку. Впрочем, казалось, что он единственный, кто не забыл меня в эти дни. Никто из этой честной, порядочной компании, посетившей меня однажды ночью, теперь не явился. Не знаю, может быть это был продуманный ход. Мне давалась время на раздумье, на смирение, на человеческую слабость. Что ж. Им этот ход вполне удался.
Я оставался один на один со своими мыслями, беспрерывно прокручивая в памяти свое прошлое, которого я так боялся. Да, Дьер, безусловно, прав. Это она, никто иной, как она была на фотоснимках. Это безжизненное лицо, которое я когда-то так любил целовать. Эти безжизненные губы, которые когда-то так весело смеялись мне. Эти безжизненные ноги, которые когда-то так легко танцевали. Эти безжизненные пышные волосы, которые когда-то я так любил расчесывать по вечерам. Эта безжизненная душа, которую я когда-то так легко и так жестоко предал. Это несомненно была она…
«Пропала без вести» – эта фраза, произнесенная монотонным скучающим тоном, как острие лезвия резанула но моему сердцу. Но я же мог отвести взгляда от телевизора. Ее фотография. Нет, вернее моя фотография. Это я ее когда-то сделал. Это смеющееся лицо. Эти лукавые глаза. Эти развевающиеся на ветру волосы. На весь экран телевизора. Она словно смеялась над всем миром. Она словно смеялась надо мной. «Пропала без вести» – и я не мог шелохнуться. Да я знай, мне нужно было что-то делать. Куда-то бежать, с кем-то говорить. Я не имел права вот так сидеть неподвижно. Мне нужно было бить во все колокола, мне нужно было сделать кругосветное путешествие, изодрать свои босые ноги до крови, потерять зрение, всматриваясь в каждую точку на планете. Только бы ее разыскать. Но я сидел, не двигаясь, на одном месте, и к моему горлу подкатывал пьянеющий страх. Господи, это не я. Причем тут я, если кто-то пропал без вести. И как на огромной планете, среди дремучих лесов, среди палящего солнца, среди высоких гор и многоэтажных домов можно найти того, кто пропал. Нет, я умываю руки. Нет. Я исчезаю. Я не виноват, если какая-то взбалмошная маленькая девчонка почему-то решила пропасть в огромном мире. Это ее право. И на это ее право я посягать не буду. Я исчезаю. Прочь из этого сумасшедшего города, от этих знакомых и незнакомых лиц. Прочь. Прочь туда, где мало домов, где не наступают на ноги, где каждый человек на счету, где я смогу спокойно делать свое дело, начисто похоронив прошлое. Туда, где пропасть без вести невозможно.
И я выбрал этот маленький городок. И сразу же столкнулся лицом к лицу с ослепительным, жарким, обжигающим кожу до волдырей, солнцем, и понял, что солнце уже не люблю. Но все-таки я не уехал. Мне было проще бороться с солнцем, чем со своей памятью, которую я раз и навсегда похоронил… К тому же мои успехи стали действительностью и прихоть известного фотографа жить в маленьком городке никого не удивила. Всякий имеет право на любое место под солнцем. Даже если это солнце не любишь. В этой нелюбви к солнцу подписался и я, и моя жизнь после этого стремительно пошла вверх…
– Вы что-то сказали, Григ?
Мои мысли внезапно прервались, и я резко оглянулся, и увидел Ольгу. Я даже не заметил, как она очутилась в моей камере. Как всегда ослепительно красивая. В длинном до пят плаще, и шелковый шарф, небрежно заброшенный за плечо.
– Нет, Ольга. Я ничего не сказал. Мои мысли останутся при мне.
– Ну, и напрасно.
Она вплотную приблизилась ко мне. И стала внимательно изучать мой облик, нахмурив свей угольные брови.
– М-да. Выглядите вы совсем неважно. Почему вы не бреетесь? Когда я вас с Дьером впервые увидела, вы были настолько гладко выбриты, что я подумала – это так не свойственно… мужчинам.
– Вы хотели сказать – настоящим мужчинам? Ну же, договаривайте!
– Что вы, Григ! Я вовсе не хотела вас обидеть. И костюм ваш стал совсем серым. Когда я вас с Дьером впервые увидела, он был ослепительной белизны. Почему вы не переоденетесь, Григ? Здесь так пыльно, грязно, а вещи так быстро портятся.
– Я зашел сюда в этом костюме. И скоро выйду в нем же. Я не изменяю привычкам, Ольга.
– Ну да, конечно. Только смотря куда выйдете. Хотя в любом случае, перед любым выходом костюм можно и постирать. Когда я с Дьером впервые вас увидела…
– Впервые вы увидели меня без Дьера. И вы это прекрасно знаете.
– Вы все за старое! Так мы можем и не договориться. Ну сами посудите, что за абсурд! Кто вам поверит, что вы встречались накануне ареста с известнейшим во всем мире адвокатом, среди бела дня, который прилетел из столицы только вечером вместе со своими коллегами. Ну кто поверит в эту абсурдную версию, что вы фотографировали меня, я вас поцеловала, а после всего на пленке вдруг появились совсем другие кадры? Ну, Григ, вы же не настолько глупы!
– Не настолько. Вы могли подменить пленку.
– Как? Если меня там даже не было! – и она расхохоталась белозубой улыбкой. – Абсурд!
Да, это, действительно, абсурд. Даже если именно она там была, пленку перезарядить она никак бы не успела. Я никуда не отлучался из мастерской. Да, в это никто не поверит. Круг вновь замыкался. И его холодная сталь все ближе и ближе примыкала ко мне.
– Поймите же, ради Бога! Вы – известный человек во всем мире, и для раскрытия этого нелегкого дела не зря вызвали тоже самых известных людей. Поэтому целиком и полностью можете мне доверить.
Я не доверял никому. Но мое одиночество, моя пустота, моя обреченность не давали мне право выбора.
– Что вы хотите узнать? – после небольшой паузы спросил я, почти смирившись со своим поражением.
Она облегченно вздохнула.
– Наконец-то, Григ, вы начинаете кое-что понимать.
Ольга медленно прошлась в угол камеры и запрокинула голову вверх и посмотрела на маленькое решетчатое окно, и увидела темное решетчатое небо.
– Я понимаю, как это тяжело. Небо в решетке. Когда появится солнце – оно тоже окажется за решеткой. Мне искренне вас жаль.
И она неожиданно сбросила плащ прямо на пол. И ее платье, темное, строгое удачно подходило к ее бледному лицу. И я задержал дыхание. Она была невероятно красива. И мне до боли захотелось сфотографировать ее. Но эту безумную мысль я тут же отогнал от себя, вспомнив, что однажды меня бес попутал совершить такую ошибку.
– Ваш плащ испачкается, – единственное, что я мог ей сказать, не изменяя своим педантичным привычкам. – Здесь очень грязный пол.
– Григ, грязный плащ – это не такая уж беда. Как и грязный пол. Это исправимо. Куда страшнее грязь нематериальная. Она не смываема. Вы согласны со мной?
Я отвел взгляд в сторону. Я уже знал, куда она клонит.
– Что вы хотите узнать? – грубо повторил я вопрос. – И, пожалуйста, побыстрее. Я очень устал за эти дни, и много не могу говорить.
– Я хочу узнать только правду. Поверьте, только узнав ее до конца, я смогу что-нибудь сделать для вас, – и она вновь приблизилась ко мне, и взяла за руку. И слегка ее пожала.
И ее ночные глаза сочувственно бегали по моему лицу, словно по нему пытались прочитать мою правду. И мне вновь захотелось уткнуться лицом в ее острые колени, расплакаться и наконец-то поделиться со своим прошлым, которое я когда-то похоронил в этом солнечном городке. Мой разум не верил Ольге. Но мои чувства ей доверяли, а, может быть, я просто был ослеплен ее красотой.
– Ольга, – прошептал я, и на моих глазах выступили слезы. – Этого не может быть. Это ошибка. Не, возможно, это и должно было случиться. Я не знаю, Ольга. Я уже ничего не знаю…
И мои плечи затряслись от рыданий, и я уже не прятал своих слез. Я их уже не боялся, и я затянулся глубоко сигаретой, и посмотрел вверх на маленькое окно, за которым выглянуло яркое солнце. И это солнце было за решеткой. Оно словно смеялось надо мной, пронзая своими острыми, как иголки, лучами мое мокрое от слез лицо.
– Вот видите, Григ. Солнце все-таки появилось. Вы ведь любите солнце, правда, Григ? Любите?
– Правда… Тогда тоже было много солнца. Очень много.
И я его бесконечно любил, как бесконечно любил и ее…
Этим утром было бесконечно много солнца. В его ослепительных лучах захлебнулись сумасшедшие автомобили, многоэтажные дома, прохожие, сшибающие друг друга. Я отчаянно пробивался через этот оглушающий городской шум и крики, бережно прижимая к груди свой маленький дешевый фотоаппарат, который недавно приобрел за последние деньги, и короткими рывками пытался фотографировать ослепительные солнечные лучи, падающие на равнодушные дома, равнодушную природу и равнодушные лица. И мне казалось, когда-нибудь солнечные лучи на моих снимках раз и навсегда разобьют, уничтожат, испепелят это холодное равнодушие сумасшедшего мира. Хотя я прекрасно понимал, как это трудно сделать мне, маленькому человеку в потрепанных джинсах, истоптанных кедах с самым дешевым фотоаппаратом и самой дешевой пленкой. Я – никто в этом огромном мире. И мне становилось больно от этой мысли. Но я упрямо продолжал щелкать затвором, фиксируя в вечности кадры чужой жизни, к которой я не был равнодушен, и которая так была равнодушна ко мне.
Кадр. Стоп. Еще один кадр. Стоп. Еще один кадр. Скучно. Солнечные лучи не пробивают этот бесчувственный мир, и все-таки. Еще один кадр, и я резко остановился. И мой глаз по-прежнему вглядывался в фотообъектив и уже не мог от него оторваться. Потому что навстречу мне шла она.
Она шла мне навстречу, смеясь. Смеялись ее огромные зеленые глаза, ее золотистый загар, ее огненно-рыжие волосы, и я понятия не имел, что на свете существует такой цвет волос.
Она шла мне навстречу, смеясь, и, как назло, не замечала этой безумной бесчувственной толпы. Казалось, ей не было дела до толкающихся локтей, недовольных вздохов, мечущихся машин.
Она шла мне навстречу, смеясь. В белых сандалиях на босую ногу, коротком цветном сарафане, развевающемся на летнем ветру.
Она шла мне навстречу, смеясь, маленькая огненно-рыжая, золотистокожая и в руках бережно держала огромный кожаный футляр для скрипки.
И я невольно подумал, что, оказывается, в этом бесцветном равнодушном мире, плюющим на чужие беды, злорадствующим над чужими поражениями, кичащимся своим дорогим барахлом, еще кто-то носит сандалии на босую ногу, цветной сарафан и играет на скрипке.
Еще кадр. Щелчок фотоаппарата. Еще кадр, и я все боялся оторвать глаза от объектива. Я боялся, что она растворится в толпе и я ее никогда не увижу. Только в кадре. Хохочущую, с огненно-рыжими волосами. Ну, еще кадр, и я наконец опустил фотоаппарат.
И она не исчезла. Она по-прежнему шла мне навстречу, не обращая внимания на толкающихся прохожих. Маленькая, огненно-рыжая с кожаным огромным футляром от скрипки в руке. И мы с ней столкнулись лицом к лицу, и первое, что мне она сказала, это:
– Какой замечательный у тебя фотоаппарат.
Когда я купил этот аппарат, над ним смеялись за моей спиной и с презрением косились на его колкий вид. И она первая, все так же смеясь своей белозубой улыбкой, своими рыжими волосами, своим золотистым загаром, она первая просто сказала:
– Правда, какой замечательный у тебя фотоаппарат.
– А у тебя – замечательные волосы. Я раньше таких не видел, – первое, что сказал я ей.
И, помню, подумал. Она навсегда станет для меня или моим счастьем, или моей болью, даже если я себе в этом никогда не признаюсь. Она стала и тем, и другим. И я признался себе в первом, на второе у меня не хватило мужества и не хватило сил…
А тогда она запрокинула голову к солнцу и сказала. Второе, что сказала она мне:
– А ты когда-нибудь фотографировал само солнце?
И только я хотел ей ответить, что солнце сфотографировать невозможно, когда оно так ярко горит. Только возможно снять закат или восход. Но я ей это почему-то не объяснил. Я просто едва прикоснулся к локону ее рыжих волос и в ответ рассмеялся:
– Нет, само солнце я еще не фотографировал. Но я это обязательно сделаю. Для тебя.
– А я для тебя сыграю на скрипке. Хочешь?
О, Боже! И она еще спрашивает. Неужели в этом равнодушном, бесчувственном мире еще кто-то играет на скрипке?
– Ты знаешь, только я тебя увидела, сразу подумала, неужели в этом бесчувственном холодном мире еще кто-то фотографирует солнце?
Мы нашли друг друга в этом равнодушном холодном мире. И мы не знали тогда, что этот равнодушный холодный мир нам этого не простит…
Мы шли по городу, крепко взявшись за руки, не обращая внимания на обезумевшую толпу. Одной рукой я прижимал к груди свой дешевый фотоаппарат, а она несла огромный кожаный футляр от скрипки. Мы держали в своих руках самое дорогое. И уже тогда знали, что станем самыми дорогими друг другу людьми. И это не знал еще тогда бесчувственный презрительный мир. Это знало только солнце, палящее нам прямо в лицо и благословляющее нас своим обжигающим светом.
Ее домик был, пожалуй, самый маленький на всем белом свете. В нем ничего не было лишнего. Маленький стол, маленький буфетик и маленький диван. Но мы отлично поняли, что места для нас в этом домике вполне хватает.