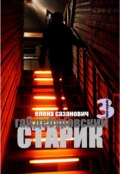Елена Сазанович
Убить Гиппократа
– Да, знаю. – Я крепко пожал руку Иришке…
Черт побери! Не женитесь на стюардессах! Даже если очень любите небо. Потому что к небу стюардессы не имеют никакого отношения. Они даже его не видят, не слышат, не понимают. Самые земные на земле – стюардессы! Как моя Ада. Жить стюардессой было у нее в крови. Даже когда она уже не смогла летать, на земле она оставалась тоже стюардессой, то работая в каком-то баре, то организовывая какие-то фестивали, то устроившись каким-то риэлтором.
В сущности, все это не имело никакого значения. Ада оставалась прислуживающим и очень активным персоналом. Мечтающим о нужных знакомствах. И стреляющим хорошенькими глазками налево и направо. Хотя редко попадающим в цель. (Впрочем, в меня попала…) И все время ей нужно кому-то что-то подносить…
Не женитесь на тех, кто подносит. Это потом… Потом, потом, когда женитесь, уже сами решите – что и кому подносить.
Это просто звучит красиво – стюардесса. Потому что мы все мечтаем о небе. И думаем, что там работают исключительно бесстрашные и благородные люди. Далеко, далеко не все… Ведь небо – это и ад и рай. Впрочем, как и земля…
Не женитесь на стюардессах! Женитесь лучше на медсестрах! Я это мог сделать тысячу раз. И ни разу не сделал. О чем до сих пор жалею…
Я вновь бросил на Иришку благоговейный взгляд. Моя мечта о спокойной, уютной жизни не сбылась. Она сбылась у Вальки. И я искренне ему позавидовал. Когда они, взявшись за руки, как дети, уходили по тенистой аллее и рядом бежала их собачонка, весело помахивая хвостом. Втроем они были так похожи. Рыженькие, плотненькие, кудрявые, в круглых очках.
И мелкий дождик был им к лицу. И моросил на их счастливые лица. И где-то в уютной квартире их поджидал уютный сервиз из гжели. Из которого они опять будут пить чай, сидя за круглым столом.
Так ясно, до сладкой боли в сердце, я представил эту картину. Собачка за столом, рядом со своими хозяевами, с чашкой в лапе, шумно прихлебывая, лакает чай… И эта картина не вызывала ни капли удивления. Эта картина не была модернистской, а очень даже реалистичной.
Впрочем, модернизм, реализм – всего лишь слова. Все дело в воображении. У меня этого было с избытком. Как и чувства горечи, что на воображении моя жизнь и заканчивается. А реальность, настоящая, прочная, надежная, к которой можно прикоснуться, которую можно пощупать и понюхать, осталась разбитой и выброшенной на свалку осколками гжельского сервиза. Настоящая реальность досталась другим. В том числе моему лучшему другу Вальке. Мне остался лишь мелкий дождь. Мелкая жизнь. И огромное воображение. Что с ним делать, я совершенно не знал. Я готов был продать его какому-нибудь поэту, художнику, но сегодня и они вряд ли бы купили. Сегодня и они предпочитают надежную реальность…
И я почему-то представил Аду в аду. Она не извивалась на сковородке. Она просто сидела одна за круглым столом сред белых стерильных стен, уставленных белой стерильной мебелью. И только сервиз из гжели был бело-голубым. А с потолка моросил мелкий дождик. Ада ежилась. Ей было очень холодно и очень одиноко. И я ее пожалел. И из чайничка показалась струйка пара ароматного чая. Согревайся, Ада, в аду…
Я поежился и успокоился… В конце концов, не все в жизни так уж плохо. Дом мой стоял на месте. На месте сидел сумасшедший мой пес. За окном крапал дождь. И рядом не было Ады. Разве что не хватало гжельского сервиза. Но совсем чуть-чуть…
Стоп. О чем я? Вранье! Мне не хватало главного – моих родителей. И кто сказал, что родители более всего важны в детстве. Да, конечно, важны. Но для себя я уяснил другую, возможно, для кого-то спорную истину. Чем старше становишься – тем больше нуждаешься в матери и отце. И тем более чувствуешь одиночество. Без них… Стоп. Это уж совсем больная тема. А темы я лечить не умею. Не научился. Так, кажется, говорила мне мама. Мама!.. Я сжал виски. И опрокинул голову. Чтобы почувствовать капли дождя на лице…
Брехня! При чем тут гжель? Ада ненавидела мою мать. Опять брехня! Не мать. Мать она в живых не застала. А вот ее имя… Рая… Оно всегда было живым. Оно жило в моей квартире, ненавязчиво, где-то в уголке, возле иконки. Но так высоко, что дотянуться до него, смахнуть его веником или вытереть влажной тряпкой не было никакой возможности. И оно – имя – было просто копией моей матери. Как иконка… Где бы ни проявлялась моя мать – в счастье или в беде. На рассвете или при закате. В морозной стуже или с солнечными зайчиками. То всегда цвели лилии… Более точно я выразиться не могу. И менее красиво. И объяснить, пожалуй, тоже.
Она была редким человеком. Рай для Раи. И ад для Ады. Как же все прямолинейно, даже топорно. И тем не менее все это – правда. Потому что правды бывают всякие. Даже топорные. Ада и Рая никогда бы не ужились в одном пространстве. Как и в одном времени. Даже если пространство и время – понятия эфемерные. По Канту…
Хватит! Какое мне дело до Канта. Эфемерность – это его прерогатива. Его тема. Я эту тему вылечить никогда не сумею… И его корона мне не нужна. Как и ничья другая. Мне на жизнь хватит Раи. И Ады…
Валька сдержал слово. Уже следующим утром я сидел у него в просторном кабинете. И он, постукивая костяшками пальцев по дубовому столу, возбужденно строил за меня планы.
– Так вот, Герка, теперь у тебя начнется иная жизнь! Совершенно иная! Ты мне поверь, своему старому товарищу. И матерому волку. Я же понимаю – участковый поликлиники… Это не то что не сахар. Тут и на соль не хватит. Мало того – копейки, и перспектив – ноль целых ноль десятых. И такая тоска-а-а! Жалобы одиноких старушек и свирепая очередь у кабинета! С ума сойти!
– Мой отец всю жизнь проработал участковым и не жаловался. – Не знаю почему, но мне вдруг стало до ужаса обидно за свое место под солнцем и еще обиднее за своего отца. – Кстати, и Чехов был участковым, по сути. И гордился!
Валька расхохотался во весь голос.
– Удивляюсь я на тебя, Гера! Тогда что ты тут делаешь? Если не хочешь жаловаться, а хочешь гордиться. И при чем тут Чехов? При чем тут твой отец?
В целом Валька был прав. И Чехов, и отец были ни при чем. А я сидел у Вальки в кабинете и выбивал новое место под солнцем.
– Я так понимаю, что с женой ты расстался из-за этого…
– Из-за чего? – спросил я с любопытством.
Мне самому было интересно, почему мы развелись с Адой. Сам я понятия не имел. Я-то думал из-за гжели. И из-за имени матери. Неужели все сложнее? Похоже, обо всем знал Валька.
– Так это же ясно, как дважды два! – Валька постучал себе по высокому лбу. – Ада… С такими амбициями, с такой внешностью… Если хочешь – летающая в небе! Не меньше. Ну, разве она могла вынести приземленную жизнь участкового терапевта? Да и разве это жизнь?!
– Ну, вообще-то в небе летают лишь ведьмы. Стюардессы в самолетах, герметизированных и технически оснащенных. И не технически тоже. Но ладно… Будем считать – это не про Аду. Она была же какой-никакой, но моей женой.
Мне хотелось объяснить Вальке другое. Что это тоже была моя жизнь. И это я… Я не мог вынести Аду. И все гораздо, гораздо сложнее. Но почему-то передумал. Разве он мог понять, что такое ад. Разве он мог понять, что ад – это Ада.
– Кстати, ты действительно джентльмен. Я понятия не имел, что ты сочувствуешь моей жене.
– Брось, Герка! – Лис со всей силы хлопнул меня по плечу. – Ты прекрасно знаешь, как я к ней относился! Такую стерву еще поискать! Извини, конечно. Но с другой стороны, я объективен. Если выбрал ее для жизни – так дай жизнь, которую она хочет. Не заслуживает, а хочет! Такова печальная правда семьи!
– У тебя она не печальная. Но не будем об этом, Герка.
– Давай не будем. Этот разговор не для кабинета, а для кабака. А я тебе вот что предлагаю…
От его предложения у меня перехватило дыхание. Я знал, что эта клиника одна из лучших и самых дорогих. Но все же… Или я просто давно привык к минимуму?.. Пожалуй, именно тогда я вдруг впервые в жизни понял глубинный смысл фразы: продать душу… Это когда слабость по всему телу. Покалывание в пальцах рук и ног. Перебои дыхания и учащенное сердцебиение. А в том месте, где, по сути, должна находиться душа – невесомость. Как воздушная сахарная вата. Которая все тает, тает. (Как в детстве. Когда в детстве и душа не нужна. Потому что она есть всегда…) Оставляя приторное послевкусие…
Но детство давно прошло. И мне не хотелось воздушной сахарной ваты. Я вообще никогда ее не любил. Не знаю как другие, но в этот момент я вдруг до ужаса стал неприятен сам себе. И одновременно мне было на это наплевать.
– Сколько-сколько? – Я облизал пересохшие губы.
Валька блеснул очками и равнодушно повторил сумму. Эта сумма была для Вальки пустым звуком. Но для убедительности он постучал карандашом по столу.
Я развязно развалился в кресле. И посмотрел Вальке в глаза. Черт побери, жадность не знает границ! А продажа души не знает предела ее цены! Черт побери!.. Черт, похоже, меня услышал.
– Ну, Валька, стоит подумать. – Я почему-то зевнул и мерзенько усмехнулся.
– Гиппократ, ты что? Чокнулся?! Я тебе хорошую цену предлагаю, и то только потому, что прекрасно знаю – ты настоящий профессионал и никогда не подведешь. Знаешь, команда – это большое дело. Ты что, Гера?
Я встряхнул головой. Похоже, у меня помутился разум. И при чем тут продажа души? Если все элементарно. Просто в этой клинике высокие ставки. И все. Что за чушь я себе вообразил? Черта какого-то? Ну и бред! Я просто так же буду работать. Так же блюсти клятву Гиппократа, которую мы с Валькой когда-то произнесли вслух. И буду за это просто получать солидные деньги. И папу, конечно, не забуду! Еще чего! И маму! И иконку, рядом с которой покоится ее имя. И Чехова по-прежнему буду любить! Вот еще! При чем тут продажа души?..
И вдруг мне до слез стало жалко свою маму. Если у нее появлялись деньги, то ей тут же нужно было кому-то помочь. А отец? Он работал за такие копейки. И не считал их. Он считал спасенные жизни. Он считал, что только жизнь человека имеет настоящую цену, потому что бесценна. Наверное, так считал и Чехов. И вдруг мне до слез тоже стало его жаль…
Но сердце успокоилось. Температура вернулась к норме. И я вдруг физически ощутил, где находится душа. Я чувствовал, что она материальна. Что в ней циркулирует кровь. Что у нее есть болевые точки. Я даже почувствовал маленький шрамик, который сегодня появился на ней. Я вдруг понял, что по-настоящему можно узнать, где находится душа, лишь когда на секунду ее потеряешь. Но уже на второй секунде можно потерять душу навсегда. Слава богу, я это вовремя осознал. Второй секунды у меня не случилось. И, надеюсь, не случится никогда.
Как назло, я взглянул в окно, за которым на улице шумно и громко продавали воздушную сахарную вату. И дети ее покупали. Черт! Здесь я ни при чем!..
Я постарался естественно улыбнуться Вальке. И честно посмотрел в его честные светлые глаза.
– Ты что, Лис, я же пошутил. Шуток не понимаешь? Да после моей старой зарплаты я тебе в ноги должен кланяться! С утра до вечера!
Валька расхохотался.
– Нет, дружище. Этого не получится. С утра до вечера ты будешь работать. А иногда и по ночам. Вот так. Причем обещаю – на износ. Деньги здесь платят приличные, но не зазря. Их приходится отрабатывать по полной.
– Ну, Лис, я всегда работал по полной. И без денег. Так что мне не привыкать. Клятву Гиппократа я помню. От зубов отскакивает.
– Клятва Гиппократа… – Валька почему-то задумчиво посмотрел за окно. – Клятва Гиппократа… М-да… Словно это было и не на нашей планете… И совершенно в другом измерении…
– Не понял. – Я нахмурился.
Мне не понравилась ни Валькина задумчивость, ни его тон.
– А даже если и так. Даже если на другой планете и в другом измерении. Какое это имеет значение? Клятва-то осталась! Ее ни изменить, ни поправить. И ей не изменить… Даже если все и вся в мире изменяются.
– И ей не изменить, – как эхо повторил Валька. – Но если все и вся изменились… Черт!
Валька посмотрел на часы. И вскочил с места.
– Мне пора, сам понимаешь, дела не ждут…
Конечно, был рабочий день, даже для продавца сладкой ваты. И я понимал, что дела не ждут. Но мне показалось, что дела еще могли бы чуточку подождать. Просто Валька не захотел продолжать разговор. И мне это не понравилось. Шрамик на моей душе слегка кольнул. Он был совсем свежий и еще не зарубцевался. И мне это не понравилось еще больше…
А из распахнутых окон, как назло, доносилось громкое и базарное: «Покупайте сладкую воздушную сахарную вату!..»
* * *
При этих воспоминаниях, да именно о шрамике, в глазах появилось множество темных пятнышек, и я стал видеть мир словно сквозь пятнистую сетку. Мысли вдруг стали отрывочными, как отдельные бессвязные слова. И воспоминания отрывочны, как безграмотно смонтированные кадры. Дорогая мебель, дорогой район… Лучше, чтобы напротив церкви… Или пруда. А в пруду чтобы лебеди. На крайний случай – утки… И мой сумасшедший пес держит в лапах чашку из темного чешского стекла. Она стоит целых 500 долларов… Белые стены, ни одного пятнышка. И запах нашатыря и валокордина… Лис в черной марлевой повязке. Иришка в стерильных перчатках со шприцом из гжели… На операционном столе лежит человек. Под наркозом… Как же его звали… Не помню. Не может быть, чтобы не помнил… Я же помню! Ведь с него, пожалуй, все и началось… Или гораздо раньше?.. Господи, как же его звали?..
Я ударился лбом о стол. И очнулся.
Голова гудела. Хотя, возможно, это гудела бежавшая за окном электричка. Я со всей силы надавил на веки. И перевел дух. Неужели я умудрился так напиться? Этого не может быть, я ведь даже не добил бутылку вина. Впрочем, вчера ночью я отогнал бессонницу хорошей дозой феназепама. Ко всему прочему постоянно шалящие нервы. И страх… Тут даже напиваться необязательно. И без вина можно свалиться с ног.
Я на секунду успокоился. И налил себе остатки вина. И вдруг вспомнил. И хлопнул себя по коленям. Пакета не было… Сердце бешено заколотилось. Я огляделся. Посетителей в кафе тоже не было. Только я. И маячащий у барной стойки официант. Так. Нужно успокоиться. Взять себя в руки… Никто, никто на всем белом свете не знал о том, что я вчера написал. А сегодня сложил в пакет и скрепил его сургучной печатью. Значит, пока я вырубился, пакет просто свалился.
Я залез под стол – ничего. Обшарил пол под близстоящими столиками и стульями – ничего. Пакета нигде не было.
Мои руки задрожали. Мысли запрыгали в бешеном танце. И я уже не в силах был их остановить. Кто, зачем, когда? Впрочем, разве не я сам совсем недавно вынес себе приговор и даже простился с жизнью? Я сам все чувствовал. Нет, черт побери, знал! Знал, что за мной могут следить! Разве не поэтому я и пришел сюда, в это случайное кафе? Передохнуть. И успокоится. В безопасном месте.
Нет, похоже, для меня безопасных мест уже нет. На всей огромной круглой планете не найдется для меня хоть одного маленького безопасного местечка. И это надо безоговорочно признать.
Голова по-прежнему гудела. Конечно, это не электричка. Я вдруг понял – просто в вино мне подсыпали снотворное. Кто? Какой глупый вопрос.
Я взмахнул рукой, подзывая официанта. Он мигом очутился возле меня. Я внимательно на него посмотрел. Я хотел его на всякий случай его запомнить. Молодой парень, таких сотни тысяч. Высокий, худой, светловолосый. И такой прямой. Такие не сутулятся. Ничего зловещего в открытом незамысловатом лице. Я посмотрел на его бейджик.
– Дима, – вслух прочитал я. – Приятно познакомиться, Дима.
– А мне приятно вас слышать. – Он почтенно склонил голову. – Я-то думал, вы немой.
– Как видишь, от стресса и немые могут заговорить.
– Стресса? – Дима недоуменно взметнул брови. – Спят не от стресса, скорее, от усталости. Вообще-то, у нас тут не положено. Но, вижу, человек вы совсем измотанный. К тому же немой. Пожалел – потому и не будил… А вы вовсе не немой. А вовсе даже наоборот.
Этот факт, пожалуй, его обидел больше всего. Словно доверчивого ребенка.
– Скажи, Дима. С какой стати я так крепко и так внезапно заснул?
Дима невинно пожал плечами, захлопав длинными светлыми ресницами.
– От вина, пожалуй, а от чего еще?
Дима ловко убрал со стола пустую бутылку и пустой бокал.
– Скрываешь улики?
– Не понял?
На лице Димы появилось такое искреннее недоумение, что на секунду я даже растерялся. Но, конечно, не поверил. Конечно, это бред, если я потребую, чтобы официант не уносил бутылку с бокалом. И что скажу? Отдай мне, чтобы я отдал их на экспертизу? Из-за того, что в вашем чертовом кафе посетителям подсыпают снотворное? И как я тогда буду выглядеть? Знаю, прекрасно знаю – как… Дима бы вновь недоуменно захлопал ресницами. И уже вместо немого представил бы меня параноиком или сумасшедшим.
Нет, игру нужно вести осторожнее. Учитывая, что сейчас козыри не у меня. А на карту поставлена моя жизнь. Черт с ним, с бокалом. И с бутылкой. Даже если мне подтвердят тысячи экспертов, что там было снотворное, куда я пойду с этим заключением? Да и где найти этих экспертов? А что там было снотворное, я и сам догадался.
Еще я догадался, что где-то там, за углом, возможно, даже за углом этого кафе, меня поджидает смерть. При этой мысли я вновь похолодел. И потому как можно раскованнее развалился на стуле. И добродушно улыбнулся Диме. И посмотрел прямо в его светлые глаза.
– Что-то мало в вашем кафе народу. А что, пока я кимарил, так никто и не заскочил перекусить?
Дима стойко выдержал взгляд. И даже печально вздохнул. И непринужденно почесал за ухом. Мол, вот какой я простой, бесхитростный паренек.
– Да уж, незадача. Ни одно человека! Но у нас всегда так утром. Кафе-то небольшое, не очень известное. Это вам не центр какой-нибудь! Да и просто у нас тут все, – начал жаловаться Дима. – Да и зарплата небольшая. И чаевые никакие. Вот так и перебиваемся. Жить практически не на что! А я еще учиться хочу. Знаете, за учебу такие бабки нужно выложить! А где их взять? Если пашешь в такой забегаловке…
От такого монолога впору было заплакать. Но мне показалось (хотя, возможно, только показалось), что Дима на что-то намекает. Ах да, скорее всего, на то, что если кто предложит большие деньги, то он не откажется. Видимо, он и не отказался, когда ему заплатили за то, чтобы меня усыпить. И украсть мой бесценный, вернее очень ценный, пакет.
Дима даже по-своему был честен. Похоже, в глубине души его даже мучили остатки совести. Раз он произнес такую жалобную речь. Мол, не виноват я вовсе! Если платить за учебу нечем!
А может, и впрямь не виноват? Кто теперь отказывается от денег? Я знаю одного. Это – я… Я не просто отказался от денег. Практически я добровольно отказался от собственной жизни. Так что Дима гораздо умнее меня. Возможно, потому, что гораздо моложе?..
Безусловно, парень не расколется. В его кармане шуршат бумажки. И я даже слышу это шуршание. Но сам я, похоже, влип… Впрочем… Впрочем, нужно теперь хорошенько подумать.
Скорее всего, меня захотят убрать. Потому нужно все взвесить и решить что делать. Чтобы этого не произошло… В этой кафешке, похоже, побоятся. Вон, уже появились и первые посетители. Ничего подозрительного. Парень с девушкой. Скорее всего, студенты. А вон и старичок с газетой. Нет, они неопасны. И они свидетели… Значит, безопасней всего побыть пока здесь и подумать. Хорошенько подумать, что делать дальше.
– Вас рассчитать? – Дима с надеждой посмотрел на меня.
И по его тону, и по взгляду было понятно – он хотел, чтобы я поскорее убрался отсюда. Чтобы вместе со мной из его сегодняшнего утра убрались и все его неприятности. Его стыд и угрызения совести, которые ему хорошо финансово компенсировали. Нет человека – нет проблемы…
Нет, Дима, все не так просто. Возможно, когда нет человека – проблемы только начинаются. Будем вместе надеяться, что это не про тебя. Потому что мне тебя искренне жаль. Причем от всего сердца я желаю тебе учиться. Только не знаю, чему ты научишься за такие деньги.
– Рассчитать? – Я усмехнулся. – Похоже, мне предстоит рассчитаться по полной… Но не обращай внимания на мои слова, Дима. Это я так. Сам с собой разговариваю. Тем более давно просто так не болтал. Да и утро располагает. И выпитое вино. Знаешь, Дима, принеси-ка мне еще бутылочку. Мне нравится твоя забегаловка. Знаешь, и Моцарту бы здесь понравилось. Удивлен? Да ладно. Тебе, похоже, действительно нужно учиться. Впрочем, и мне не помешало бы… А я еще посижу здесь. К тому же время наступило обеденное, так что принеси мне еще и перекусить. Ты, надеюсь, не против?
Дима вздрогнул. И искренне расстроился. Определенно он был против.
– Против? Как можно! А вы, я вижу, на работу не торопитесь, – Дима не выдержал, чтобы меня не уколоть.
– Не тороплюсь. Уже не тороплюсь. А вот ты поторопись. Хотя понятно – работа не волк… Но я действительно проголодался.
В глазах официанта мелькнули злобные огоньки. На долю секунды, но я заметил. А он не так прост. И, похоже, всю жизнь был уверен, что он – хороший, простодушный парень. И даже кичился этим. И, похоже, теперь всю свою сознательную жизнь будет обвинять меня за то, что я разбил этот хрупкий образ.
Значит, пакет у них в руках. С моим прощальным письмом или завещанием. Или… Мое откровение тянуло на роман. Что ж, приятного вам чтения! Хотя что нового они могут там открыть для себя? Что…
Я писал, как начал работать на новом месте в клинике Лиса. И как мне безумно нравилось там работать. Я особо не парился на литературные изыски. Что-то вроде и работа непыльная, и деньги, о которых можно только мечтать…
Хотя я никогда не мечтал о деньгах. Мне казалось, мечты – это что-то другое, нематериальное. Что мечты не зависят от посторонних людей и случайных обстоятельств. В детстве я мечтал, что открою новую звезду. В юности – что изобрету лекарство от рака. В молодости – что встречу настоящую любовь, с которой мы вместе откроем новую звезду и изобретем лекарство от рака.
Потом я понял, что звезды открывают астрономы. Лекарство от рака изобрести невозможно, потому что оно давно уже изобретено. А любовь зовут Ада. И все это, возможно, называется разочарованием…
И лишь работая в клинике Лиса, я понял, что деньги – тоже мечта. И не хотел с этим мириться. И очень быстро смирился. Списав все на разочарование.
Я писал, как стал мечтать о смене квартиры. В новом районе. Непременно центральном… И мне хотелось, чтобы напротив окон стояла церковь. И в определенные часы били колокола. Так громко, громко. Чтобы на душе становилось радостно. На тихой душе… Ну, если не церковь, то хотя бы пруд. В котором плавали бы белые лебеди. Ну, если не лебеди, то хотя бы утки. Или тот парень, которого я встретил – голубь, такой смешной, как далматинец. Белый с черными пятнами. Хотя я не знаю, плавают ли голуби в пруду. А почему бы и нет? Если в небе летают. Не одно ли и то же?.. Вот моя Ада летала в небе и прекрасно плавала. Она была невесома – и в небе, и на земле, и в пруду. Странное существо. Наверное, ведьма… И почему я ее вспоминаю? Наверное, любил. Наверное, печалюсь, что она меня не любила. А может, все-таки любила? Когда-то. Хотя бы часок, хотя бы минуту, хотя бы секунду. Хотя я не знаю, хватает ли секунды для любви. Мне кажется, хватает. А возможно, эта секунда и есть любовь… Хотя гжель простить Аде не могу… А вот за маму простил легко. Потому что мама ее давно простила…
Еще бы по утрам я подкармливал уток в пруду. И голубей, особенно далматинца. Правда, не знаю, умеют ли голуби плавать… И любовался бы белыми кувшинками… И мебель бы я поменял в доме. Моя совсем старенькая, старомодная, еще родительская. Я бы купил что-нибудь стильное. Только не белое. Белого цвета мне на работе хватает. К тому же я не настолько пижон. И книжный шкаф бы себе купил. Обязательно, хотя держать в доме книги уже не принято. Но я бы от них ни за что не отказался. Я не настолько жлоб. К тому же мне все равно, что обо мне подумают. Я всегда хочу быть собой. А новый престижный район и новая мебель – просто элементарное желание уюта.
Все же не права была моя мама. Все же не прав был мой отец. И Чехов тоже не прав. Это я заявляю со всей ответственностью. Что он там написал: жить среди народа, а не на Малой Дмитровке! Ерунда какая! Можно прекрасно думать и о народе, и жить в новой квартире в центре, с новой мебелью, и работать в престижной клинике, и получать большие деньги, и… В общем, одно другому не мешает. Что – я хуже стану лечить, если буду жить лучше?
Впрочем, на этот вопрос я себе ответил позднее. Категорично и прямо. И этот ответ подвел меня к краю пропасти. Где я сейчас и сижу. Эта пропасть на данный момент имела вид забегаловки, за столом которой я и сидел, глядя на бутылку вина. И здесь мог бы даже сидеть сам Моцарт. Если бы жил, конечно…
Тихо. Спокойно. С первого взгляда и не скажешь, что пропасть. Но я-то знаю, знаю, что на краю. И об этом знаю не только я…
А еще я написал про машину. Ведь на машине гораздо удобнее добираться до работы. Какую я хотел марку? Мне было почти все равно. Ведь я не настолько сноб…
М-да, и зачем я это все это писал? И кому это интересно? Я чувствую смерть, а пишу про какую-то мебель и уток. И даже про голубя. Который ко мне, наверное, никогда больше не прилетит… Впрочем… Думаю, без этих деталей мой дальнейший рассказ невозможен. Нет, конечно, возможен, но он выглядел бы не так ярко. К тому же я хотел рассказать всю правду. А правда заключалась в том, что я оказался не настолько хорош. В отличие от моих матери, отца, Чехова и моего тезки Гиппократа.
…Так как же была его фамилия? Того пациента, что умер на операционном столе. Такая простая фамилия. Как странно, почему-то сложное всегда запоминается легче, чем простое. Уралов или Уваров? Уралов, Уралов, конечно, от Урала… Но почему он умер? Сколько раз я задавал себе этот вопрос! И сколько раз находил на него ответ. Ведь врачи не боги. Да мало ли от чего может умереть человек. К тому же он уже был далеко не молод… Да, я наблюдал его. И это я отправил его на операцию. Пустяковую операцию. И сердце у него было в полном порядке. Помню, я еще удивился: это же надо, и не молод, а сердце как часы. А во время операции эти часы остановились… Я его даже плохо помнил в лицо. Простое лицо, как и фамилия.
Поначалу я винил себя. Хотя был уверен, что врачебной ошибки не было и быть не могло. Тогда почему остановилось сердце? Впрочем, в этом возрасте… Даже такое сердце может не выдержать наркоз.
Помню, мне было очень плохо. Хотя я и был уверен, что не виноват.
Я сидел у Лиса в кабинете и бубнил под нос что-то невнятное. Типа что все мы смертны, что врач – неблагодарная профессия, что даже если не виноват – все равно виноват…
Тогда Лис резко меня перебил.
– Брось, Гера. Скажи, что ты хочешь от меня услышать? Тогда я скажу то, что ты хочешь услышать. Может, тебе полегчает… Наша клиника – одна из самых лучших и самых продвинутых. Но и здесь, и здесь допускается определенный процент смертности. И это неизбежно. Неизбежно, черт побери! Иначе это была бы не клиника, а священное место. Но священных мест не бывает. Во всяком случае, там, где царствует наука. А наука еще не изобрела панацею от всех болезней и средство для бессмертия. И ты не хуже меня это знаешь! И не хуже меня знаешь, что в пожилом возрасте при операции допускается определенный риск! И даже самые лучшие часы могут внезапно остановиться!..
– И все же… Мне казалось, всему есть объяснение! – Я вяло пытался сопротивляться.
– Извини, дружище. Но ты работал в поликлинике. Участковым. Там действительно всему можно было найти объяснение. Если ты, конечно, лечил язву, гастрит или даже ишемическую…. Но здесь не терапевтическое лечение! Это хирургия. Пойми, хирургия! Здесь как в совместном творчестве. Это художник, писатель или музыкант создают шедевры один на один с собой. А в театре, кино, балете – целая армия. У нас примерно то же. За жизнь пациента отвечают многие! И ты знаешь это не хуже меня! И терапевт, и нарколог, и анестезиолог, и ортопед, и хирург, и медсестры, и, и, и…Они могут выполнять работу тысячу раз на «отлично». В нашей клинике это – факт. Но их отличная работа не означает стопроцентную гарантию. Еще есть сам пациент. Его организм, его воля, его выдержка! А для верующих – еще и вера. Так что… Так что наш разговор может быть бесконечным или очень коротким. Я предпочитаю второе. И очень заинтересован, чтобы ты продолжил у меня работать.
– И я в этом заинтересован. – Я усмехнулся. – И все же мне стало бы гораздо легче, если бы я… Ну, запомнил его лицо, что ли. Хотя бы только лицо…
– Гера, хватит этих сантиментов! Это, в конце концов, глупо! В конце концов, относись к работе как к работе. Работа не любит философов. А в нашей – философия только мешает. Ты уж не мальчик. Должен понимать, что в пациенте, как это ни кощунственно звучит, мы должны в первую очередь видеть пациента. А потом – человека. Только тогда у него будут реальные шансы на выздоровление. А человеком он пусть останется для родных и друзей. Со своим лицом и своими чувствами… Иначе действительно возможна врачебная ошибка. В этом – последнем – случае никакой врачебной ошибки не было. Заявляю со всей ответственностью.
– Странный у тебя подход к врачеванию. – Я не скрывал своего раздражения. – Словно это не с тобой мы когда-то давали клятву Гиппократа.
Валька тяжело поднялся. Подошел к окну. И забарабанил по стеклу пальцами, почти в такт дождю.
– Со мной, Гера, со мной. Просто ты должен усвоить, что пациент в поликлинике или на дому разительно отличается от пациента на операционном столе. В первом случае ты можешь себе позволить чеховские сантименты. Потому что пациент, как правило, умирает долго. Когда просто болеет. И тогда ты, черт побери, можешь даже погрузиться в его судьбу! Это право врача. Хотя я таких врачей давно не встречал. Но пациент в хирургии… Это другой случай. Хирург должен мгновенно решить – жизнь или смерть. Ну, или отсрочка смерти.
– Но я, даже работая в хирургии, остаюсь терапевтом.
Валька резко обернулся и посмотрел прямо мне в глаза… Как же все-таки он постарел за это время. Потяжелел, что ли. И наша дружба потяжелела, что ли?
– Ты, работая терапевтом, остаешься в хирургии. И поэтому принимаешь все правила игры нашего отделения. Это не приказ. Это дружеский совет.
Мне этот совет не понравился. Особенно выражение «правила игры». Оно, конечно, образное. Я не совсем тупой. Но Валька наверняка имел в виду нечто иное. А если нет… Если какая-то игра и впрямь существует? Как существуют и ее правила? Но тогда я вряд ли буду хорошим игроком…
Разговор с Валькой меня не успокоил. Я даже боялся, что мне будет сниться умерший на операционном столе. Но он так ни разу и не приснился. Возможно, потому, что я не запомнил его лица? И возможно, Валька был прав? Лица пациентов запоминать нельзя…