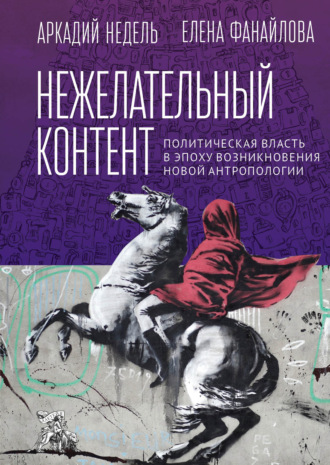
Елена Николаевна Фанайлова
Нежелательный контент. Политическая власть в эпоху возникновения новой антропологии
Дмитрий Доронин: Согласен, что основная функция политической речи – доминирование. Очевидны параллели между телеведущими, Жириновским и сказителями, людьми, уходившими в измененное сознание. Сказитель, конечно, не помнит наизусть весь свой эпос, это невозможно, и существуют разные объяснения, как это происходит. Одно из объяснений – теория Пэрри-Лорда: в голове у человека есть некий сценарий, некие ключевые элементы, которые он, начиная сказание перед аудиторией, разворачивает, нанизывая на эти ключевые элементы весь свой рассказ. У Жириновского, у телеведущих есть определенная программа, которой они фактически объясняют все. Объясняющая концепция – к чему должен прийти русский народ, к чему должна идти Россия, и на этот костяк они как бы нанизывают события, которые произошли сегодня. Здесь нет ничего нового, люди до появления телевизора таким образом обменивались новостями, получали представление о том, куда должен идти их народ, куда их должны вести правители. Неслучайно сказители говорили на пирах, и так далее. И в Жириновском мы видим такого персонажа – трикстера, шута, который немножко нарушает нормы, использует маргинальный политический язык, а не его официальную версию, это такая антиречь, во многом смеховой, абсурдный язык. И все это является способом, вместе с тем, одомашнивания большого сложного мира. И нужно все это рассказать так, чтобы было понятно человеку, который живет где-нибудь в Воронеже и сидит перед телевизором.
Аркадий Недель: Согласен во многом, но сказители, в отличие от политиков, не преследуют цели взятия и удержания власти.
Дмитрий Доронин: Язык власти, речь власти – это не только разговоры между народом абстрактным и государством, это и постоянная конкуренция, отношения подавления, подчинения, доминирования конкретных групп. В Республике Алтай есть религиозная группа – несколько сотен человек, которые критикуют власть, занимают антибуддистскую позицию, стоят на своих традиционных религиозных представлениях, и им запрещают выступать где бы то ни было, а часть их печатных текстов зафиксирована как экстремистская литература. Им нельзя говорить на конференциях, на народных собраниях, их не пускают, но они говорят: «Среди нас есть народные певцы-сказители, с музыкальными инструментами, и мы можем петь горловым пением, давайте мы споем благословление вашему мероприятию». В этой ритуальной ситуации им не могут отказать, и вдруг они начинают петь не просто про Алтай, но и про то, куда их Алтай катится, куда катится страна, они в эту старую мифологическую форму горлового пения вкрапляют критику продажной местной власти, которая продалась Китаю, еще кому-то. Это еще один маргинальный пример, когда язык изобретается народом в пику власти. Сопротивление власти – это тоже разговор, коммуникация с ней. Нельзя разделять язык протеста и язык власти, одно не существует без другого, одно порождает другое. Мне мои информанты говорят: «А ты знаешь, почему их никогда не запретят? Потому что тогда не с кем будет бороться». Отношения взаимной игры, подавления, на это выделяются деньги, это как бы свои домашние диссиденты, которые имеют свою допустимую речь протестующих, свое «оружие слабых», по Скотту.
О Милане Кундере
Как политическая травма повлияла на творчество одного из крупнейших европейских писателей?
Пражская весна, политическая и творческая активность Милана Кундеры. Советские танки в Праге как главная историческая травма Кундеры. Писатель в Чехословакии и после эмиграции. Явная и тайная жизнь героев Кундеры. Мотивы скорби и крушения надежды в его прозе.
Политическое измерение Кундеры: он отрицает политику в писательском методе, но постоянно занят ее существованием в ткани бытия.
Героини Кундеры и женственность (чувственность) его письма. “Писатель стеснения и неуверенности”. Чехословацкий и французский период Кундеры. “Искусство романа” и “Торжество незначительности”.
Бродский и Кундера как политические и литературные антиподы. Что значит быть гражданином проигравшей страны?
Обсуждают: Анна Наринская, критик, куратор; Павел Пепперштейн, художник, писатель; Аркадий Недель, философ, писатель; Томаш Гланц, славист, критик, университет Цюриха; кинокритик, главный редактор журнала “Искусство кино” Антон Долин.
Елена Фанайлова: Милан Кундера в контексте 1968 года. Этот великий европейский писатель чешского происхождения, пишущий на чешском и французском, представляется мне крайне важной фигурой для всего европейского культурного мира, человеком принципиально важным по своим технологическим приемам и мыслям. Он, по моему впечатлению, не остается только в ХХ веке, но дает пищу для ума и сейчас. За что вы любите этого писателя и человека?
Анна Наринская: У меня две причины его любить. Одна – чисто ностальгическая. Когда мне было лет 14, это был еще расцвет советской власти, моим родителям их иностранные друзья привезли книжку на английском языке «Невыносимая легкость бытия». И вдруг я в первый раз увидела, как можно на это посмотреть извне. Ситуация тайной свободы, которая тогда была в Советском Союзе для интеллигенции, поскольку никакого смысла ни делать карьеру, ни иметь с государством хоть какие-то отношения нет, и ты свободен и политически, и коммерчески. Заработать денег ты не можешь, поэтому сидишь на кухне и обсуждаешь Льва Шестова или Эллу Фицджеральд, совершенно не важно, что – ты занят тем, чем хочешь. Кундера посмотрел на это для меня тогда внешне: это был первый раз, когда я поняла, как эта жизнь выглядит. Второе: там есть просто такой прогон, который я до сих пор помню: какой-то не главный герой, а другой, он меломан, слушает Баха и «Белый альбом» «Битлз», и для него это равнозначные явления культуры. И вдруг я, девочка, воспитанная в иерархической системе, где была великая классика и все другое, чем надо пренебрегать, почувствовала, что это так. Конфликт великого и человеческого – для меня очень важный конфликт. Этот человек разговаривает со мной.
Павел Пепперштейн: Я люблю Милана Кундеру прежде всего за то, что он чех, поскольку мне чехи нравятся. Я в Чехии довольно долго жил и застал Чехословакию эпохи нормализации, как это называлось на политическом языке тех времен, которые он часто описывает из позднесоветского времени, после 1968 года. Специфическая атмосфера, которая хорошо передается в его произведениях. И хотя Кундера об этом не пишет, там был своеобразный и необычный уют, который пропитывал чехословацкую позднесоветскую реальность, и одновременно он присутствует (или мне чудится) в прозе Кундеры.
Елена Фанайлова: Присутствует, конечно. Кундера – великий бытописатель, причем не на предметном уровне, а на антропологическом. Он описывает, как человек соприкасается со средой, с материалами, с воздухом, с улицами, кафе и простынями в своем доме.
Аркадий Недель: Язык Кундеры, с одной стороны, бытописание, а с другой – это почти астральное проникновение в глубокие, очень сложно вербализуемые, чувствительные пласты. Когда я занимался чешским, я удивился: неужели на чешском языке можно написать такое? Это потрясающе. Неужели чешский язык выдерживает такую прозу? Я сравнил бы Кундеру с Платоновым, который занимает, видимо, то же место в стилистическом мире. И более неожиданное сравнение – с японской средневековой прозой X–XI веков. Митицунано хаха, «Дневник эфемерной жизни», где описание глубоких личных переживаний, ощущений, которые практически не вербализуемы и не поддаются описанию.
Ей это удавалось, и Кундере это тоже удавалось. Я сказал бы, что Кундера – женский писатель.
Анна Наринская: У меня напрашивается Сэй-Сенагон или что-то в этом роде, очень похоже. На уровне манифеста он это заявляет в «Торжестве незначительности”, прекрасный текст. Я противник эйджизма в литературе, и мне ужасно нравится, что он такой старый, и так прекрасно пишет, в этом нет никакой усталости. Эта книжка очень похожа на фильмы Эрика Ромера. Ромер снимал в 80 лет, снимал про молодых, все его герои очень молоды, и у Кундеры в этой книжке нет ни одного его ровесника. Эта книга для меня – манифест близкой мне мудрости. Хотя, если бы я перед Кундерой произнесла бы слово «мудрость», он плюнул бы мне в физиономию, для него это совершенно ненавистное определение. Он говорит буквально то, что вынесено в название: что важного и неважного нет. Человек не стесняется и находит в себе силы так декларативно это описать. Это важные, замечательные, нужные сейчас слова.
Аркадий Недель: Я думаю, когда ты работаешь на таком уровне чувственности, ощущений, возраста нет и быть не может. Он описывает 20-30-летних, и себя таким ощущает. Возраст появляется на поверхностных уровнях ощущений. «Бессмертие» – это путеводитель по европейской литературе, совершенно разные вещи, в том числе телесные.
Елена Фанайлова: Я сказала бы, что он, возможно, не женский писатель, но это тип женской перцепции.
Аркадий Недель: У него женская глубина.
Анна Наринская: Есть распространенное утверждение, по-моему, Вирджиния Вульф это говорила, и не только она, что романом может считаться только текст, где описана женщина. Описать женщину со всеми демонами в ее голове, со всей ее неоднородностью – это задача. А романы Кундеры – это и есть женщины, с этим я совершенно согласна.
Аркадий Недель: Радикализирую это утверждение. Его роман – это женское тело, с которым что-то происходит, а он исследует повороты, ощущения, импульсы, реакции на внешний мир, омоложение и старение.
Антон Долин, кинокритик: Он пришел в мою жизнь со страниц журнала «Иностранная литература», это была «Невыносимая легкость бытия». Меня поразило сочетание нескольких, как мне казалось, несочетаемых вещей. Автор может одновременно рассказывать историю про узнаваемых, интересных нам персонажей, за которых мы переживаем, ждем, что с ними произойдет, испытываем к ним отвращение или любовь, и одновременно с этим говорить с нами, но это не лирические отступления Пушкина в «Евгении Онегине». Он разговаривает с нами, растворяясь в этих героях и в прозе, обращая зрителя на самого себя, подставляя ему зеркало. Это зеркало вызывает у читателя, зрителя рефлексию иного уровня, чем рефлексия вокруг персонажей и этого переживания. То, что другим писателям удавалось только за счет привнесения отступлений, ухода в сторону, у Кундеры странным образом находится внутри цельного текста. Кундера невероятно интересный, его интересно читать, за его мыслью интересно следить. Это увлекательность не за счет спуска смысла на более примитивный уровень. В этом отношении, кажется, у него есть только один такой брат в литературе – это Умберто Эко (в его прозе, а не в научно-популярных трудах). Высокий постмодерн подарил нам таких писателей, способных говорить увлекательно об очень сложных вещах, не упрощая их и не поступаясь увлекательностью.
Елена Фанайлова: Кундера считал своим любимым предшественником Франсуа Рабле. Он говорил о том, что его привлекают романы не классического, толстовского типа, а странным образом сочиненные романы, в которых есть и история, и отступления, и некоторое безумие героев. Именно это и делает настоящую литературу.
Антон Долин: Кундера не только написал несколько упоительно прекрасных романов, но и посвятил всю свою эссеистику теории романа. Для него роман есть высшее достижение европейской цивилизации, роман для него начинается с «Гаргантюа и Пантагрюэля» и «Дон Кихота». Тогда форма романа еще не устоялась, еще не было толстовского, диккенсовского, флоберовского, бальзаковского романа. И он с противоположной точки спектра, где роман уже закончился, изобретал его заново, будучи таким же свободным по отношению к жанру, каким были и Рабле, и Сервантес, и Дени Дидро. Его «Жак-фаталист» – любимейшая книга Кундеры, которую он превратил в пьесу. Вспоминаю прекрасное определение, которое Рабле дал себе сам, разумеется, в шутку: в переводе Любимова это называется «извлекатель квинтэссенции». Кундера – извлекатель квинтэссенции, в этом он наследует великим пересмешникам прошлого. Еще одна важная вещь и про Сервантеса, и про Рабле, и про Дидро, чего часто нет у великих писателей XIX века: это невероятное чувство юмора.
Аркадий Недель: По поводу отношения к классике, Рабле – да, но там был еще и Гете, там много важных для него персонажей. Романы Кундера еще и музыкальные.
Елена Фанайлова: У него музыкальное образование, он какое-то время работал в этой области.
Аркадий Недель: У него бетховенская стилистика, при том, что это роман-тело. Кундера не психологический писатель, у него нет описания, и в этом смысле он порывает с классикой.
Елена Фанайлова: Поговорим про контекст 1968 года. Меня интересует в Кундере то, чего почти нет в русской литературе, кроме, может быть, «Доктора Живаго» Пастернака, когда герой живет в ткани политической истории. Вроде бы личная драма героя, его эротическая история, но ты понимаешь, что подкладка – это политическая история.
Анна Наринская: Я не совсем согласна: у нас есть Домбровский, другие писатели, тут важно восприятие. Многие читатели думали не о том, о чем мы сейчас рассуждаем, а о том, насколько это рифмуется с советской жизнью, насколько это воспроизводит взаимоотношения человека с государством, для многих людей это было ужасно важно и новаторски. Приличный писатель в Советском Союзе не опишет информатора сочувственно. Например, у моих родителей на «Шутку», когда они впервые ее прочли, была прямолинейная реакция: можно ли вообще интересоваться миром этого человека? Я говорю о людях, которые ненавидели советскую власть, жили в тайной свободе, внутренней эмиграции. Эта книга была поразительна для меня тем, что она побеждала это их предубеждение. Была похожая реакция на книгу Джонатана Литтелла «Благоволительницы», когда многие говорили: почему мы должны хоть на минуту интересоваться психологией этого кошмарного эсесовца, стрелявшего в евреев в Бабьем Яру? Мне кажется, здесь вопроса правильности или неправильности не существует, а существует вопрос – летит или не летит. У Кундеры точно летит. Для меня сила искусства меряется возможностью пробивания брони этих людей, очень жестоких, потому что они всю жизнь прожили в абсолютном отказе. У Кундеры здесь есть востребованность, потому что он очень рифмуется с нашим опытом.
Елена Фанайлова: Политическая его ветка, связанная с 1968 годом, это примерно пять романов на чешском, и дальше он к этому обращается во французской части.
Павел Пепперштейн: 1968 год можно считать антропологическим событием, он его так и воспринимает. У меня это вызывает аналогию с мультиками Миядзаки, где всегда присутствует атомный гриб, он может быть в жутком виде или, наоборот, в виде прекрасного дерева. Таким же образом 1968 год постоянно присутствует, перенаряжаясь в разные одеяния, в романах Кундеры. Он возвел эту национальную травму в ранг травмы личной, что сделали одновременно с ним очень многие чехи. В этом смысле, несмотря на переезд во Францию, несмотря на переход на французский язык, он во многом национальный чешский писатель. Есть несколько возможных мотивов для этой травмы. Прежде всего, конечно, крушение одного из самых интересных политических проектов, которые возникали в ХХ веке.
Елена Фанайлова: Вы имеете в виду коммунистический проект глазами Дубчека, глазами молодых коммунистов, которые приходят в это время к власти?
Павел Пепперштейн: Леволиберальный, социалистический проект, чтящий свободу личности, свободу высказывания. Другое крушение, не менее важное для чехов, это крушение надежды и любви к России. Это эдипальная травма, потому что тот гигантский организм, которому к 1968 году уже, как минимум, лет 200 делегировались надежды, упования, который совсем недавно оправдал эти надежды, освободив от фашистов, вдруг совершил невероятно подлый, отвратительный поступок, предательство. Тема предательства – центральная тема Кундеры, более того, это центральная тема для чехов вообще.
Елена Фанайлова: Вспоминаю знаменитую полемику Кундеры и Бродского, который завязал ее в 1985 году, после эссе Кундеры. Кундера написал небольшое предисловие к «Жаку-фаталисту», к той интерпретации, которую он делал на театре. Среди прочего он говорил о том, что отказался от театральной интерпретации Достоевского, поскольку сентиментальная агрессивность и худшие национальные качества этого писателя не позволили ему им заниматься. Бродский разражается разгромной статьей, где говорит, что сочувствует Кундере, когда он встречается с русскими танками, но русская культура не отвечает за носителей военной машины. Бродского это раздражало невероятно. В интервью Адаму Михнику, когда тот затрагивает эту тему, он даже называет Кундеру «чешским быдлом», что вырывается из контекста и используется сейчас неоимперцами – вот какой наш Иосиф молодец. Это очень неприятный момент в истории литературы, но очень важный, он говорит о многих комплексах как Кундеры, так и Бродского.
Анна Наринская: Сравнение Кундеры и Бродского – очень важное, не только из-за этой значительной интеллектуальной полемики истории ХХ века. Для Бродского важно облагораживающее влияние культуры. Не нравящаяся мне и, кажется, обманчивая часть его нобелевской лекции о том, что если бы тираны читали Достоевского, они были бы не таковы. Во-первых, это неправда чисто фактически, а во-вторых, это какое-то слюнтяйство, которого Кундера абсолютно лишен. В его книге «Нарушенное завещание» тоже много романтизма и преувеличений, но при этом у него очень трезвое отношение к роли литературы. При всей открытости Кундеры и магии его книг, у него есть трезвое понимание, что книжки значат. В этом смысле он гораздо более современный писатель, чем Бродский.
Аркадий Недель: Бродский уезжает в Америку, Кундера отправляется во Францию, он из одной проигравшей страны переезжает в другую, в общем, проигравшую европейскую страну. Для Кундеры в известном смысле история в 1968 году заканчивается.
Елена Фанайлова: Он перестает давать политические комментарии. Кроме того, что в 1980 году, когда его обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами, ему приходится отвечать.
Аркадий Недель: И здесь он берет на себя совершенно непосильную задачу – прочувствовать, я даже сказал бы, отчувствовать политическое. В 1968 году перед Кундерой встает понимание того, что от политического никуда не деться, оно вонзается в человеческое, и человеческое не уберечь от политического даже путем литературы. Единственный способ – построить мембрану из литературного текста, которая смягчила бы, по крайней мере, удар. Я думаю, с этим Кундера продолжает жить с 1968-го по сегодняшний день. Задача гигантская, сложная для любого писателя, потому что политическое по своей природе антилитературно и античеловечно.
Томаш Гланц: Милан Кундера очень занят политической тематикой, хотя позиционирует себя как писателя, который занят чисто антропологическими и художественными приемами. Он искренний сторонник Бахтина, которого уважает, как мы знаем из его эссеистики, именно как теоретика, показавшего, что у романа нет одной правды. В этом плане Кундера, безусловно, даже антиполитический писатель, поскольку он отказывается видеть политический посыл в художественном тексте. Но есть и более тонкие измерения правды, и одна из таких правд состоит в том, что он занят политикой практически во всех своих произведениях. Даже его последний роман содержит размышления о сталинизме, где герои в Париже вспоминают детали из эпохи Большого террора в Советском Союзе. Что касается его романов, которые возникали в Чехословакии, там это есть однозначно. Его первый роман «Шутка» был издан в 1967 году, он совпал с самым политизированным этапом жизни Кундеры. Он сделал осознанный выбор, уйдя от комментирования политических событий после эмиграции, не принимал больше участия в общественной жизни. Это потому, что он понимает позицию автора художественного текста как отдельную от самого произведения. Это очень правильно для политического восприятия литературы, поскольку политическое чтение не является некой редукцией литературного процесса на мнение самого автора. Мнение автора не важно, и даже содержание произведения не важно, а важно именно политическое измерение, некая политическая ткань, и возможность читать текст политически, даже когда он рассказывает о чем-то совершенно на первый взгляд не политическом. В этом плане Кундера очень любопытен. У него на заднем плане всегда такие мотивы, как эмиграция, выбор политической позиции, измена. В этом можно увидеть и параллели со скандалом, касающимся его молодости, который несколько лет назад ошеломил весь литературный мир. Наша задача, как читателей, находить к этому пути, которые были бы этим темам и приемам адекватны. Кундера в высшей степени эротический писатель, его тексты насыщены эротикой и сексом. Мне кажется, что в части чешской критики времен самиздата произошло несправедливое недоразумение, когда в том числе на основе и этого, его отношение считалось неуважительным к диссидентам, которые, в отличие от него, остались в Чехословакии. Были сформулированы упреки, что Кундера пишет не литературу, а китч, поэтому там много секса, все пишется для западного читателя, чтобы все было понятно, поверхностно и красиво. И это недоразумение, поскольку, если внимательно читать роман «Невыносимая легкость бытия», на основе которого эти упреки были сформулированы, становится понятным, что китч не является результатом творческого приема, он является темой Кундеры. Китч в плане восприятия ситуаций, в плане речевых актов, китч в плане ситуаций, которые повторяются в литературе, это занимает Кундеру в высшей степени. Но обвинять его в этом, как в неком грехопадении, это по отношению к автору – не на уровне его произведений.
Елена Фанайлова: Для меня это вопросы его свободы – политическое и неполитическое, эротический писатель или нет, китч как прием.
Анна Наринская: Поскольку нет определения, что такое – политический писатель, мне кажется, именно Кундера – подтверждение того, что любая хорошая литература политична. Поздний Кундера, его политичность, заключается в отрицании политичности. В романе «Торжество незначительности» нет рассуждений о сталинизме, но есть рассказ про сталинское сборище, где все вожди сидят, и самым важным на этом сборище является простатит Калинина. Это все про незначительность, и это еще какой-то вызов. Он говорит, что мы должны понять: они сидят за столом, Сталин подпишет сейчас приказ, люди будут расстреляны, но в этот момент самое важное – это простатит Калинина. Конечно, чешские диссиденты осуждали его – и за текст, и за то, что он не стал во Франции рупором чешских страданий, а стал писать на французском, и так далее. А он этим романом декларирует: вы хотите, чтобы я сел, наморщил лоб и говорил о преступлениях сталинизма, а я буду говорить про простатит Калинина. Поздний Кундера, после «Шутки», находится в серой зоне между прямым политическим заявлением и абсолютно осознанным отказом от него, и это и есть самое интересное и политичное, потому что мы все в этой серой зоне находимся.
Елена Фанайлова: Я рассматриваю политическое здесь как широкий вызов на ответы времени. Я думаю о политической истории, как ее определял Чеслав Милош: как человек в нее входит, как реагирует на нее своими внутренними эмоциональными щупальцами.
Павел Пепперштейн: Мы в этом разговоре сталкиваемся с неопределенностью понятия политического, и эта неопределенность есть главное политическое событие, с которым приходится иметь дело. Кундера, как настоящий гуманистический писатель-терапевт, предупреждает о том, какие могут быть тяжелые последствия.
Аркадий Недель: Томаш сказал, что можно тексты Кундеры читать как политические, но это ошибка, все с точностью до наоборот. Политическое считать человеческим – это задача Кундеры. Критиковать Кундеру за эротизм – это потрясающая слепота. Очевидно, что Кундера берет эротику в союзники для того, чтобы победить политическое. Эротизм в текстах Кундеры для того, чтобы сбалансировать, чтобы человеческое победило политическое, которое он пустил в свою литературу, даже не пустил, а которое ударило после 1968 года. Кундеровский эротизм – это фактически борьба с 1968 годом.
Анна Наринская: И в «Невыносимой легкости бытия» это конкретно описано.
Павел Пепперштейн: Это было характерно для чешских форм протеста против вторжения 68-го, когда парочки демонстративно целовались и лапали друг друга на улицах.
Анна Наринская: Если есть за что поругать Кундеру, то за то, что это у него сделано очень схематично. Он говорит, что есть серый, давящий мир, чаще всего мир политики, мир диктатуры, а иногда просто жизнь невыносима, а вот есть некое начало, которое тебя раскрепощает, делает другим. Но он на этом останавливается.
Елена Фанайлова: Любовный нарратив Кундеры всегда отравлен. Разрешима ли вообще коллизия политического и художественного Кундеры? Мы можем его критиковать с этой точки зрения, или он уже памятник?
Павел Пепперштейн: Я вообще нередко испытываю желание кого-либо критиковать, и мне нравится восхищаться. Кундерой получается восхищаться в зависимости от настроения. Сказать, что меня перепахали его произведения, не могу. Мне запомнилось общее состояние от произведений Кундеры, оно кажется мне приятным, гуманным. Что касается любви, есть такое прекрасное слово «озабоченность», и мне нравится в Кундере эта честная озабоченность, как у подростка, в этом есть что-то жизнеутверждающее. Конечно, любовь прекрасна, но и озабоченность тоже прекрасна.
Анна Наринская: Про озабоченность нам сообщает любой клип Мадонны, а про любовь постмодернизм нам запретил говорить. Умберто Эко в предисловии к «Имени розы» постулировал, что сказать «я вас люблю» невозможно. Мне не нравится этот подход, и я вижу, что Кундера немножко в эту сторону. Это то, что мне в нем не нравится. Он не говорит, что этого нет, но он говорит, что это нельзя сказать. Это дикая важность мысли, дикая важность думания как занятия.
Аркадий Недель: Критиковать писателя, у которого получилось создать хорошую литературу, не имеет смысла. Я всегда воспринимал Кундеру как писателя стеснения и неуверенности. Возможно, потому, что он переехал из Восточной Европы в Западную и как бы должен оправдаться, почему он там нужен, актуален, доказать французскому истеблишменту, французским читателям, что то, что он говорит, важно. Во всех его романах, которые я читал, даже в моем любимом «Бессмертии», этот мотив стеснения есть. И мне не хватает радикальности. Если говорить о сегодняшнем дне, радикальная мысль – это единственное, что может изменить ситуацию и в России, и в Европе, и где бы то ни было.


