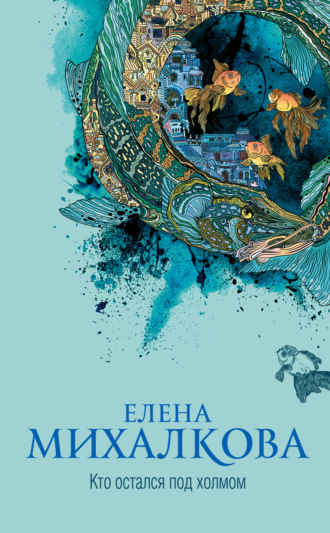
Елена Михалкова
Кто остался под холмом
Глава 3
1
– …маятник всегда качается обратно, – громко говорил Илюшин, перекрикивая шум машин с Пресненской набережной. – Вспомни популярность Карнеги. «Завоюй, окажи влияние»! А сегодня модно быть социопатом. Ненавидеть общество, максимально дистанцироваться от него, устало говорить «эти люди», имея в виду человечество в целом, и усиленно предаваться мизантропии в своем сетевом дневнике, заведенном, впрочем, с той целью, чтобы его прочло как можно больше народу. Мизантропия без зрителей – яма, с публикой – пьедестал. В медийном, извини за выражение, пространстве, которое, кажется, исчерпало за столько лет своих героев, наконец-то нашелся новый.
– Камамбер, – утвердительно сказал Сергей.
– Кэмбербэтч. А также доктор Хаус и разнообразные девушки с татуировками… Тут один подвох: герой – не настоящий сварщик.
– Почему?
– У Шерлока Холмса есть близкий друг, женщина и неистребимая потребность заниматься делом, неотделимым от помощи людям. Мы по-прежнему говорим о социопате?
– Э-э-э…
– Пока мизантропия хорошо продается, ее ярлык будут шлепать на лоб всем, включая Санта-Клауса.
– Ему в первую очередь, – заметил Сергей. – Живет один в глуши, к цивилизации выбирается раз в году, да и то по ночам. Неприхотлив, из всех домашних животных предпочитает парнокопытных.
– Не в кулинарном смысле…
– Этого мы достоверно знать не можем.
– Думаешь, у него каждый год олени новые?
– Думаю, мы пришли.
Они задрали головы, рассматривая небоскреб, в окнах которого жил искривленный город, отмытый стеклянной волной от грязи и уродства.
– Каков процент успеха?
Хозяин кабинета не смотрел на них, и Макар подумал, что было ошибкой соглашаться вести переговоры в чужом офисе. Для этого существовала квартира, где одна комната была его официальным приказом повышена до кабинета, хотя после нового назначения в ней ничего не изменилось. Но по телефону Оводов был так обходителен и в то же время настойчив, что Илюшин изменил своему правилу.
– Из последних десяти дел одно завершилось неудачей.
С губ Оводова сорвалось что-то вроде смешка:
– Другой человек сказал бы, что из десяти дел девять завершились успехом. Отчего вы провалили десятое?
– Нам удалось найти пропавшего, но он оказался мертв.
– Давно мертв?
– Полтора года.
– Это не провал, – покачал головой Оводов.
Он как-то сразу смягчился, недобрые резкие морщины разгладились. Губы медленно зашевелились: Оводов подбирал слова. Это выглядело так, будто с ними пытается говорить через стекло аквариума немолодой сом.
– Начните с любого места, – сказал Илюшин, видя его затруднения.
– Не в этом дело… Хотелось бы избежать исповеди, хотя она в известной степени оправдана, когда имеешь дело с людьми вашего рода занятий. Если подумать, врачи и следователи знают больше священников, потому что священникам признаются лишь в том, в чем считают нужным, а вам – в том, что было на самом деле. Я тяну время, видите…
– Эти картины. – Илюшин обвел взглядом кабинет, напоминавший музейную комнату. – Вы их выбирали, Иван Борисович?
Сергей Бабкин покосился на два пейзажа, висевших напротив. Он не разбирался в живописи и об этих мог сказать только, что на них пошло много краски.
Оводов улыбнулся.
– Их написала моя жена. Они ужасны, верно?
– Если относиться к ним как к живописи, – согласился Макар. – Но это ведь не она.
– Нет, конечно, нет. Все вещи, оставшиеся нам от тех, кто дорог, начисто утрачивают свой изначальный смысл. – Оводов говорил медленно, кивая в такт словам. – В этом перерождении меньше всего от попытки сохранить память о них, но много от попытки сохранить себя. Мне рассказывали о молодой женщине, которая после смерти любимого мужа два года носила его пиджак – он был велик ей на несколько размеров, она смотрелась в нем нелепо. Я помню, как в доме воняло акрилом, пока мы не устроили мастерскую, и как жена показывала мне новые краски и называла их по именам, как детей… Я помню охру и кобальт; Охра Степановна и Кобальт Андреевич, например. Каково?
«А ведь у него нет детей», – подумал Бабкин.
– Ваша жена давно умерла? – спросил Макар.
– Двадцать два года назад.
– То, что вы собирались рассказать, имеет отношение к ней?
– И да, и нет. – Оводов тяжело вздохнул. – В двухтысячном году мне написал дальний родственник, не кровный. Он просил помощи. Его мать – двоюродная сестра моей жены. Они не поддерживали отношения, но знали друг друга достаточно, чтобы он обратился ко мне, когда в его жизни наступило… трудное время. Я ему отказал.
Он подождал, не будет ли вопросов, но частные детективы слушали молча, очень внимательно; старший быстро записывал. Оводов удивился, что у них нет диктофона, и в то же время, сам не зная отчего, почувствовал нечто вроде признательности.
– Его приютила другая родня, такая далекая, что я даже не знал о ее существовании. Троюродный, четвероюродный дядя… Мальчик вырос в его семье.
– Мальчик?
– Двенадцать лет назад он пропал, – размеренно продолжал Оводов. – Мне не известно, искали ли его. Дело было заведено, возможно, все ограничилось отписками.
– Вы поддерживали связь?
– Нет. Никакой связи.
– Тогда как вы узнали о случившемся?
– Я позвонил его опекуну. Он не хотел со мной разговаривать, я узнал от него лишь о факте исчезновения. Самого Володю я видел всего два или три раза – его привозила мать, они останавливались у нас, когда он был совсем маленький. Сказать по правде, я не обращал на него внимания.
Он помолчал и обратился к Макару:
– Вы думаете, перед вами раскаивающийся богач, который спохватился, что перед смертью никто не подаст ему куска хлеба?
– Почти уверен, что ваша диета исключает употребление злаковых, – вежливо сказал Илюшин. – А если нет, вы всегда можете купить маленькую частную пекарню и договориться, чтобы трижды в день вам приносили в корзинке свежие круассаны.
Оводов усмехнулся:
– Не зря мне о вас говорили, что вы большой наглец.
– Маленьким быть глупо: спросу как с большого, а профита меньше. Вы хотите, чтобы мы разузнали, где сейчас ваш родственник?
– Да, и, если это будет возможно, поговорили с ним и убедили встретиться со мной. Об остальном я позабочусь сам.
Илюшин задумался.
– Иван Борисович, у вас есть доказательства, что он жив? Письма? Звонки?
– Ничего.
– Странные встречи, которые навели вас на мысль, что это был… как его зовут, вы сказали?
– Володя Карнаухов.
– …что это был Володя?
– Нет. Я не слышал о нем эти годы, а если встретил, то не узнал бы его. Это просто невозможно – я не представляю, как он выглядит.
Бабкин с Илюшиным без слов обменялись взглядами.
– Мы не возьмемся за это дело, – покачал головой Макар. – Мне жаль.
– Почему?
– Вы ведь пытались найти его сами, и у вас не получилось.
– Откуда вы знаете?
– Пытались или нет?
– Да…
– Если бы он уехал от своего опекуна, ваши помощники давно обнаружили бы его. Или он очень хорошо спрятался, или он мертв.
– Он жив! – Самообладание покинуло Оводова. – Послушайте, я знаю: Володя жив! Я чувствую это! Никогда еще ни в чем я не был так уверен, как в том, что он жив и нуждается в моей помощи!
– Тогда почему он не просит о ней?
– Я его бросил шестнадцать лет назад! На него обрушилось горе, а я не просто смолчал, нет! Я написал ему такое письмо, после которого… – Он махнул рукой, заговорил сбивчиво: – Сволочью был, сволочью! Радовался тому, что жены уже нет и никто не может меня заставить взять чужого пацана, повесить на меня это бремя. А ведь я ее любил… До сих пор… но радовался все равно. А сейчас… смотришь – где? кто? Кто я был такой? – Он глубоко вдохнул. – Прошу вас! Мне все равно, каким он стал! Пусть алкоголик, пусть наркоман… Преступник, больной – нет, не важно, поймите! Я приму его любого.
– Хотите исправить ошибку? – тихо спросил Макар.
Болезненная улыбка пробежала по лицу Оводова.
– Как же вы еще молоды! Простите мне эту пошлость… Но вы молоды, это факт. Иначе бы вы понимали, что ошибки нельзя исправить, их можно только искупить.
– Где жил ваш родственник? – после долгого молчания спросил Макар.
– Город называется Беловодье.
2
– Мало мне было Русмы, – сказал Бабкин, глядя в окно, где тоскливый пейзаж чередовался с унылым, а тот сменялся безрадостным.
По пути они видели несколько обезлюдевших деревень; часть изб сгорела, часть сгнила. Через дорогу от одной из таких сияла новенькая заправка: чистые туалеты, кофе в стаканчиках. Сергей вздохнул. Он одобрял новые заправки, но не мог отделаться от мысли, что в этом есть что-то от «Макдоналдса», возведенного на кладбище.
– Что есть русская провинция? – философски спросил Макар и сам себе ответил: – Бездорожье, алкоголизм и наличники. Жизнь течет вспять, город, вместо того чтобы усложняться, разрушается и пустеет. Какая разница, Беловодье или Русма.
– Вот и я говорю: никакой.
– На тебя не угодишь.
– Ты и не пытался.
– Не стыдно? – укорил Илюшин. – Я тебя в Грецию возил. Вернее, загонял пинками, но не будем придираться к словам.
Бабкин шумно вздохнул.
– Белла-водье! – произнес Макар тоном, каким экскурсовод провозглашает: «Фонтан Бернини». – Чем плохо? Пейзане шумною толпою по Беловодию кочуют!
– Тем, что мы едем туда на автобусе, – буркнул Сергей.
Как большинство людей, выделяющихся из толпы, он старался по возможности этой самой толпы избегать. Но Илюшин не позволил взять машину. «Ты читал описание города? Они до сих пор ездят на телегах. Твой джип там будет как НЛО посреди Тверской!» – «Сеном замаскирую». – «Не нужно провоцировать агрессию местного населения». – «А ты сейчас чем занимаешься?»
Правда, в автобусе, кроме них, ехали только две старухи в платках и священник с добрым лицом, то и дело поглядывающий на них, но стесняющийся своего любопытства. Мелкий дождь, не отстававший всю дорогу, незаметно кончился. Бабкин задремал, а когда открыл глаза, увидел впереди белую башню. Автобус фыркнул, как лошадь при виде стойла, вскарабкался на холм, подпрыгнул и встал.
Не было ни привычной сутолоки автобусной станции, ни курящих таксистов в разбитых «Жигулях». Старушки, священник и даже водитель автобуса исчезли, точно деликатность не позволяла им присутствовать при первой встрече приезжих с городом. На опустевшей площади под голубым небом ветер качал неведомую трын-траву и прыгал целеустремленный воробей, пытаясь выколупать из трещины в асфальте питательного жука.
– Здрасьте! – озадаченно сказал Сергей.
3
Достоверно известно было немногое. Родственника Оводова взял под опеку некто Герман Черных и перевез в Беловодье в августе двухтысячного года. В июле две тысячи пятого Карнаухов бесследно исчез. Герман был тем человеком, с которым пытался – безуспешно – разговаривать Оводов, и путь Илюшина с Бабкиным лежал к нему.
Отеля, если верить справочнику, в городе не оказалось. Дело было не в численности населения, бывают и меньше города, где главная площадь перерублена бетонной коробкой гостиницы, перед коробкой высится бетонный человек, а перед человеком растут цветы в тяжелых бетонных клумбах. Населенный пункт; последнее слово – как бетонная плита, под которой замуровано десять тысяч жителей.
Беловодье никто не назвал бы пунктом. Это был город – маленький, но город. Бетон в нем не приживался.
Бабкин с Илюшиным нашли приют так: брели по улице, увидели женщину на крыльце, спросили, где принято останавливаться добрым людям. У меня можно, радушно сказала женщина, если шуметь не станете.
– Чужие к нам редко ездят, – сказала она, показывая комнаты. – Далеко мы, а дороги – ну, сами понимаете.
– Вы знаете Германа Черных? – спросил Макар.
Она удивилась:
– Его здесь все знают. Это же Герман!
Одноэтажный каменный дом стоял чуть в стороне от главной площади. Небогатый, без лепнины и прочих излишеств, но опрятный, уважающий себя особняк с традициями. Над арочной дверью – выцветшая фанерная вывеска: то ли подлинная, то ли хорошая стилизация. «Фотографiя и художественное ателье».
Им навстречу, приветливо улыбаясь, вышел невысокий подвижный человек с живыми карими глазами и следами от оспы на желтоватой коже. В глубине просматривался задник, расписанный колоннами, а сбоку за пышной складчатой портьерой угадывалось еще одно помещение. Комната выглядела так, словно они провалились в прошлое в полном соответствии с вывеской.
– Он мерзавец! – взволнованно сказал Герман. – Ближайший родственник… Тьфу! Я знаю, что по линии жены, можете мне не рассказывать, но хоть капля сочувствия… даже у чужого, случайного, и то…
Он махнул рукой.
– При каких обстоятельствах мальчик попал к вам? – спросил Бабкин.
Илюшин покосился на него и с трудом удержался от смеха.
За портьерой оказался интерьер, сочетавший буржуазную роскошь с простотой сельского клуба. Пол был сколочен из грубых досок, возле окна три ветхих стула привалились друг к другу, как задремавшие в метро старухи. Но вдоль длинной стены бутафорская лестница вела к балкончику с балюстрадой. Под ней фотограф поставил три невообразимо огромных кресла, обитых алым велюром.
Илюшин сразу сдался на милость алого чудовища, провалившись в его пасть. Смириться с неудобным положением легче, если убедить себя, что ты сам его выбрал.
Бабкин был упрямее. Поэтому сейчас он походил на библейского Иону, в последний момент передумавшего сидеть три дня в промозглом сыром ките. А вот кит не передумал. Кресло неумолимо засасывало Бабкина, и Макар старался не смотреть на багровое лицо товарища, торчавшее, как пестик из раффлезии. «Впрочем, у нее, кажется, вовсе нет пестика».
– Четырнадцать! – Герман ссутулился у окна, сунув руки в карманы. – Володьке было четырнадцать, когда убили Полину. Он у меня первые два месяца молчал, а говорить начал, как сейчас помню, на День учителя, когда я взял его на съемку в школе. Я, знаете, не дикарь, я понимал, что нужен психолог, психиатр даже. Но – как? где? Понадеялся, что время лечит. Оказался прав.
– Полина – это его мать?
– Да. Смешно: она моя троюродная тетка, а старше меня всего на шесть лет. Мы играли вместе в детстве. Меня привозили в их дом под Вологдой, а потом я переехал сюда, а она вышла замуж за тульского, что ли, инженера… не помню, кто он был такой. Да что там помнить – такой же подлец, как этот ваш богач, Оводов. Бросил ее, едва узнал о беременности… а они не успели официально расписаться, я, кстати, думаю, что он и не собирался этого делать, просто пользовался тем, что она оплачивает съемную квартиру… В общем, сбежал. Полина родила, воспитывала Володьку одна. Характер у нее крепкий, мужской. Может, поэтому мальчишка вырос такой тихий… Они жили бедно, выживали, а не жили… Что там грабить! Колечко бабушкино? Мамины сережки с поддельным рубином? Она оказалась дома в неурочное время, а они явно не ожидали… Кричать начала, наверное… Обязательно начала! Зная ее… М-да.
Он тяжело вздохнул и притулился на краешке кресла.
– Володя остался один. Подумать только: на дворе двухтысячные, а он даже е-мейлы не умел отправлять. Компьютеров у них не было, в школе тоже… одна видимость этой несчастной информатики. Мальчик написал два бумажных письма. Одно послал мне, другое – Оводову. Телефоны он, бедолага, не смог отыскать в ее контактах, а адреса – вот они, ручкой в блокноте записаны. Я все бросил, метнулся за ним. Слава богу, там вошли в положение, обошлось без лишней волокиты. И вот, собственно, с тех пор…
– Расскажите, как он исчез, – попросил Макар.
– Я вернулся домой…
Из кресла Бабкина раздалось что-то вроде басовитого кряканья.
– Вернулись откуда? – перевел Илюшин.
– Каждый год я навещаю моего старинного друга. Мы вместе учились, а сейчас он живет в Кургане. Наум не совсем здоров… Я закрываю ателье на десять дней, иногда на две недели. Рыбачим или уходим с палаткой на озера. Володя сразу начал помогать мне здесь, – Герман обвел рукой ателье. – Я советовал ему поступать в институт, он отказался. Обучался потихоньку моему ремеслу… У него хорошо получалось развлекать детей: знаете, они ведь частенько начинают капризничать именно тогда, когда семья раз в год пришла в нарядных костюмах, чтобы сделать памятное фото. Володька их гениально успокаивал. Рожи корчил! – Герман улыбнулся. – Я покажу вам несколько портретов, которые получились с его помощью. Все хохочут! Нет этих протокольных рож, мертвых взглядов. Вы не представляете, как меняется мимика человека, когда он оказывается перед камерой.
Герман вдруг что-то сделал со своим лицом – и взглядам сыщиков предстал истукан с острова Пасхи.
– Ого! – сказал Макар.
Фотограф улыбнулся и снова стал самим собой.
– О чем мы говорили?
– Вы уехали к другу…
– К Науму, да. Он как раз в тот год попал в больницу. Когда оглядываешься, всякий раз видишь цепь совпадений; кажется, выдерни одно звено – и все остальное рассыплется, прошлое изменится. Я не мог отделаться от мысли, что если бы Наум не заболел, все обошлось бы. Но на самом деле это самообман. Я вернулся, Володи уже не было.
– Просто исчез? – недоверчиво спросил Макар. – Ни записки, ни звонка?
– Ничего. – Герман посмотрел в окно невидящим взглядом. – Пропали кое-какие вещи, но, понимаете, даже в этом я не уверен. Он время от времени покупал себе что-то новое, мне все это казалось однообразным…
В соседней комнате звякнул колокольчик.
– Извините, я на секунду…
Фотограф скрылся за портьерой.
– Вытащи меня отсюда, – сдавленным голосом потребовал Бабкин.
Илюшин поднял бровь.
– Вытащи, сволочь!
– Я сам, заметь, в плену.
– По сусалам тебе замечу, – пообещал Бабкин.
– А кто советовал тебе остановиться, когда ты разожрался до сотни?
– Это мускулы!
– Пришло их время, – заверил Макар.
Фотограф вернулся, удивленно взглянул на Сергея.
– Вы что, пытаетесь записывать за мной?
– Мы ведь, кажется, договорились… – начал Илюшин.
– Нет-нет, я о другом. Разве вам удобно?
– Не особо, – признал Сергей.
Герман наклонился, протянул ему руку и рывком вытащил Бабкина из кресла.
– Простите, наша мебель… Сам-то я к ней привык. Подарок мецената с… э-э-э… причудливым вкусом.
– Эх, и силища у вас, – оценил Бабкин.
– Эти кресла любят почтенные матроны, – пояснил Герман. – Догадайтесь, сколько мужей из десяти вспоминает о радикулитной спине, когда приходит время выуживать своих супруг? Я годами работаю подъемным краном. И вы, хочу заметить, далеко не самый тяжелый груз.
– Давайте вернемся к Володе, – попросил Макар, с оскорбительной легкостью высвобождаясь из велюровых объятий. – Как вы объяснили себе его исчезновение?
Крохотная, почти незаметная пауза перед ответом.
– Я решил, что он от меня сбежал.
– Вы его часто наказывали?
– Мы ссорились. Ему исполнилось девятнадцать, он хотел… Я не понимал, чего он хочет. Грубил, кричал…
– Вы сказали, тихий мальчик, – напомнил Илюшин.
– Да, да… – Герман прижал ладонь ко лбу. – Володя менялся. Я иногда не узнавал его. Но войти в свой дом и почувствовать какое-то пугающее изменение… Будто он стоял перед камерой – и вдруг сделал шаг из кадра за миг до того, как я успел нажать на спуск, а у меня осталась фотография с концентрированной пустотой. Вы замечали: когда кто-то уходит от вас, пустота сгущается, несмотря на то, что это противоречит ее свойствам?
– Мне жаль, – мягко сказал Илюшин. – Герман, вы полагаете, Володя жив?
– Я в этом уверен.
– Он писал вам? Звонил? – Фотограф молча покачал головой. – Но ведь прошло уже двенадцать лет…
Герман горько улыбнулся – в точности как Борис Оводов.
– Я думаю, Володя меня просто забыл.
4
– Уже второй человек заявляет, что Карнаухов жив, – сказал Бабкин. – Однако парень как в воду канул и никаких сигналов с морского дна не подает.
– В случае с Оводовым это объяснимо: он в экзальтации. Притча о блудном отце тоже имеет право на существование, а других притч в его библии, по-видимому, не записано.
– Я сейчас сделаю вид, будто понял, что ты сказал. Но у Германа-то эта уверенность откуда?
Фотограф подтвердил, что после исчезновения племянника он написал заявление в полицию. В Беловодье Карнаухова называли именно так – «племянник Германа», и постепенно тот и сам стал так говорить.
– Я побеседую с местными, – сказал Бабкин, имея в виду полицию.
– А я пойду в народ.
Лучшее, что может сделать незнакомец, – предъявить правильные рекомендации. Репутация чужака поначалу всегда величина отрицательная. Зачем приехал? Не будет ли от него вреда? Если люди, глядя на тебя, начинают задаваться подобными вопросами, значит, первый ход был неверен. Рекомендации – еще не ключ, но уже дверь.
Илюшину требовался человек, обладающий большим авторитетом.
– Герман, кто у вас в городе главный?
Надо отдать должное фотографу: тот сразу понял, что речь идет не о властях, и задумался.
– Священник, может? – предположил Сергей. Они видели высокую белую церковь с зелеными луковками куполов.
– Отец Георгий? Да, в какой-то мере. Но его скорее любят, чем слушаются. Негласная власть у нас – Кира Гурьянова.
– Кто это?
– Директор двадцать первой школы. У нас их четыре, но если говорят «школа» без номера, не сомневайтесь: речь о ней.
Здание школы было старым. Илюшин предполагал увидеть типичную постройку советского времени («хоть что-то типичное в этом городе»), но вновь ошибся в своих ожиданиях. Перед ним была бывшая дворянская усадьба, к которой позже пристроили дополнительные корпуса, выглядевшие как бедные родственники на приеме у генеральской вдовы. Вместо регулярного парка вокруг раскинулся старый яблоневый сад.
Внутри было светло и пусто. Макар подергал двери кабинетов: открыты. Это уже было почти возмутительно. Лето, в школе никого – а они двери не запирают! Правда, из соседнего коридора доносились женские голоса. Заглянув в учительскую, Макар узнал, что Кира Михайловна уже ушла.
Ее дом стоял на первой линии, у обрыва. К реке вела длинная пологая тропа; у самой воды на песке лежала лодка, сверху похожая на дольку каштановой кожуры.
«Ч-ч-черт», – мысленно сказал Макар, когда ему открыли.
Город преподносил сюрпризы на каждом шагу.
А ведь он мог бы догадаться. Он побывал в школе, видел старинное здание, содержащееся в безупречном порядке. Многие думают, будто жилища похожи на своих хозяев: справедливо для квартир, но с домами все иначе. Это хозяева обретают сходство со своими домами, пропитываются их духом, принимают их образ.
Некоторые школы – это не что иное, как очень большие дома.
Женщина, стоявшая перед ним, выглядела непримечательной и запоминающейся одновременно; подобное парадоксальное сочетание Илюшин встречал и прежде и хорошо знал, что за ним скрывается человек незаурядный. Ее умный проницательный взгляд подтвердил его опасения.
Илюшин представился и сообщил о цели своего визита. От Гурьяновой во многом зависело, как его примут в Беловодье. Люди в маленьких городах редко любят людей из больших городов, поэтому он постарался придать себе легкий налет провинциальности.
– Вы ищете Володю Карнаухова? – недоверчиво переспросила она. – Прошло двенадцать лет!
– Большой срок, – согласился Макар. – Я надеюсь, в вашем городе нам помогут.
Ее взгляд сделался задумчив.
Илюшин молчал, понимая, что любое слово может сработать против него.
– Пойдемте выпьем чаю.
Следуя за ней, он размышлял о том, хочет ли Кира Гурьянова чаю, выполняет ли долг гостеприимства или пытается выиграть время.
– Что сообщил вам Герман? – спросила она, расставляя чашки.
– Исчезновение Володи стало для него серьезным ударом, – уклончиво сказал Макар.
Воздух в доме пропах луговыми травами и полынью; аромат разносился свежий, словно поле было в соседней комнате.
– У него есть предположения?
– Герман думает, что Володя сбежал.
Гурьянова кивнула.
– Он в последнее время расспрашивал меня о больших городах – Володя, не Герман. Москва, Петербург… У меня сложилось впечатление, что ему давно уже тесно в Беловодье, но либо он стеснялся прямо сказать об этом, либо дядя возражал против его отъезда.
– Они с Германом ссорились?
Гурьянова сделала неопределенный жест:
– У них не всегда ладилось. Двое мужчин в одном доме, один из мальчика превратился в юношу…
– У Володи была девушка?
– Мне об этом не известно. Нет, думаю, что нет: он был слишком занят работой. Герман за много лет создал новую моду: люди фотографируются семьями по каждому мало-мальски значимому поводу. Уже нельзя представить, чтобы кто-то отмечал день рождения и не отправился в фотоателье. Понятно, что он руководствовался своими интересами, но в итоге это превратилось в традицию, очень милую городскую традицию. Его приглашают снимать все праздники, свадьбы, Дни города – кстати, он будет скоро. Поверьте, Герман не сидит без работы, и у Володи было не так много свободного времени, как ему хотелось. Может быть, он устал.
– У вас есть предположения, где он мог осесть?
– Ни малейших.
– Почему его не видели в автобусе, если он действительно уехал? – наугад спросил Илюшин.
Выстрел попал в цель: Гурьянова нахмурилась.
– Володя мог пойти пешком.
Макар выразительно посмотрел на нее.
– Расстояние приличное, – признала директриса, – но во-первых, после поворота на трассу его наверняка подобрала машина, а во-вторых, если он хотел скрыться от Германа, это был самый разумный вариант.
Илюшин сомневался насчет самого разумного варианта, но возражать не стал. Его что-то тревожило; он чувствовал, что упустил крохотную деталь, которая была важна.
– Как бы вы описали его, Кира Михайловна?
Она ненадолго задумалась.
– Как ни странно, Володя был чем-то похож на Германа. Он не подражал ему осознанно, был простым, довольно милым подростком… Добрый, отзывчивый. Как-то в разговоре я пожаловалась, что моему подопечному нечего носить, и он на следующий день принес свои старые вещи. Помогал делать мелкий ремонт в школе. Честно говоря, Володя был не самой заметной фигурой в Беловодье. Когда он только появился, о нем везде говорили, потому что знали, как трагически он осиротел, но Володя очень быстро стал… я бы хотела сказать «своим», но, скорее, неотъемлемой частью пейзажа. Кстати, у Германа без счета фотографий: на них видно, что Володя выглядел намного младше своего возраста. Совсем как вы.
Илюшин вздрогнул и уставился на Гурьянову.
– Совсем как я?
Директриса пожала плечами:
– Учителя умеют определять возраст.
«Не учителя умеют, а ты умеешь». Илюшин был зол на себя: он пропустил удар и теперь от неожиданности не мог собраться с мыслями. Гурьянова сочувственно наблюдала за ним.
– Где вы остановились?
– У Маргариты… Не помню отчества. Желтый дом с синим палисадником.
– А, Рита Скворцова. Чудесная женщина, вам повезло. Если она согласится приготовить для вас свой фирменный яблочный пирог… Его одного достаточно, чтобы у вас остались теплые воспоминания о нашем городе.
Илюшин понял, что разговор окончен. С мягкой решительностью его выставляли из дома и из Беловодья.
– Спасибо, Кира Михайловна. – Он поднялся. – С кем, по-вашему, общался Карнаухов, кроме Германа?
– Пожалуй что ни с кем… Разве что был такой Сеня Крамник, мальчик его возраста, жил неподалеку, но они с отцом пару лет назад переехали в Чехию, к родственникам. Не уверена, что он оставил новый адрес или хотя бы телефон.
Когда гость ушел, Гурьянова достала из кармана мобильный.
– Встретиться нужно, – сказала она, не здороваясь. – Срочно.
5
– Ты не поверишь! – Бабкин стянул футболку и швырнул ее на стул. – Они отказались со мной разговаривать.
Он был зол, как может быть зол бывший оперативник, обнаруживший, что для провинциальной полиции его принадлежность к тому же профессиональному сословию значит не больше, чем муха в стакане. Он мимолетно отметил, что сравнение получилось довольно странным, но в следующую секунду понял, что как раз таки набрел на исключительно верный образ. Люди, с которыми ему пришлось общаться, производили такое впечатление, будто каждый из них не задумываясь выпил бы пиво с мухой. Они просто не придали бы значения этой мелочи.
– Впервые в жизни вижу таких скудоумных, тупоголовых, безмозглых…
Бабкин обнаружил в свой памяти богатые залежи синонимов слова «придурок».
– Должен же быть в этом городе какой-то изъян, – заметил Макар. – Может, они агрессивны только к приезжим, а, вернувшись с работы, называют жену своей пушистой заей и плачут над хромыми котятками…
– Буэ!
– В чистом беспримесном подлеце есть что-то подкупающее, – согласился Илюшин. – Слюнявая сентиментальность – как ложка дегтя в бочке дерьма. Тебе совсем ничего не удалось из них вытянуть?
– Герман действительно написал заявление о пропаже Карнаухова. Все эти хмыри обосновались там давно и помнят эти события. Но в остальном – слепая зона. Мы даже не знаем, велись ли следственные действия.
– Что ты сам думаешь?
– Если бы ты видел их задницы, то понял бы, что они крайне редко отрывают их от стульев. Веришь – вот такие хари! – Бабкин показал руками небольшого бобра. – А что с директрисой? Макар!
Илюшин невидящим взглядом смотрел в окно. Сидела, сидела заноза в памяти, хотя он дважды перебрал весь разговор, и покалывала при каждой мысли о Гурьяновой.
– Илюшин!
– А? Что?
– Я говорю – встреча твоя как прошла?
– В целом Гурьянова подтверждает то, что рассказал фотограф, – задумчиво сказал Макар.
– Тебя что-то смущает в ее словах?
– Пока сам не пойму. Карнаухова она описывает как славного тихого паренька; говорит, ничем не выделялся. Каждая ниточка, за которую я пытался дергать, обрывается в руках. Друг-подросток уехал, и связь с ним утеряна. Девушки не было. В рейсовом автобусе его не видели. Человек-невидимка наш Карнаухов! – Он раздосадованно щелкнул пальцами. – И еще что-то фонит.
– В каком смысле? – насторожился Бабкин.
– Если бы я знал! Чисто по Эдгару По: письмо положили на видном месте среди бумаг, а я его не замечаю.
– Попробуй рассказать, – посоветовал Сергей. – С самого начала. Ты подошел к двери…
– Постучал. – Илюшин сосредоточился, поднял руку. – Там был звонок, кстати… Открыли через минуту. Высокая, лет пятидесяти, очень… м-м-м… примечательной внешности.
– Чем?
– Сочетанием несочетаемого. Черты, на первый взгляд, совершенно невыразительные, с фотороботом пришлось бы помучиться, при этом лицо дышит большой внутренней силой. Умная. Наблюдательная. Скрытная. Поздоровалась, выслушала мое объяснение. Удивилась… Стоп!
Илюшин обернулся к напарнику:
– Нашел! Когда я сказал, кого мы ищем, Гурьянова отреагировала незамедлительно: «Двенадцать лет прошло». Обычно люди говорят: «Это было, кажется, лет десять назад, или нет, одиннадцать… нет, все-таки десять». Единственный, кто мог держать в уме срок, – Герман.
– Быстро считает? – предположил Сергей.
– Не было ни секунды задержки. Ни одной! Зачем ей помнить, сколько лет назад незаметный юноша уехал из города?
Дверь приоткрылась.
– А ведь у меня там пироги с мясом стынут, – укоризненно сказала хозяйка, обращаясь исключительно к Сергею. Сегодня на ней был сарафан, который любитель пышных форм назвал бы соблазнительным, а ревнитель нравственности – непристойным. Бабкин забеспокоился.







