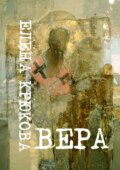Елена Крюкова
Врата смерти
Пелены. Пелены. Заверните меня в пелены. Может, я и сам силен. Я излучу сиянье. Я испущу свет. И пройду светом сквозь плащаницу свою. И воскресну сам. И никого мне не надо. Не надо мне Бога. Я сам! Сам!
Что ты делаешь. Гляди, какая боль идет по тебе огромными волнами, смывает тебя. Один ты не справишься. Ты хочешь уйти, а если ты не будешь молиться, то убьют и унесут тебя. Туда, где такая боль будет длиться вечно.
Вечно?! Разве есть вечность?!
Он опять схватил воздух ртом, зубами, как зверь хватает кусок последнего мяса. Они все! Те! Те, кто умер до него! Раньше него! Их убивали! Там, на аренах, в цирках, и весь амфитеатр глядел, как в грудь вонзали трезубец, как лев наседал на несчастного его брата, вбирая орущую голову в пасть, и зубы смыкались на висках, на темени, и кости хрустели, и кровь лилась! Вот им было страшно, да! Горящие живые факелы на крестах! Верую, Господи, и вечно буду веровать! Их сжигали живьем во Имя Господне, ты, жалкий раб, маловерный смертный! Ты мог бы так, как они?!
Бог, родимый… прости… я же не знаю, каково это… и я больше никогда, никогда не пройду Этот Путь, ибо он – последний… помоги мне!.. укрепи…
Он отцепил руку от блестящей стальной решетки, поднес, дрожащую, к лицу. Хотел перекреститься. Рука уже не повиновалась ему. Он только успел приложить сложенные щепотью пальцы ко лбу и к груди, а до правого плеча кисть уже не донес. Кисть. Живая кисть. Сколько холстов… сколько стен, храмов, фресок, церквей… какой черный, угольный фон, на таком фоне надо бы фигуры все прописать золотом, чтоб они горели, выступая из мрака, и нимбы намалевать тоже ярко-золотые, сусальные, чтобы входящие во храм сразу озарялись вышним светом, поднимали головы, крестились… крестились… он уже… не успел…
Мука мученическая подошла, подкатилась от ног через живот к его голове. Голова вспыхнула. Он, не открывая глаз, увидел – во тьме палаты разлилось гордое золотое сиянье. Радость. Сколько радости. Да, ему удалось все же это написать. Не сфумато. Не дымку. Не горький туман. Этот яркий, горний золотой небесный свет, сияющий невыносимо, победно. Через боль. Сквозь муку и скрежет зубовный. Сквозь навалившиеся, властные руки Тьмы, обнимавшие его любовней и крепче всех женщин, что когда-либо неистово, радостно, страстно, слезно обнимали его, встречаясь на миг, прощаясь навсегда.
Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа?
Я вскочила, помню, в ночном купе скорого трансевропейского экпресса, мчавшегося от Парижа – через Лион – Страсбург – Саарбрюккен – Нойштадт – Прагу – Чоп – Ужгород – в Москву, столицу нашей сошедшей с ума окончательно Родины. В купе было зачем-то три полки – одна над другой. Попутчика не было; муж улегся внизу, я – всегда любила этот птичий насест – вспрыгнула на верхнюю полку. Ночь, за кормой железного корабля осталась Злата Прага, ее башенки и мосты, ее бронзовый Рыцарь с золотым мечом, стоящий под мостом в реке, во Влтаве… Мы везли домой картины – муж написал их везде: в Париже, в Лионе, в Праге. Он запечатлел Европу, Европа побыла немного его натурщицей. Европа поработала, она старательно позировала художнику, и художник сосредоточенно писал ее, не скрывая ни ее возраста, ни ее морщин, ни ее высохших каменных рук. А вот глаза у нее были юные – зеленые, как Сена, синие, как Влтава, безумные, как безумная бурная Рона в обрамленьи кудрявых виноградников.
Муж спал. Поезд шел. Я проснулась.
Я проснулась оттого, что в наше купе вошел отец.
Он вошел в том теплом пальто, в котором он ходил зимой – в пестром, как перепелиное яйцо, с воротником из темной цигейки; на затылок сдвинул шапку – все ту же, мохнатую, белесую; и от него все так же хорошо пахло, приятными мужскими духами, счастьем и теплом, как всегда, когда я целовала его и прижималась к нему. Он стоял у двери и не приближался ко мне. И я прижала руки к груди и заплакала.
– Папа, – сказала сквозь слезы, – папа, что ты пришел?!.. Зачем ты пришел?!.. Ты же знаешь, как я тоскую по тебе! Как я люблю тебя! Ты же видишь, папа, как я стараюсь все в жизни делать, продолжая тебя, во славу твою! Я знаю, что ты не успел! Я успею! Я сделаю все, все…
Слезы захлестнули мое лицо соленой волной. Я посмотрела на лицо отца. Он тоже плакал. Я видела – слезы блестели во тьме купе, вспыхивали, когда поезд проносился мимо ярких станционных фонарей. Он так же, как я, прижимал руки к груди, и я видела пятна масляной краски на этих любимых руках, когда-то носивших меня, отиравших мне лицо от дождя и от снега. Отец, я хочу омыть тебе руки, омыть тебе ноги. Поедем домой. Я вскипячу воды, налью теплой воды в таз, сяду и стану мыть твои руки и ноги, всего тебя. Там, под землей… ведь грязно?!.. слякотно… и душно, и темно…
Он, плача, сказал:
– Мне плохо. Плохо мне, доченька моя!.. оттого, что ты страдаешь… что я чувствую, слышу твою тоску по мне… и не знаю, как тебя исцелить… чем утешить тебя… нет утешенья… нет…
Все во мне сжалось. Все во мне стало сплошной сталью, железом.
– Мне так жалко тебя! – крикнула я ему шепотом, глядя ему в лицо и не осмелясь взять его за руки – я боялась, ведь он был покойник. – Я все время вижу, как ты умирал, там, один, в больнице… Меня преследует это виденье… Будто бы это я сама умерла, я, а не ты… Это я, а не ты, хочу облегчить участь твою! Плохо в земле, под землей! Это я, я облегчу участь твою… Чем, милый?!..
– Я не в земле, – прошептал он. – Я хочу, чтобы ты поняла – я не в земле.
Поезд трясло, мотало на стыках рельсов. Огни бешено проносились за окнами. Мы въезжали из Европы в Россию, в безумную азиатскую страну.
– А где же ты?!.. – Я не могла дышать. Я видела – его фигура качается, тает в призрачном тумане ночного купе, за тускло светящимся зеркалом на двери. – Где же ты… скажи!.. Чтобы я могла молиться за тебя с радостью, а не со слезами… Я устала плакать о тебе, отец. Скажи мне – где ты?!..
И он внезапно улыбнулся, просветлев бледным лицом, и оторвал от груди руки, и протянул ко мне, и сказал. Его губы пошевелились – я видела. Но я не разобрала слова. Я не услышала его последнего слова, а он уже, напоследок осенив меня крестным знаменьем, попятился и вошел в зеркало, и глядел на меня уже из зеркала, оттуда, из отраженья сущего мира, и мне показалось – он стал не дальше, а ближе ко мне, и я въявь видела на его лице уже не слезы, а улыбку, и я потянулась к отраженью с вагонной койки, и коснулась дрожащими пальцами холодной поверхности зеркального стекла. А он все отходил, отходил вдаль, и мне казалось – он приближается, приближается ко мне, он обнимает меня, я в кольце его рук; и, когда он стал в зеркале совсем маленьким, исчез, растаял в ночном серебряном тумане, я поняла – он со мной, во мне, он стал уже не моим отцом, а сыном стал – глубоко во мне, во чреве. Это я теперь вынашивала его. Это я теперь должна была родить его, а не он меня. Я оглянулась. Деревья мелькали в вечной погоне за несущейся железной повозкой. Луна висела над миром спокойная, нежная, струя золотые слезы на укрывшие черную землю белым платом снега. Белый траур – траур Царей. Каждую зиму земля надевает Царский траур, хороня святых своих. Мой отец, Николай, ты тоже святой. Твои кости восстанут, оживут. Я насыщу их духом. Я наполню их жизнью, обволоку дочерней любовью своею.
Я упала лицом в вагонную подушку. Муж спал. Он не видел моих слез. Он не слышал, как я разговаривала с отцом своим, побеждая смерть.
А Луна похожа на нимб. На светящийся золотой нимб. Или на серебряный. Над невидимым ликом, над летящим духом.
Я тогда перекрестилась дрожащей рукой. Сложила руки на груди – так, как складывают их в гробу. Улыбнулась. Поняла: ничто не кончается. Душа плачет и длится. И тоска наша – тоже вечна.
Рельеф третий. Русская рулетка
Рынок, рынок, восточный, таежный рынок, продутый волчьими метелями, утыканный иглами драгоценного инея!
Танцуют торговки от холода; вот одна вареную картошку рассыпала по лотку, заворачивает покупателю в газету, поливает из деревянной ложки маслом, посыпает жареным лучком да перчиком. Где и сама картохи хватанет: мороз, и живот подвело, и сама стряпала, и деньга невелика, – съем-ка лучше с охотки, даром, что без селедки!..
А вот омулевая баба стоит, с ведром, полным шевелящейся рыбы: узкие, длинные сабли, живые сверкающие мечи Темучина, огнеглазых хуннов это, – не омули!.. – страшно их солить, наваливать гнет: они камень разорвут, ведро пополам рассекут. Идет древний омуль лунным ходом в томительной черноте заклятого озера. Манят его любовные рисунки горних звезд, ищет он жизни, а находит сеть. Баба, рыбачка! Ты не обижай его, омуля. Три священных зверя есть на земле: рыба, дракон, бык. Бык несет Солнце на рогах. Рыба Луну обвивает хвостом. А дракон все пытается их пожрать. Да отовсюду летят в него каленые стрелы, и кочевники скачут прямо ему наперерез, втыкая копья в напрягшееся горло, в подъятую хребтину.
А вон, видишь – дракона того китаяночка на черном кимоно вышила, кустарно, грубовато, и не шелком даже, а так, простыми нитками, да ничего, подходят, щупают, хвалят, – авось и купят. Замерзла маленькая китаяночка, нос порозовел, на ресницах тяжелое серебро повисло, – а смеется! Это рынок; это – Царство-Государство, со своими законами, со своею враждой и похвальбой. Мужик присел на корточки; чистит заскорузлыми ногтями вяленую чебак-рыбку, карман фуфайки бутылка темного пива оттягивает. Рядом с ним – раскорякой, холщовою лягушкой – мешок кедровых орехов чуть приоткрыт. Подкрасться… зачерпнуть горсть масляных орешков – украдкой… сыпануть в карман! Убежать… Засвистеть уже издали, за овощными рядами: эй, мужик, а твои орешки-то резво грызутся, в резучий снежок весело плюются!..
Небо пронзительно-синее – не облачный, ветреный лазурит, а прозрачный, кристальный сапфир царя Соломона. Если б не мороз – с жарою запросто глазу спутать! – так пышет с зенита яростною синью. Важно, хитро иди меж деревянными рядами, терпеливо примечай: вот на оснеженных лотках возлежат ярко-малиновые, с помятыми бочками гранаты – фрукт заморский. Кисляк – вырви глаз, ну, да Бог с ним! Раскосая гвоздично-коричневая старая бурятка сгорбилась над граненой банкой золотого меда, пытается ложкой зачерпнуть – заматеревший мед не дается! – только разрезать ножом, зубами куснуть. Вот и нож из чьей-то искореженной, почернелой руки подоспел; аккуратно отрезает старуха мерзлый ломоть меду, кладет на вощеную рваную бумажку, втягивает слюни.
А вот они, залитые Солнцем прилавки – знаменитые молочные ряды! Эх, желтое, медовое, густо-коричневое, розово-белое, цвета свежего семгового среза, молоко таежных коровушек! Лежит, милое, крепко на крутом морозе зальделое, на красиво расстеленных стираных да глаженых холстах – белые круги, сверкающие пирамидки, желто-искристые слитки, топленые железно-застывшие колеса – вот оно, любимое мерзлое молоко, застылые сливки: принесешь домой, в чугун положишь, в печь живо задвинешь – и дух разольется травный и сладкий, а в кружку ливнешь – полумесяцы солнечного жира пленкой сверху плывут, – выпил – чисто целый обед отпробовал! Старики в мохнатых шапках, бабы, скрюченные на морозе, в мужниных тулупах, греют руки, бьют себя по лопаткам, ухают по-ямщицки, переминаются, как застоявшиеся лошади, с ноги на ногу, матерятся беззлобно. Купите молочка нашего!.. От рыжей коровушки!.. Ох, бравое молочко-то!.. В конце молочных лотков, на пустом ларе, сидит: ссутуленная, в треухе драном, в валенках-катанках дырявых, на руках, как ребенка, держит ведерко, загляни-ка – два круга стылого молока, ярко-желтых, как два Солнца. «Что ты, баба?.. Почем отдашь?..» – «Возьми за так… замерзла я, однако. Она одна у меня, корова-то. Она – вся моя семья. Вот такой сказ. Возьми, поеду!.. Инда отморожусь вся… а до Култука – семь верст киселя хлебать!..»
Эх, а вот лимон! Это – дорого. Это – когда в кармане звенит громко, так, что с ближней колокольни слышно. А колокольня – вот она, нависает над рынком белою мачтой в синей бездне, белой коровой идет, звеня святым колоколом, по синему полю. Если звонят к обедне – весь гомонящий, гудящий рынок малиновым звоном заливает. Звон огнем греет в мороз, растапливает слои мерзлоты. Мужики снимают шапки, и метельный порх взвивает реденькие, на залысинах, волосы. Бабы и старухи крестятся – кто мелко, быстренько, поспешая и радуясь, а кто широко, истово, вкусно, гордяся. Торговка мехами Люба растопыривает веселей корявые охотницкие руки, на которых, как на ветвях, висят шкурки ею самой убитых зверей – лис, волков, росомах, иной раз меткий глаз и соболиную, преступную, шкурку приметит, – Люба только носом шмыгнет, рукою, сжатой в кулак, шкурку сильнее, показнее встряхнет, а не спрячет, не сховает от штрафа. Все гиль, трын-трава! Она, Люба, – стрелялка матерая, прищурка, шаманка, умеет и навскидку, и вслепую, и с прицелом, и хоть куда: ей в тайге – только попадись, сам в росомаху превратишься. Неверующий Богу молиться начнет. Скулы торчат, лицо как надраенная ножом сковородка, глаза утонули в припухлых кожных комках – и что видит щелочками?! – зверя видит, везде: на снегу, в норе, в сплетении ветвей, на вершине горы. Древняя кровь в Любе течет, – знающие люди говорят шепотом, что это – хуннская кровь, что один из ее предков был шаньюй, носил на лбу золотую перевязь и черные ритуальные рога, украшенные тряпками, вымоченными в крови убитых им медведей и козлов. Еще сообщали знающие старые люди, что шаньюй этот убил на охоте свою молодую жену, раскрасавицу, выпустил в нее издалека смертоносные стрелы с золотым опереньем, разящие без промаха – а сам-то он те стрелы и смастерил! – и крикнул своим воинам: что ж вы, стреляйте тоже! Кто-то из воинов заплакал, не смог, уткнул лица в конские гривы. Тех жалостливых трусов шаньюй умертвил сам. Так воспитывал он непобедимое войско. А сыну, что ждал его в юрте, играя с пустынным ежом, он завещал рассказывать о том, как умерла его мать, всем потомкам его рода. И сын его, и внук, и правнук, и все потомки, и вереницы их потомков послушно исполняли просьбу шаньюя, и так эта пролитая кровь докатилась до Любы, а у Любы уж не было детей, одинокая бобылка она была, только на шкурах спала и шкурами укрывалась. А уж мяса варила и жарила – вдоволь. И не своим нерожденным детям, а чужим сплетным людям рассказывала она про безумного, без промаха бьющего прадеда.
И всю жизнь охотница Люба на рынке стоит, зверье убитое продает, – а сама уже темна лицом, как гробовая доска, как черная икона.
Только что и любил ее один Иннокентий, байкальский омулевый рыбак, по прозвищу Коряга. Она оттолкнула его, когда он к ней жить попросился; Коряга пошел, купил две бутылки серебряной водки, пешком пошел на Байкал, отвязал чужую лодку, отплыл далеко от берега, медленно пил обе бутылки, глядел, как льдины печально, царственно плывут по зеленой парчовой воде, как радостно сияют под Солнцем розовые зубцы хребта Хамар-Дабана, а потом торосы поплыли по небу, и выпрыгнули к Корягиной лодке прозрачные рабки-голомянки, – и он к рыбкам потянулся, хотел их поцеловать пьяными губами, да так и кувыркнулся в хрустальную воду, и топориком пошел на дно. А когда Любе о том сказали, – прикрывая рот ладонью, горько морщинясь, шепотом, – она лишь молча осенила себя широким крестом.
А это кто – рядом? Девочка маленькая, в тулупчике, кошками ободранном! Как ее звать?
– Как зовут тебя, девчонка?..
– Ксенией!..
– Славное имя, старое…
За прилавком стоит баба молодая, лицо теплым платком обвязано; на девчонку смотрит строго. Должно быть, ее мать. Дают бабе малый грош заработать, громким зазывом нищий хлеб приторговать: кошма привольно разложена по колко блистающему пирамидками инея прилавку, и на ней – жмурьтесь, ахайте, осовелые люди! – холмы, бугры, пригорки оранжевых, пронзительно-алых, густо-медовых, золотых, как россыпи золотых хуннских монет из степных курганов, ягод, – они сыплются, ниспадают, переливаются на Солнце – дразнятся, вспыхивают, как граненый кушанский топаз! Ксении хочется зарыть в них лицо, руки, щеки, шею.
– Почем облепиха, хозяйка?
– Не дороже денег!
– А ну как и куплю?
– Помолюсь за тебя от души!
– Сыпь!.. Эх, е-да-ты-мое, сладка!.. Чище бурятского меда!..
Оборачивается баба в вязаном платке к девчонке.
– Ксенька!
– Что, мама?
– Не замерзла?
– Нет еще!
– А что нос-то белый?! Рукавицей потри! Быстро!
Ксения замерла у прилавка, исподлобья уставилась на мать. Она твердо знала: облепиха чужая, ей и ягодки не отколется. На наторгованные деньги мать купит ей сахару, чтоб не скучно было пить горький чай, и синего тощего куренка – долго будет в котле вариться суп, и три дня они будут с матерью есть его. И все же искушение задушило ее.
– Матушка, я ягодку стащу…
– Отлепись, девчонка!.. Побегай вон еще, согрейся, погуляй по рынку!..
Она дождалась неуловимого момента, когда мать чуть скосила глаза вбок, на ворону, прыгнувшую с застрехи к золотому ягодному блеску, ринулась тигренком, схватила в горсть огненных ягод – и сломя голову побежала вдоль рыночных рядов, окуная лицо и губы в холод и сласть. В ягодах были смешные плоские косточки – она их глотала: вместе с воздухом, морозом, инеем, колючками. Встала под воробьиным навесом. Слизала все с ладошки. Торговка горячей картошкой, увидев соплячку, покатала на руке дымящуюся картофелину, защипнула грубыми толстыми пальцами жареный лук, посыпала, протянула: «Ешь!» Ксения знала, что людей, тебя одаряющих, надо благодарить; знала она и то, что в ответ на благодарность из уст человека можно услыхать обидную, злую ругань. Темно поглядела она на испускающую пар картошку, качнула головою, и уши ее ушанки закачались.
– Нет, тетя, – сказала она. – Спасибо, тетя! Вы сами замерзли! И картохи у вас – мало!
И пошла от лотка гордо, как маленькая княгиня, озирая свои владения, любуясь яркими: небом, снедью, снегом.
Овечье-белый камень площадной, перед рынком возвышавшейся церкви неистово горел на солнечном ветру. Мелко, дробно, словно сыпались серебряные семечки из кожаной торбы, звонили колокола. Дверь храма была открыта, и оттуда тянуло пчелиным и тягучим запахом – ладаном, воском, праздником. Будто огромная мягкая лапа толкнула в спину Ксению. Она не пошла, а побежала к распахнутым церковным дверям, спотыкаясь, чуть не валясь носом в снег.
Взобралась по ступенькам. Протолкалась через коленопреклоненных старух в притворе. Впервые в жизни была она в большом храме, под куполом, в живом дрожании множества свечей, в излучении горячих, молящихся сердец. Еще ближе, туда, к высокому многоярусному иконостасу, к Царским Вратам, к алтарю. Что там? Кто?.. Люди в ряд стоят, босиком на расстеленных на каменных плитах циновках. Бородатый длинный человек в черном, до пят, мешке, с прозрачными, до дна просвечивающими глазами медленно перелистывает пухлую Книгу, разложенную на ящичке, прикрытом куском парчи. Что-то бормочет быстро, быстро – не понять ни слова. Рядом с ним – резная мраморная ваза, такие, Ксения видала, и в городских парках понатыканы. Другой бородатый человек в тяжелых серебрящихся одеждах наклоняется, зачерпывает круглым серебряным ковшом с витой ручкой из ведра, у себя под ногами, воды, льет в мраморную вазу, крестится. Подходит к стоящим в ряд людям – тут и мальчики, и исхудалые, с косичками-уклейками, девочки, и парень обритый, будто вчера из тюрьмы, в поношенных физкультурных штанах, и приземистая, широкоплечая баба на руках орущего младенца держит, а грудничок орет и извивается, выпрыгнуть из рук хочет, и баба качает его по-цирковому, ловко и опасно бросая с руки на руку, только б угомонился, – и девушки с горящими глазами и тощими шейками, высовывающимися из сползших на плечи монашеских платков, – и всем-всем мажет кисточкой из серебряной коробочки по лбу, по вискам, по груди, по ладоням, вот на корточки садится и – хвостиком кисточки раз-раз! – по коленям и ступням, – а поодаль, дальше всех, стоит русобородый мужчина, золотые кудри падают ему на плечи, узкие волчьи глаза горят темной кровью занебесных гольцов и священных пещер, мрачно сведены его брови, штаны закатаны до колен, он голый по пояс, и длинный бородатый человек в струящихся, как вода, одеждах выхватывает его из всего большого ряда присмиревших босых людей, стоящих на ковриках, цепляет за руку и ведет к мраморной вазе. Вот руки русобородого по локоть в купели. Вот быстро бормочущий что-то бородач набрасывает на его наклоненную беззащитную шею чистое полотенце. Зачерпывает ковшом воды из ведра. И льет на голову русобородому мужику – раз, другой, третий! Жидкое серебро воды мятно, железно сверкает, оловянным, спиртовым блеском течет с обнаженной головы и шеи – в купель. Вот уже в тюрбане полотенца отходит от вазы мужик, и бородач тихо надевает ему на шею черный шнурок. А это что блестит на шнурке? Ксения суется ближе, ближе, наступает на пятки шепчущим, крестящимся старухам, молодухам с грудниками на руках. Она видит – в густой поросли волос на груди русобородого мужика запуталась маленькая золотая стрекоза.
Не помня себя, Ксения кидается прямо под ноги бородатому:
– И у меня такой! Поглядите! У меня тоже такой есть!
Быстро, словно боясь опоздать куда-то, она распахнула шубенку, разодрала шарф, рванула воротник кофтенки. Крестящиеся изумленно, оторопело воззрились. Священник внимательно, испытующе склонился к маленькой девочке, зажавшей нечто в кулаке под подбородком. «Покажи! – ласково шепнул он. – Тебя в храме никто не обидит!..» Ксения, глядя прямо в глаза батюшке, медленно разжала кулак.
В грязном, замурзанном детском кулачонке истово, торжествуя, просверкнула бирюза – небесно-опасным, смертно-изначальным светом. Священник, молча рассматривая бирюзовый крест, подумал о том, что так горят на рассвете далекие святые горы Беловодья. А может, так горит Байкал, когда вокруг залягут снега и бесовски запляшут метели, а он все хранит живую синюю ласку по-мужски спокойной воды.
– Ты крещеная, раба Божия? – строго, блестя добрыми глазами, спросил он.
– Нет, – помотала головою Ксения и улыбнулась.
– А крест зачем тогда носишь?
Ксения смутилась, голову опустила. Молчала.
– Это я однажды спала, спала… а во сне его на меня мама надела, – еле слышно пробормотала.
– Так давай я тебя окрещу, – просто сказал священник. – Как звать тебя?
– Ксенькой…
– Что ж, Ксения. Опускай ручонки в купель. Наклоняй голову. Эй, восприемники, у кого-нибудь осталось сухое полотенце?..
Ксеньина шубка упала к ногам. Она, как новорожденный бычок, неумело, едва держась в равновесии, наклонилась над резной каменной чашей. И когда на нее сверху, из ночного запредельного мира, из страшного и прекрасного Мира Взрослых, полного звезд, крови, войн и любовей, обрушились потоки воды, она сначала задохнулась, потом стала ловить эту воду ноздрями, губами, не понимая, теплая она или холодная, сладкая или соленая, она чувствовала, что вода была ж и в а я, что она омывала ее для новой жизни, а священник, воздымая в худой руке ковш, говорил – и она слышала это ясно – о Потопе, об Омовении, о Гробе Господнем. Ропот людской кругами ходил по церкви. Слышались всхлипы.
Ксения подняла от купели мокрую, курячью головенку, коски протянулись по спине, меж лопаток, веревками. Священник набросил ей на затылок чистую тряпицу, промакнул влажные волосы, склонился и поцеловал, еле коснувшись жаркими сухими губами, бирюзовый крестик на девочкиной шее.
– Благодать на тебе, дитя, – произнес он, и прозрачные глаза его наполнились слезами, когда выпрямлялся над ней каланчою. – Мука мученическая и благодать. Ну, иди, раба Божия Ксения, и гляди, как можно дольше не купайся, потому что я тебя помазал миром и елеем, елей – это мудрость, а миро – любовь. Иди! Вот шубейка твоя.
Крещеные кучкой столпились вокруг нее. Кто-то плотней укутал ее в тулупчик. Кто-то – пощупал жадно бирюзу на шее. Кто-то сунул в руки просфору. Кто-то крикнул: «Ходят бродяжки всякие!.. И во храм их безнаказанно пущают!.. А вдруг у нее – вши!.. А с ее волосы состригли и тоже кинули в купелю!.. А тута старушки святые этую воду пьют, ить она благословенна!.. Гоните ее вон из храма, шельму, развелось этих собачат!..»
Священник резко и сурово обернулся на крик. Серебро его широких одежд раздулось, полетело по ветру, забредшему в церковь чрез отворенную дверь.
– Мороз, мороз, – тихо сказал он и прикрыл глаза. – Мороз души людские сковал. Эту мерзлоту – и Христос не растопит, ежели придет. Но Он придет. И мы Его в блеске света и славы узнаем.
Он, прищурясь, отирая ладонью пот со лба, следил, как девочка, внезапно и чудесно окрещенная им, шла неровным шагом к церковным вратам.
Ксения подбежала к выходу. Мороз, балуясь, пахнул ей в лицо. Она обернулась на прощанье.
– Покрести лоб-то! – шепнул чей-то хриплый голос грубо.
Она растерянно поглядела на свои руки, оглянулась на медовые, темно-золотые иконы. От горящих свечек пахло медом и маслом. Поодаль, за бьющимися огоньками, молча стоял человек с русой бородой, глядел на нее. Игла кольнула ее в то место, где в груди было горячее всего, где билось птицей.
Она у матери одна была. «Сирота» – говорили о ней люди. А может, это стоял и смотрел на нее из тьмы храма ее отец?
Она быстрее побежала к распахнутой двери, скорей на волю – и выпрыгнула из церкви, как из лодки-долбленки, в крутящуюся, верткую белую воду зимы, в стынь, алмазы и синь.
А вокруг!.. – люди сыпались седой хвоей, тащили в руках и на загорбках все, что можно было уволочь в свои утлые, теплые домишки – перевязанные шпагатами елки и схваченную инеем картошку, рыжие апельсины и турмалиновые гранаты в авоськах и длинные голые прутья багульника – авось средь зимы расцветет лиловыми звездами! – и каждому из многоочитой толпы хотелось в единственной жизни – праздника и любви.
И стояла Ксения перед Великим Рынком, и Великий Рынок, танцуя и крича: «А вот возьми!.. А лучше всех!..» – улыбался ей.
И во множестве криков Ксения различила один истошный крик:
– Девочку потеряли! Девочку потеряли!
Ксения надменно повела глазами – ну, уж это не ее потеряли, она-то на рынке своя, она не потеряется! – дернула плечом, повернулась против солнца и ввинтилась в пестротканую толпу, в кучно сбитые тулупы и дубленки, расшитые пимы и драные валенки, в нафталинные запахи старушьих поддергаев и в девичьи песцовые воротники, прячущие золото кос и нежные птичьи шейки. Рынок любил Ксению, и она любила рынок без оглядки, особенно воскресный – царский корабль, носом разрезающий снежное море, полный яств, игрищ, плясок, лошадок, каруселей, пирогов на лотках, леденцовых петухов во ртах у цыганских детей… – а это что там?!.. Ну-ка дай-ка я погляжу!.. Про такие дела мамка мне еще не рассказывала!..
На крохотном, ярком снежном пятачке возвышался длинный, как столб, дядька. В руке он держал черную железную игрушку, маслено блестевшую, поднимал ее к небу, размахивал ею. Резкий голос далеко разносился в густом пахтанье мороза:
– Налетай-подходи, от судьбы пощады не жди!.. Везет лишь раз в жизни, остальное – гиль!.. Всего один выстрел – и, если вы везун, вы получаете состояние, пожизненную ренту, дом в Калифорнии и библиотеку словаря Брокгауза-Ефрона!.. Цена жизни – жизнь, цена смерти… – голос прервался, и в пустоту хлынул дразняще-дикий гомон рынка. – Смерть!.. В обойме на шесть выстрелов – только один патрон!.. Тот не русский человек, кто не испытал судьбу!..
Молчание. Шорох инея, скрип под унтами, валенками. И – широко по рынку, над церковью, над взмывшей в лазурь грязной, дегтярной стаей ворон – крик:
– Русская рулетка!.. Русская рулетка!..
Ксения, растаращив глаза, ринулась ближе. Черная странная машинка в руке сухопарого дядьки вертелась над толпой. Рядом с дядькой вращался прозрачный целлофановый барабан с цифровыми насечками. Под цифрами, в каждом отсеке, видимые сквозь замасленный целлофан, лежали плотные пачки банкнот. «Деньги», – определила Ксения знающе. У них с матерью никогда их не было вдоволь. Она видела, как тряслись огрубелые руки матери, когда та вынимала из-за пазухи, из нашивного кармана, заработанные в больнице либо на рынке мятые засаленные бумажки: мало! Всегда их было – мало, чтобы вдоволь поесть, чтоб купить с лотка нарядную книжку, чтоб снять хорошее, теплое жилье – они так и зябли в больничном чуланчике! Мало! Мало было собачьих денег!
Еще шире стали глаза Ксении. Сверкнули. Она вывернулась из круговерти народа прямо под ноги длинному дядьке с железкой.
– Как играют в вашу игру? – сердито спросила.
Топтавшиеся рядом, на снегу, красноносые пацаны примолкли, стали дергать ее за края шубейки. «Дура ты! – шепнул один, судорожно шмыгнув. – Эта штука – револьвер! Ка-ак даст!..» Ксения лягнула его валенком, и он упал в снег. Длинные ноги дядьки, обутые в военные, на шнуровке, ботинки с заклепками, оказались совсем рядом с ней. Она задрала голову, чтобы поглядеть на дядьку, как на позолоченную звезду на вершине елки. Увидала небритый синий подбородок и раздувшиеся, как у лошади, ноздри.
– Эй, товарищ! – крикнула. – Я замерзла ждать! Дай сюда твою железяку!
Долговязый наклонился к ней. В глазах-рыбах, бившихся пьяно в накинутой сетке морщин, чешуею блеснуло изумление. Он покачался туда-сюда, дохнул на маленькую Ксению перегаром, опасливо отвел от нее руку с черной стальной заковыкой.
– Гуляй, гуляй, – бормотнул. – Гуляй отсюда. Мамка тебя ищет.
– Дай! – крикнула Ксения и протянула руку к железке.
Народ вокруг зароптал: «Ну чо… ну пусть поиграется… ну, у него там, вместо патронов, чай, небось каки-нито пугачки всунуты… Разреши ей, дяденька, позволь!.. ну чо тебе стоит… деньга-то у тебя настоящая… а револьвер-то – не настоящий… кто ж тебе бы настоящим-то тут вертеть позволил… пусть стрельнет… а куда стрелять-то надо?!.. ничо не объясняет, холера… да пусть пальнет, жалко, што ль!..» Длинный вздохнул. Мороз ел ему щеки, щипал за усы. Эта приставучая девчонка не отлипнет. Но ведь ему за нее Господь Бог задаст по первое число, если… если. Искра сумасшедшинки прошила его зрачки, он присел на корточки и вложил кольт в протянутые ладони девчонки.
– Давай крутану барабан, – прошептал хрипло. – А потом ты поднесешь эту штуку к виску… вот сюда, приставишь железную трубочку. И нажмешь вот здесь. Вот. Это «собачка».
– Где собачка? – сурово спросила Ксения, нахмурясь. – Эта железная сопля – собачка? Дядя! Что ты болтаешь! Собака живая и лает. Вот сюда приставлять? И все?.. И… нажать?
Дядька чуть не заплакал, глядя в задумчивое лицо Ксении, закинутое вверх, к небу, вызолоченное морозом. «Исусе-Мария, Исусе-Мария, она же девчонка», – прошуршал шершавыми губами, цапнул пятернею синюю щетину. Ксения недвижно стояла с тяжелым кольтом в руке, потом со вздохом подняла его, приставила к виску, как ей объяснил небритый фокусник, зажмурилась от напряжения и выстрелила. Созерцающие зеваки затаили дыхание. Синь неба взорвалась торосами света.