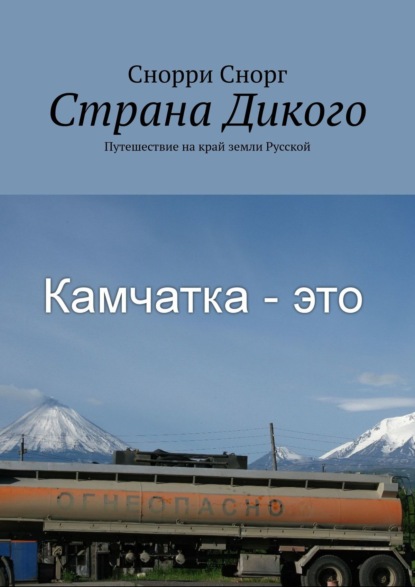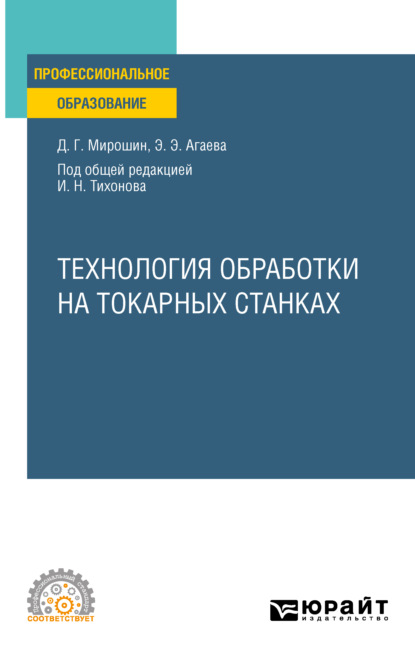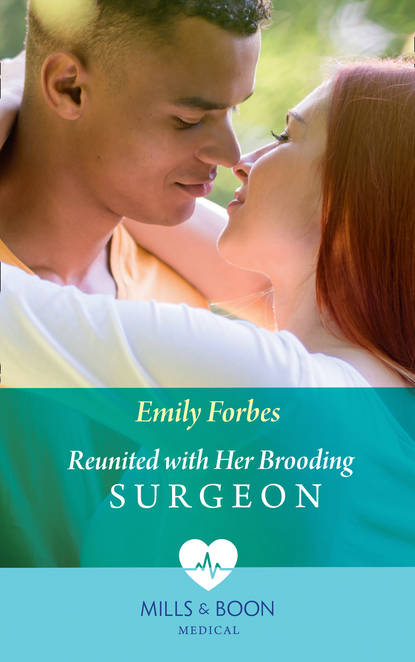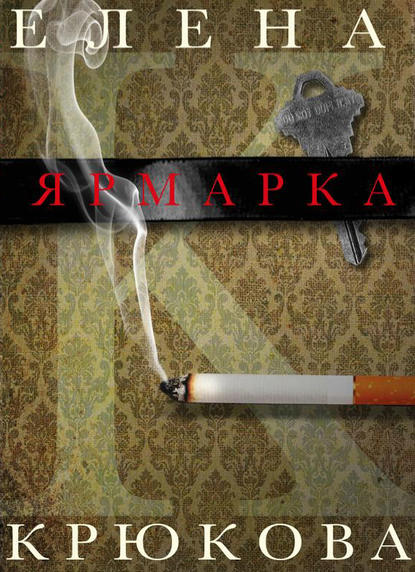Русский Париж
Русские в Париже 1920-1930-х годов. Мачеха-чужбина. Поденные работы. Тоска по родине – может, уже никогда не придется ее увидеть. И – великая поэзия, бессмертная музыка. Истории любви, огненными печатями оттиснутые на летописном пергаменте века. Художники и политики. Генералы, ставшие таксистами. Княгини, ставшие модистками. А с востока тучей надвигается Вторая мировая война. Роман Елены Крюковой о русской эмиграции во Франции одновременно символичен и реалистичен. За вымышленными именами угадывается подлинность судеб.
Полная версия:
Отрывок
Лучшие рецензии на LiveLib
Этот роман следовало назвать не "Русский Париж", а "Пасквиль на Русский Париж". Уже с первых страниц становится понятно, что автор о русской эмиграции слышала краем уха, видела краем глаза, поняла все не так, но уселась за "роман". Слог, стиль, словечки, эпите… Далее
Прочитала роман. Потом прочитала рецензии (отзывы).
И поняла, что вот точно, на вкус на цвет нет товарища. Прочитала на одном дыхании, вообще весь роман мне напомнил стихи. Или какую-то старую песню, как старинный романс. Хотя в нем есть и жестокие страницы. … Далее
Роман странный, и на поверхностный взгляд может вызвать противоречивые чувства. Ход такой постмодернистский: люди-куклы, эпоха показана набором эпизодов, "исполненных" в прозе как сжатые, упругие стихи. Лаконичный, даже чересчур, какой-то рубленый стиль. Все к… Далее