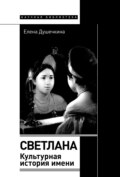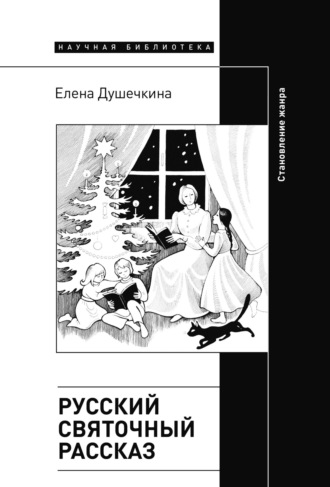
Елена Душечкина
Русский святочный рассказ. Становление жанра
Мне не удалось установить, в каком году была основана традиция проведения 1 января в Зимнем дворце «балов с мужиками», о которой мемуаристы первой половины XIX века упоминают как о давней[175]. П. И. Бартенев разъясняет, что это были балы,
на которых Государь и его семейство встречали Новый год со множеством народа, без различия чинов и сословий. Эти народные собрания бывали при нашем дворе испокон веку и прекратились, кажется, после польского мятежа 1831 г.[176]
О них вспоминает в своих мемуарах В. А. Соллогуб:
Народный маскарад в царских чертогах повторялся, согласно преданию, каждое 1 января. К определенному часу весь дворец освещался, двери отпирались. Милости просим, кому угодно![177]
Устройство «балов с мужиками» при дворце показывает стремление высших слоев общества создать по крайней мере видимость реализации самой сути праздника, состоящей в единении людей – без различия чинов, сословий и положений. Судя по всему, именно на таком бале происходит один из эпизодов повести Н. В. Кукольника «Леночка, или Новый 1746 год»[178]. О роскошном святочном бале в Таврическом дворце, устроенном Потемкиным незадолго до Пугачевского бунта, повествует Н. П. Вагнер в рассказе «Любка»[179]. Ко второй половине XVIII века относится также начало проведения городских праздничных увеселений[180] и знаменитых крещенских парадов в Петербурге[181].
Увеличению значимости зимнего праздничного цикла и разнообразию его обычаев в среде высших кругов общества в значительной мере способствовало перенесение дня Нового года на 1 января[182]. Хотя, как справедливо отмечает А. Ф. Белоусов, специфические новогодние обряды получили развитие прежде всего в городской светской среде[183], с перенесением «новолетия» на 1 января празднование Нового года коснулось и церкви. Уже с начала XVIII века возникают религиозные тексты, в которых речь идет о Новом годе, а в богослужебных книгах появляется чин последования Нового лета. Одновременно начали создаваться и слова проповедников, которые представляют собой приветственные речи в день Нового года. А. А. Покровский отмечает, что особенно много таких речей сохранилось от эпохи Елизаветы Петровны[184].
В это же время входят в моду календари. Постепенно у массового читателя они приобретают все большую популярность, зачастую являясь единственным его чтением. Вспомним в этой связи отца Петруши Гринева из «Капитанской дочки», действие которой происходит в первой половине 1770‐х годов («Батюшка у окна читал Придворный календарь, ежегодно им получаемый»), и дядю Онегина с его «календарем осьмого года» («Старик, имея много дел, / В иные книги не глядел»).
В XVIII веке возникает еще один городской ритуал святочного цикла – ритуал новогодних поздравлений и пожеланий. Древнерусской культуре он был не только чужд, но и враждебен. В этом отношении показательно послание Андрея Курбского пану Древинскому, в котором Курбский, яростно полемизируя со своим корреспондентом, отстаивает точку зрения о недопустимости поздравления с Новым годом и антропоморфизации неплотского времени[185]. Люди, воспитанные на просветительской философии XVIII века и лишенные поэтому суеверного отношения к слову, к обычаю праздничных пожеланий относились равнодушно. Так, П. А. Вяземский, например, писал А. И. Тургеневу 31 декабря 1835 года: «Ничего не умею желать ни себе, ни другому, потому что не понимаю [курсив П. В.] (concevoir – в смысле библейском) желаний»[186].
Со временем, как мы увидим далее, ритуал поздравлений и пожеланий выработал ряд специфических праздничных действий, таких как написание и рассылка поздравительных писем, нанесение обязательных праздничных визитов, декламация текстов поздравительного характера и т. п. Ставшие столь утомительными и скучными из‐за своей ритуальной обязательности «праздничные повинности» второй половины XIX века, многократно осмеянные в юмористической литературе этого времени, продолжая народную традицию святочных благопожелательных песен (колядок, щедровок и т. п.), непосредственно связаны с культурными новшествами XVIII века. Болотов вспоминает, как накануне Нового года его учитель (дело было в 40‐х гг.) сочинял от имени воспитанника поздравительное письмо отцу:
Пред приближением нового года вздумалось учителю моему сочинить поздравительное письмо родителю моему от имени моего с новым годом и заставить его меня переписать на белой бумаге с золотым обрезом…[187]
В XVIII веке возник также обычай декламации на Рождество рацей – специальных поздравительных стишков на рождественские темы, которые произносились быстрым говорком. Обычно рацеи декламировались мальчиками, получавшими за это подарки (деньги или угощение)[188]. Вот что в середине XIX века писал об этом обычае В. В. Селиванов:
Иные священники привозят с собою отпущенных, по случаю праздников, на побывку из духовного училища сыновей, которые произносят в стихах поздравительные приветствия[189].
Но если в XVIII – первой половине XIX века рацеи (или рацейки) чаще всего декламировались семинаристами, то к концу XIX столетия этот обычай распространился и на мальчиков из бедных городских семей, которые, таким образом наущаемые родителями, читали поздравительные стишки своим «благодетелям», ожидая ответного праздничного вознаграждения.
Акцентирование момента наступления нового года и его встречи проявилось и в создании новогодних текстов, рефлектирующих на тему уходящего старого и наступающего нового года. «Наконец сбыли мы с рук еще один год, убили триста шестьдесят дней и можем сказать торжественно: не видали, как прошло время!» – писал И. А. Крылов в праздничном номере своего журнала «Санкт-Петербургский Меркурий»[190].
Представленный здесь краткий обзор празднования святок и восприятия их в XVIII веке позволяет сделать некоторые выводы. В народной среде и в тесно связанном с ней мире поместного дворянства святки в основном сохраняют свои традиционные черты и продолжают праздноваться по-старому, вызывая осуждение и порицание духовенства, с одной стороны, и пренебрежительное отношение просвещенных кругов общества – с другой. В среде простых горожан, не оторванных еще окончательно от деревенской жизни, отчетливо видно противоречивое отношение к народным обычаям: наряду с органичной потребностью ежегодно в одно и то же время соблюдать привычные обряды, можно заметить чувство опасения показаться смешным и не соответствующим правилам этикета складывающейся новой городской культуры. Высшие слои общества, столичная знать и царский двор, вырабатывая свой праздничный ритуал, механически перемешивают в нем обряды и обычаи русских народных святок с праздничными компонентами, заимствованными у Запада.
Но в какой степени все эти различные тенденции проявились в литературе? Заведомо можно предположить, что тексты, развивающие и продолжающие традиции дворянского классицизма, игнорируют святки, считая их материалом «низкой» действительности, недостойной изображения в «высокой» словесности. Если не считать «календарных» (в том числе и новогодних) од, о которых уже говорилось, классицизм избегает святочной тематики и связанных с ней народных рассказов о святках. Иное отношение к святкам заметно в произведениях, вышедших из-под пера писателей разночинного круга. Здесь можно встретить как изображение святок и споры о них, что было показано на примере комедии «Игрище о святках», так и сюжеты, в основе которых лежат характерные святочные коллизии. В. В. Сиповский отмечает, что для героев романов XVIII века было типично «соблюдение старых обрядов при похоронах, свадьбах, гадание на святках, гулянье в Троицын день и пр.»[191]. По утверждению А. В. Терещенко 1848 года, «изустные рассказы о святках не превышают ста лет»[192]. Однако, судя по дошедшей до нас в списках XVIII века «Повести о Фроле Скобееве», действие которой происходит на святках и отнесено к концу XVII века, можно предположить, что в устном варианте этот сюжет уже бытовал в городской среде допетровской Руси. А это свидетельствует о том, что святочная действительность давала словесности вполне оригинальные сюжеты. Бытование как в деревенской, так и в городской среде рассказов о событиях, имевших место во время календарных праздников, и в особенности на святках, подтверждают те святочные тексты, которые дошли до нас от этого времени.
Со второй половины XVIII века некоторые литераторы демократического круга начинают осознавать культурную ценность народных обычаев и обрядов и видят в них один из способов разнообразия литературных сюжетов. К этому времени относятся первые этнографические и фольклористические работы М. Д. Чулкова, М. И. Попова, В. А. Левшина, чей интерес к народной культуре объясняется характерным для всего европейского предромантизма увлечением народностью, когда, по словам Пыпина, скорее чувствовалось, чем понималось, что в народном строе жизни «хранится что-то необходимое для нравственной жизни общества и для самой литературы»[193]. Этнографы и фольклористы XIX века нередко свысока смотрели на «научные» результаты своих предшественников, но те и не претендовали на научное изложение – они собирали, переделывали и издавали фольклорные тексты всего лишь «для увеселения читателей»[194]. Этнографические и фольклористические занятия неизбежно привели в конце концов к теме народных праздников, откуда возникает интерес как к народным календарным рассказам, так и к литературной их обработке.
Повествования XVIII века о «святочных» событиях немногочисленны, но все же они есть. Одни из них связаны с традицией рассказывания в городской среде разнообразных историй и анекдотов, в основе которых, возможно, лежали реальные события («Повесть о Фроле Скобееве» и тексты, с ней связанные), другие же представляют собой литературные переделки бытовавших в народе святочных быличек («святочные истории» М. Д. Чулкова).
«Повесть о Фроле Скобееве»
Первым дошедшим до нас произведением русской словесности, сюжет которого приурочен к святкам, является «История о российском дворянине Фроле Скобееве и стольничьей дочери Нардина-Нащокина Аннушке», более известная под названием «Повесть о Фроле Скобееве». Большинство сохранившихся списков этого текста относится ко второй половине XVIII века. Видимо, зафиксированная в письменной форме в Петровскую эпоху[195] «Повесть» эта, судя по ограниченному количеству дошедших списков, не имела широкого распространения. Со времени ее опубликования в 1853 году в течение многих лет она датировалась концом XVII века, но в настоящее время большинство исследователей склоняется к тому, что по крайней мере в своем письменном варианте она возникла в Петровскую эпоху[196]. «Повесть о Фроле Скобееве» представляет собой рассказ о ловком проходимце, бедном дворянине, сумевшем обманом, подкупом и шантажом добиться женитьбы на стольничьей дочери. Проникнув на святочную вечеринку дворянских девушек в женском платье, герой соблазняет героиню, после чего «увозом» женится на ней. В основе сюжета лежит встречающийся во многих народных святочных рассказах мотив розыгрыша, устроенного на святках молодым человеком. Многочисленные элементы текста, указывающие на первоначально устный характер бытования повести[197], свидетельствуют о том, что она в течение по крайней мере нескольких десятилетий (конец XVII – начало XVIII века) функционировала в устной форме и рассказывалась на городских сборищах и посиделках, возможно – святочных.
Впервые на «святочный» элемент этого текста обратил внимание А. М. Панченко, который охарактеризовал главного героя как святочного ряженого: «Ему не сидится на месте, ему „скачется“ и „пляшется“, как святочному халдею»[198]. Автор повести создает не серьезный мир, столь характерный для произведений древнерусской литературы, а скорее – мир фольклорной народной культуры. Именно святками оказывается обусловлен сюжет «Повести», а герой ее аналогичен участникам святочных игрищ: он играет, переодевается, одурачивает и шантажирует. Непрекращающаяся игра Фрола, начавшаяся с подкупа мамки и с переодевания в девичий наряд на святочной вечеринке, задает тон всему повествованию. Не из‐за этого ли сближения в Тихонравовском списке Фрол получает фамилию Скомрахова, имеющую настолько прозрачную семантику, что возникает предположение о неслучайности этой перемены[199]. На протяжении действия небольшой повести Фрол дважды дает взятку, дважды переодевается (сначала – в девичий убор, затем – в лакейское платье), дважды подкупает мамку, обманывает вначале мамку, Аннушку и всех девиц на святочной вечеринке, потом – стольника Нардина-Нащокина, затем стольника Ловчикова, которого к тому же и шантажирует, и, наконец, снова Нардина-Нащокина, теперь уже своего тестя, посоветовав Аннушке притвориться больной.
Сюжет «Повести», таким образом, строится на игре героя, чем он и добивается жизненного благополучия. Святки в этом сюжете занимают важное место: Фрол переодевается девицей для того, чтобы беспрепятственно проникнуть на вечеринку дворянских дочерей и соблазнить там Аннушку. Но, переодевшись, он оказывается в роли святочного ряженого, ибо, как мы видели, переодевание/ряженье было специфической чертой именно зимнего цикла. Среди возможных переряживаний, практиковавшихся во время святок, переодевание мужчин в женское платье и женщин в мужское было одним из самых распространенных и вместе с тем самых рискованных[200]. Согласно библейскому предписанию («Да не будет утварь мужеска на жене, ни да облачится муж в ризу женску». – Втор. 22: 5), церковью тип переряживания в противоположный пол осуждался в наибольшей степени. В. Я. Пропп пишет, что весьма распространенный на святках обычай «мены пола» трудно объясним, и до сих пор полной ясности по этому вопросу нет, но несомненно, что такое «переряживание имело эротическую подкладку»[201]. Тем самым переодевание Фрола представляет собой, с одной стороны, сюжетный ход, а с другой – реализацию одной из возможностей святочного поведения.
Кроме того, как мы уже видели, святочная обрядность была тесно связана со свадьбой – выбором суженых, гаданиями о суженых, высматриванием невест на святочных вечеринках и т. п. Одной из многочисленных игр, распространенных на святках, была и игра в свадьбу. На святочных вечеринках разыгрывались свадьбы, в которых «молодец женится на девице или женщине, а нередко женщины и девицы между собою или на молодцах»[202]. Иногда такие инсценированные свадьбы разыгрывались со многими подробностями, приобретая форму драматургического действа. Именно такую игру и затеяла мамка в «Повести о Фроле Скобееве».
В контексте святочных забав, «святочных дурачеств», приход Фрола на вечеринку в девичьем платье и эпизод спровоцированной мамкой свадебной инсценировки получает новое освещение: жизнь оказывается игрой, а игра в свадьбу, которую устраивает подкупленная героем мамка, оборачивается реальной свадьбой, причем с обратным порядком следования обряда бракосочетания – сначала происходит соединение героя и героини, потом их женитьба, и только в самом конце – получение родительского благословения. Этот обратный порядок свадебного обряда также объясним – он обусловлен спецификой святочного времени, в течение которого снимались половые табу и вступление в связь девушек и молодых людей не было редкостью[203]. О том, что на святках «бывает отроком осквернения и девкам растления», еще в 1551 году сообщал Стоглав[204]. Кроме того, своим обратным порядком, а также активной ролью женщины брак Фрола и Аннушки оказывается сродни языческим бракам, когда мужчины «умыкали» женщин, предварительно договорившись с ними, и когда сам брак «умыканием» считался особенно «славным»[205].
На фоне предшествующей литературной традиции включение в текст «Повести о Фроле Скобееве» описания святочной вечеринки выглядит демонстративно – это первое произведение русской литературы, в котором святки появляются в нейтральном контексте. В древнерусской письменности святки либо вообще не упоминались, либо о них говорилось в отрицательном плане. Но именно приурочивание «Повести» к святочному времени и создает стилистическую тональность всего дальнейшего повествования. С этим связан и эпизод «в нужнике» на том же святочном вечере:
И потом Фрол Скобеев пожелал итти до нужника. И был Фрол Скобеев в нужнике один, а мамка стояла в сенях со свечою. И как вышел Фрол Скобеев из нужника и стал говорить мамке… (Тартуский список)[206].
По сюжету «Повести» Фролу действительно необходимо было встретиться с мамкой наедине. Но для этого вовсе не обязательно было устраивать их свидание в нужнике. Подобная непристойность, «полунеприличие» – характерная черта «Повести», выделяющая ее на фоне предшествующей традиции. Сцена лишения «девства» во всех списках, кроме Забелинского, не описана подробно, но элемент непристойности есть и в ней:
И та мамка велела тем девицам петь громогласныя песни, чтоб им крику от них не слыхать быти <…>. И Фрол Скобеев, лежа с Аннушкой, и объявил ей себя, что он Фрол Скобеев, а не девица. И Аннушка стала в великом страхе. И Фрол Скобеев, не взирая ни на какой себе страх, и ростлил ея девство[207].
Подробности автору не нужны; он не то чтобы избегает их – он их просто не замечает. Впрочем, в позднейшем списке «Повести» (Забелинском) уже появляются детали любовной игры:
И Фрол Скобеев, будучи с Аннушкою в одном покое и на одной постеле, и он с Аннушкою играл и цаловался с нею, и за сиски еио он хватал неоднократно, как водитца муж с женою спать <…>. И как Аннушка стала с ним противится, – и Фрол Скобеев не стал много думать и схватил ея руки и растлил девства ея насилна[208].
Анализ речей действующих лиц «Повести», а также сопоставление их с текстами лубочных картинок[209] позволили типологически возвести ее к тем «„смехотворным“ рассказам, которыми забавлялись горожане на посиделках»[210] и которые, видимо, были аналогичны западноевропейским фаблио. Именно фаблио оказали воздействие на развитие европейской новеллы. В них постоянны образы мелких проходимцев, в них «преобладает отрицательный идеал» и «всюду царствует смех и культ успеха»[211]. Можно предположить, что практика рассказов типа фаблио существовала и в русском средневековом городе и что «Повесть о Фроле Скобееве» оказалась отражением именно этого явления городской культуры, что и ориентировало ее язык на стиль устно-разговорной речи, с одной стороны, и на низовые формы словесного и изобразительного искусства – с другой. Следствием этого сближения явились и непристойности «Повести»:
Интермедия, ярмарка и ее увеселения, ритуализированные формы календарных праздников, народный театр и лубок – те виды массовых искусств, которые подразумевали активную игровую реакцию со стороны аудитории, – подчинялись совершенно особым нормам морали, —
пишет Ю. М. Лотман[212]. Приурочивание завязки «Повести о Фроле Скобееве» к святкам определило ее сюжет, стиль, обрисовку главного героя. Все это позволяет рассмотреть ее как первый русский образец письменно зафиксированного текста со святочным сюжетом.
В 1785 году в составе сборника повестей Ивана Новикова «Похождения Ивана Гостиного сына и другие повести и скаски» была опубликована литературная переделка «Повести о Фроле Скобееве» – «Новгородских девушек святочный вечер, сыгранный в Москве свадебным»[213]. Интересно проследить характер этой переделки в связи с литературными процессами, которые наблюдаются в конце XVIII века. К этому времени рукописная история «Повести о Фроле Скобееве» еще не завершилась и ее списки были достаточно хорошо известны читателю. Так, о ней иронически и, как считают некоторые исследователи, пренебрежительно отзывается М. Д. Чулков в журнале «И то и сио» (1769):
По прекращению приказной службы, кормит он [подьячий. – Е. Д.] голову свою переписыванием разных историй, которые продаются на рынке, как-то, например: Бову Королевича, Петра златых ключей, Еруслана Лазаревича, о Франце Венециянине, о Гедионе, о Евдоне и Берфе, о Арзасе и Размере, о Российском дворянине Александре, о Фроле Скобееве, о Барбосе разбойнике и прочие весьма полезные истории[214].
Здесь «Повесть о Фроле Скобееве» перечисляется в ряду других популярных в среде демократического читателя рукописных текстов. Именно она и привлекает автора сборника «Похождения Ивана Гостиного сына» Ивана Новикова.
Книгу И. Новикова вполне справедливо рассматривали в ряду произведений писателей-разночинцев второй половины XVIII века – Лукина, Левшина, Чулкова[215]. Пренебрежительное отношение Чулкова к «Повести о Фроле Скобееве» представляется показным: иронически-ернический стиль характерен не только для этого высказывания, но для всего чулковского журнала, и в этом отношении его фраза о переписческой деятельности подьячего не составляет исключения.
Переделка И. Новикова неоднократно привлекала к себе внимание исследователей, причем чаще всего – в связи с «Повестью о Фроле Скобееве»[216]. Обработанная и приготовленная к печати «Повесть» получает новый статус – статус не рукописной, а печатной книги. Тем самым она переадресовывается и новому читателю – более просвещенному, пользующемуся печатной продукцией, читателю с другими художественными вкусами. В соответствии с этим Новиков подвергает «Повесть о Фроле Скобееве» существенной переделке: он модернизирует ее в духе массовой беллетристики второй половины XVIII века. В результате текст приобретает вид, весьма напоминающий прозу Чулкова – его «Пересмешника», «Пригожую повариху», «Горькую участь»[217].
Новое название («Новгородских девушек святочный вечер, сыгранный в Москве свадебным») свидетельствует об отказе от старого жанрового определения («История о новгородском дворянине Фроле Скобееве и о стольничьей дочери Нардина-Нащокина Аннушке»), связанного с традицией рукописной книги. Эта перемена названия сразу же акцентирует периферийный для «Повести о Фроле Скобееве» святочный элемент, который у И. Новикова становится доминирующим. Так, перед описанием святочной вечеринки в дворянском доме дается этнографический экскурс о праздновании святок на Руси:
Во время Святков во всех местах на Руси у обоего пола, возраста, достоинства и достатка людей бывают ночные сборищи, в городах комедии, в деревнях у дворян вечеринки, а у крестьян и у другой черни игрища[218].
После описания святочного вечера в текст включается отсутствующий в «Повести о Фроле Скобееве» эпизод катания со скатных гор во время Масленицы, в котором опять действует герой, переодетый в женское платье: «Не только во время святошного торжества в Руси бывают ночныя сборищи и забавы, то же самое случается и об Маслечной неделе…»[219] «Масленичный» эпизод появляется здесь не случайно. Во-первых, он продолжает тему переряживания, которая одинаково «господствует во время святок и на масленице»[220], а во-вторых, Масленица была праздником, главными героями которой были молодожены: обычай катания с гор только что поженившихся молодых пар существовал издавна. Герой и героиня новиковской переделки являются по существу молодоженами, ибо традиционная для святочных вечеров игра в свадьбу обернулась для них реальной женитьбой. Акцентирование святочного мотива усиливало и трактовку образа главного героя как святочного ряженого, связанного к тому же у Новикова с «нечистой силой» – «главный над такими людьми затейщик и коновод сатана»[221]. В «Повести о Фроле Скобееве» этот мотив оказался в значительной степени приглушенным, так что в течение долгого времени не обращал на себя внимания исследователей. Сам же И. Новиков как носитель той же народной традиции, что и автор рукописной повести, воспринял образ Фрола Скобеева именно под этим углом зрения и не только не снял, но даже углубил святочный ее элемент.
С традицией «святочных» повестей XVIII века иногда связывают и повесть Н. М. Карамзина «Наталья, боярская дочь»[222]. Здесь достоверность происшествия заверяется автором шутливой отсылкой на рассказ современников: «…намерен я сообщить любезным читателям одну быль или историю, слышанную мною <…> от бабушки моего дедушки…»[223]. Сын невинно осужденного боярина Любославского «увозом» женится на дочери любимца государя боярина Матвея, причем «увоз» совершается им не на святках, но зимой. Пособницей в этом деле является подкупленная дорогими подарками мамка героини. Венчание, как и в повести И. Новикова, состоится в сельской церкви по предварительной договоренности со священником. Боярин жалуется царю. Государь рассылает гонцов, которые ищут похитителя. Любославский, проявивший героизм на войне, представлен царю, который делает его своим другом. Все кончается общим примирением и взаимным изъяснением в любви. Действительно, в карамзинской повести можно увидеть некоторую общность сюжетных линий и мотивов с «Повестью о Фроле Скобееве» и с «Новгородских девушек святочным вечером» – женитьба увозом, устроенная мамкой героини, мезальянсный, как представляется поначалу, брак, испрашивание прощения у отца героини, благополучный финал[224]. Однако на этом совпадения и кончаются. Святки в повести Карамзина даже не названы, но лишь слегка намечены в описании игрищ, устраивавшихся для героини, чье патриархальное воспитание тщательно описывается автором:
Зимою, когда нельзя было гулять ни в саду, ни в поле, Наталья каталась в санях по городу и ездила по вечеринкам, на которые собирались одни девушки, тешиться и веселиться и невинным образом сокращать время. Там мамы и няни выдумывали для своих барышень разные забавы: играли в жмурки, прятались, хоронили золото, пели песни, резвились, не нарушая благопристойности, и смеялись без насмешек, так что скромная и целомудренная дриада могла бы всегда присутствовать на сих вечеринках[225].
Этот фрагмент текста понадобился Карамзину для того, чтобы усилить важное для него национальное начало и придать воссоздаваемой им жизни больше целомудрия и патриархальности.
С конца XVIII века тема народных календарных праздников, и в особенности святок, становится сигналом принадлежности изображаемой в произведении жизни в русской патриархальной среде, и именно это провоцировало впоследствии читателей карамзинской повести воспринимать ее в «святочном ключе». Так, Н. В. Дризен сообщает, что переделанная в «героическую драму с хорами» «Наталья, боярская дочь» ставилась в саратовском театре[226]; в рассказе Ф. Миллера «Балканские кумушки» («Москвитянин», 1842) герои святочным вечером читают «прекрасную повесть» «Наталья, боярская дочь», рассматривая ее как самое подходящее для этого времени чтение[227]; в 1805 году по мотивам повести Карамзина неизвестным композитором была сочинена одноименная опера, которая также исполнялась на святках. Все эти факты свидетельствуют о том, что «Наталья, боярская дочь», скорее всего без какого бы то ни было намерения со стороны ее автора, воспринималась читателями как произведение, «подходящее» к святкам. Обращение Карамзина к подобного рода сюжетам объясняется также его интересом к переработке исторических и семейных преданий. Иногда с «Повестью о Фроле Скобееве» связывают и семейное предание о женитьбе увозом петровского любимца рынды Панкратия Богдановича на дочери боярина Никиты Ивановича Зиновьева[228].
Сюжет «Повести о Фроле Скобееве» оказался достаточно привлекательным: к его переработке не раз обращались и литераторы более позднего времени. Скорее всего, или «Фролом Скобеевым», или же переделкой Новикова воспользовался и М. П. Погодин при создании повести «Суженый» (см. об этом ниже), а в конце 1860‐х Д. В. Аверкиев создал на ее основе «Комедию о российском дворянине Фроле Скобееве и стольничьей Нардына-Нащокина дочери Аннушке»[229], которая не без успеха шла на сценах многих театров России. Здесь драматург еще в большей степени, чем И. Новиков, обращает свое внимание на святочный эпизод и стремится как можно более точно передать этнографические детали. При этом он вносит в сюжет определенные изменения: герой появляется перед героиней не в «девичьем уборе», как это было в «Повести о Фроле Скобееве» и в переделке И. Новикова, а переряженный в бабку-ворожею. Чтобы не быть узнанным, он выбеливает усы замазкой, завязывает под самым носом платок и долго учится сидеть по-женски: «Ноги меня не слушают, все врозь едут, – жалуется он сестре. – Не умею по-вашему, по-женски сидеть. Примеривался на сундуке – не умею»[230]. Видимо, эта замена была вызвана осознанием неправдоподобия эпизода с переодеванием в «Повести о Фроле Скобееве», где молодой человек в женском платье проводит несколько дней среди девушек, и никто за это время не признает в нем мужчину. Даже если допустить, что Фрол, московский подьячий конца XVII века, брил бороду, что уже практиковалось в то время, все равно картина представляется маловероятной: ведь Фрол пробыл в доме Нардина-Нащокина три дня. Напомню, что именно на бритье бороды попалась «служанка» в «Домике в Коломне» Пушкина, что вызвало пассаж о специфике «мужской природы»:
Кто ж родился мужчиною, тому
Рядиться в юбку странно и напрасно:
Когда-нибудь придется же ему
Брить бороду себе, что несогласно
С природой дамской…[231]
Что же касается «Повести о Фроле Скобееве», то ни авторы, ни читатели, ни иллюстраторы не заметили (или не захотели заметить) этой несуразности. На иллюстрациях (опыт композиции на слова «Повести») в популярном издании Б. И. Дунаева 1916 года художник Н. Фрейман изобразил Фрола хоть и с жиденькой, но все-таки с бородой[232].
В «Повести о Фроле Скобееве», как и в произведениях устного народного творчества, простая мена одежды делает человека неузнаваемым. Для Аверкиева, ориентированного на эстетику середины XIX века, эта мотивировка оказалась явно недостаточной, и поэтому он заменяет ее более правдоподобной с точки зрения здравого смысла, тем более что новый «костюм» Фрола вовсе не нарушал святочного колорита текста: переодевание молодых людей в стариков и старух практиковалось не в меньшей степени, чем переряживание в костюм противоположного пола или игра в свадьбу[233]. Характерна в этом отношении реакция критики на постановку комедии Аверкиева: в 1876 году юмористический журнал «Стрекоза» помещает карикатуру на афишу спектакля и заметку, в которой высмеивается как само название комедии, представляющее собой стилизацию названий древнерусских повестей, так и ее сюжет, включающий в себя двукратное переодевание героя, что представляется автору заметки полной нелепостью: «…а на долю одного [актера. – Е. Д.] выпадает то и дело переодеваться; раз – для того, чтобы устроить свидание, два – для того, чтобы устроить похищение». Эта заметка свидетельствует о том, что карикатурист не сумел (или не смог) понять ориентации сюжета на святочную традицию. Впрочем, он имел на это основание, так как комедия была поставлена не на святках: «Если бы еще бенефис г. Виноградова, – замечает он, – случился на праздниках, мы бы понимали это „переряжение“, но после праздников это непонятно»[234].