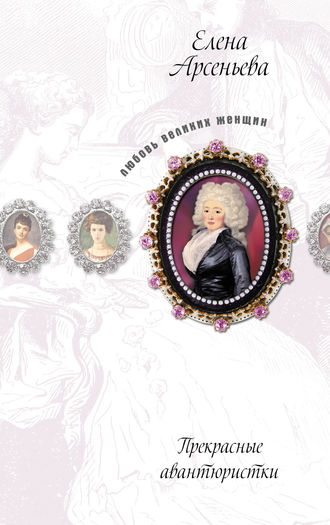
Елена Арсеньева
Авантюра, которой не было (Наталья Лопухина)
– Ваше величество… ваше величество! Все ждут выхода императрицы!
Голос распорядителя бала наконец-то достиг слуха Елизаветы, и та встрепенулась.
Ах боже мой! Она никак не привыкнет к этим словам: императрица, ваше величество… Никак не привыкнет к тому, что все ловят каждое ее слово, каждый благосклонный взгляд. Исполняют всякую причуду, пусть даже и стиснув зубы и втихомолку поминая государыню недобрым словцом.
Особенно доставалось от нее женщинам. Красивым женщинам!
Ибо красоток императрица не любила. Ни свеженьких, ни перезрелых – на дух не переносила. Будь ее воля, подбирала бы к себе в свиту только уродин, да вот незадача: бедна Россия уродинами. Куда ни плюнь, непременно попадешь в красавицу.
Однако мало родиться красавицей. Надобно еще иметь возможность красоту свою показать! А что помогает в этом женщине наилучшим образом? Конечно, платье!
Что и говорить, по части нарядов с императрицей тягаться мудрено. Хватит, наносилась она одно и то же беленькое платьице, «из економии» подбитое темной тафтой! Чуть взойдя на престол, Елизавета вменила в непременную обязанность всем купцам, привозящим в Петербург заморские ткани, ленты и кружева, сначала ей их показывать, давать возможность выбрать наилучшее, и только потом пускать оставшееся в продажу. И платьев у нее теперь столько, что даже если по три раза на день их менять, то чуть не на пятнадцать лет хватит. И ни разу не повторишься!
Однако императрице этого было мало. Мало! Она хотела непременно быть уверенной, что никто из придворных дам не сможет с нею тягаться. А потому запретила им носить платья наимоднейших фасонов и делать новые прически, прежде чем сама их не опробует, не насладится ими и не перестанет их носить. Тогда – пожалуйста, сколько угодно причесывайтесь! А покуда они в моде, красоваться имеет право только Елизавета!
Между прочим, несколько дней назад привезли модные картинки из самого Парижа. Оказывается, волосы нынче пудрят самую малость, трубчатые локоны красиво раскладывают по плечам, закрепив их на затылке, а одну прядь украшают каким-нибудь роскошным цветком. Желательно розою. Императрица только вчера первый раз явилась с новой прической и произвела фурор. Ах, как приятно быть единственной в толпе красавиц и знать, что никто более…
Что-о? А это еще что такое? Это чьи волосы завиты трубчатыми локонами, собраны на затылке, а одна прядь украшена розою?!
На мгновение Елизавете почудилось, что она видит в зеркале отражение собственной прически, – но нет, это было никакое не отражение, ведь у императрицы волосы рыжеватые, яркие, а эти блеклые, словно выгоревшая солома.
Кто посмел собезьянничать новомодную прическу?!
Кто, кто… да кто же иная, как не эта наглая статс-дама Наталья Лопухина!
Елизавета даже покачнулась, увидев ее. Звуки алеманы[1] и выражение голубых глаз Натальи Лопухиной словно отшвырнули ее назад – в прошлое. Словно бы опять сделался на дворе слякотный и снежный ноябрь 1741 года, и на ней, Елизавете, то самое тафтяное «економное» платьишко, и называют ее не Елизавета Петровна, а с насмешкой – Елисавет или вовсе Елисаветка, и стоит она, нагнув голову и дрожмя дрожа от страха. А перед ней невидная, с незначительным личиком вытянулась во весь свой невеликий росточек правительница Анна Леопольдовна (племянница!) и, поджимая губки, говорит высокомерным тоном, который эта девчонка, внезапно взлетевшая на невероятные выси богатства и славы, уже успела усвоить по отношению к своей тетушке-неудачнице, говорит страшные вещи! Обвиняет ее в сговоре с французами Лестоком и Шетарди, со шведом Нолькеном – и это в то время, когда Россия находилась в состоянии войны со Швецией. Анна, можно сказать, впрямую назвала Елисавет заговорщицей. А под конец пригрозила арестовать Лестока и подвергнуть его пыткам…
Как ни перепугалась Елисавет, у нее хватило ума не бухнуться на колени с покаяниями, а притвориться обиженной, заплакать и, разумеется, отрицать все эти слухи.
О, как хорошо помнила Елизавета тот судьбоносный вечер… Пусть Анна и отошла от нее, даровав прощение и предав упреки забвению, но три пары глаз словно прожигали ее насквозь. Трое смотрели на нее неотрывно, подозрительно, с плохо скрываемой ненавистью, и Елисавет знала: кабы воля сих троих, она сейчас, немедленно была бы закована в железо и отправлена либо в каземат Петропавловской крепости, либо прямиком в Сибирь, куда-нибудь в Пелым либо в Березов, а не то сразу была бы отвезена, скажем, на Коллежскую площадь, где для этой цели сладили бы наскоро эшафот…
Кабы их воля!
Этих троих, которые смотрели на Елисавет с нескрываемой ненавистью, она знала с детства. Степан Лопухин, из фамилии старых русских аристократов, жена его, Наталья Федоровна, урожденная Балк, и красавчик-германец Левенвольде…
Ну что ж, ненависть была взаимной! Елисавет даже не знала, кто из них троих вызывает в ней сильнейшее отвращение. Сам ли Степан Васильевич – родственник прежней царицы Евдокии Лопухиной, первой жены Петра Великого, затаивший зло против императора и за опалу родни, и за собственную ссылку? Он потом возвысился при Петре II: глупый мальчишка взял его к себе камердинером, и Степан только и знал, что интриговал против Елисавет, в которую ее племянник-император был ошалело, по-мальчишески, по-щенячьи влюблен… Кто знает, может статься, кабы не вкрадчиво-гнусные россказни Лопухина (капля камень точит!), Елисавет удалось бы одолеть и происки семейки Алексея Григорьевича Долгорукого, который так и заталкивал в постель к Петьке свою дочь Екатерину, и пересилить влияние Остермана, недоброжелателя дочери Петра Великого, и затащить-таки племянничка под венец.
А может быть, из этой троицы противнее других был все же Левенвольде? Некогда матушка Екатерина оказала ему свое благоволение, однако добро сей немчик позабыл очень быстро. И когда впоследствии царевна Елисавет стала делать ему авансы, он принял вид, будто ничего не замечает и не понимает… Более того! Обер-гофмаршал двора императрицы Анны Иоанновны Левенвольде из мелкой пакостности поставил однажды куверт царевны Елисавет не на надлежащее место, а где-то в самом конце стола! Только чтобы унизить дочь Петра Великого!
А впрочем, Степка Лопухин и Левенвольде – это просто ничтожества, игрушки в руках опытного кукловода. «Истинная гадина меж ними, – угрюмо подумала Елисавет, – это она, Наталья Лопухина! Она ими и вертит как хочет. Слепы люди, что ли, когда называют эту долговязую немку первой красавицей двора?! Небось так усердствуют пред ней лишь потому, что хотят подольститься к правительнице, которая к Наташке благоволит. Нынче все немецкое в чести, все русское позабыто, вот и лебезят перед урожденной Балк! А глаза у нее слишком светлые, какие-то выцветше-голубые, волосы – выгоревшая солома, вдобавок никакой приятной округлости в фигуре, тоща: вон ключицы торчат, смотреть не на что!..»
– Ваше величество!!!
Елизавета посмотрела вокруг с некоторым недоумением, словно просыпаясь от слишком крепкого сна.
Господи, благодарю тебя! Воспоминания завладели ею слишком властно. Пугающие воспоминания о том, как легко могла бы прерваться ее жизнь в тот давний вечер, когда три пары глаз смотрели на нее с убийственной ненавистью… А между тем все это далеко-далеко в прошлом. И ее враги получили свое. Мерзкий Левенвольде сослан в Соликамск, Степка Лопухин сидит в заплесневелой Москве, носа не осмеливается показать в столицу, а Наталья Лопухина…
Увы, долговязая немка по-прежнему пребывает при дворе. Ну что за туман нашел на Елизавету, что она оставила при себе эту клячу, мало того – дала ей звание статс-дамы, а дочь определила к себе фрейлиной?! Решила: пусть живет Лопухина, довольно с нее острастки.
Вот она и живет, да еще как! Цветет пышным цветом! Ч-черт бы ее побрал. Старуха, она ведь сущая старуха, на десять лет старше Елизаветы, ей сейчас… ну, словом, ей сейчас на десять лет больше, чем императрице. Взрослый сын, дочь на выданье, самой Лопухиной давно уже пора на печке сидеть, былую молодость вспоминать! Нет же, пляшет на балах так, что молодые кавалеры с ног сбиваются, нагло и щедро обнажает свои прелести, которые, вопреки законам природы, вовсе не выглядят увядшими. Ах, до чего же хочется назвать ее старой развалиной, но язык не поворачивается. Ровесники сына так и падают к ее ногам… Что и говорить, она любой молодой красотке из свиты императрицы даст такую фору! И эта роза, модная, запретная роза в прическе идет ей небывало!
Ишь, стоит с вызывающим выражением, прищурила свои блеклые глазищи! А на устах что трепещет? Неужто улыбочка? Да какая дерзкая! Ох, Наталья Федоровна, не доведет тебя до добра твоя бравада! Наконец-то ты получишь урок – такой урок, какого давно заслуживаешь!
Трепеща равным образом от лютого гнева и от предвкушения предстоящего отмщения, Елизавета большими шагами подошла к статс-даме Лопухиной и вдруг рявкнула, перекрывая музыку:
– На колени!
В зале настала мгновенная тишина. Лопухина стояла неподвижно: то ли не сочла нужным повиноваться, то ли не поверила ушам, услышав этот почти гвардейский окрик, вполне достойный самого Петра, который, когда надо, умел так возгласить, что стеклянные кубки раскалывались вдребезги. Тут Елизавета ударила Наталью Федоровну по плечу, и та невольно рухнула на колени. Продолжая удерживать ее и не давая подняться, императрица крикнула:
– Ножницы мне подать!
Настало секундное замешательство, после коего ножницы были извлечены бог весть откуда, быть может, даже из-под земли, и поданы на серебряном подносике. Дрожа от ярости и наслаждения, Елизавета схватила их правой рукой, в то же время левой вцепившись в прядь светлых волос, украшенную розою.
Чик-чик! – и локон вместе с цветком свалился на пол. Императрица уставилась в расширенные, как бы незрячие глаза Лопухиной, которая от неожиданности и ужаса, чудилось, потеряла способность соображать, и со всего плеча отвесила ей две пощечины. А ручонка у Елизаветы была тяжелая, батюшкина…
Наталья Федоровна так и завалилась навзничь.
Императрица сделала четкий поворот через левое плечо – ать-два! Самое тесное общение с гвардейцами, которые возвели ее на престол, не прошло даром! И проследовала на середину залы.
Улыбнулась музыкантам, чтоб продолжали играть:
– Алемана, господа! Танцуем алеману!
Все засуетились, освобождая середину залы для выхода первых пар. Елизавета осмотрелась, выбирая себе партнера. Она любила танцевать с маркизом Ботта д’Адорно, посланником австро-венгерской королевы Марии-Терезии, и сейчас послала ему приглашающую улыбку.
Маркиз, темпераментный, как итальянец, и галантный, как француз (он и был наполовину француз, наполовину итальянец по рождению!), немедля устремился на зов, с озабоченным видом огибая по пути группу придворных, которые над чем-то суетились.
– Что там такое? – спросила Елизавета, нетерпеливо помахав ручкой, чтобы люди разошлись и не мешали танцевать.
– Осмелюсь доложить, – подсунулся к плечу распорядитель, – статс-дама вашего величества Лопухина упала в обморок.
– Ништо ей, дуре! – фыркнула Елизавета, подбирая юбки и выставляя кончик башмачка, чтобы изготовиться к первой фигуре.
Она подала правую руку маркизу Ботта, однако тот не принял ее, а словно бы даже отшатнулся.
Елизавета удивленно воззрилась на свои пальцы, которые все еще сжимали ножницы.
– Ах да! – хихикнула она и небрежно сунула их за спину, зная, что кто-нибудь непременно переймет. – Я вас часом не оцарапала, маркиз?
– Н-нет, ваше величество, – выдавил Ботта, с усилием подавляя судорогу брезгливости, исказившую его красивое, тщательно выбритое и припудренное лицо.
* * *
– О-о, проклятая, проклятая, проклятая… – Наталья Федоровна Лопухина в отчаянии схватилась за голову, но рука тотчас наткнулась на колючую, выстриженную проплешинку. Из глаз немедленно хлынули слезы, которые она уже считала иссякшими.
– Ах, успокойся, душа моя, – сама чуть не плача от сочувствия к подруге, уговаривала ее Анна Гавриловна Бестужева, ближайшая подруга Натальи Федоровны. – Ну ты же знаешь…
– Да знаю, знаю! – едва выговорила сквозь рыдания Лопухина. – Эта простолюдинка, дочь полковой шлюхи, недостойна моей одной слезинки! Она и сама шлюха! Помнишь ли, как фельдмаршал князь Василий Владимирович Долгорукий говаривал: «В то время как император Петр Вторый скончался, хотя б и надлежало ее высочество к наследству допустить, да как ее брюхатую избрать?»
– Ах, тише! – Анна Гавриловна испуганно всплеснула руками. – Кто там ходит? А что, если засланный?!
– Какой засланный! Это Иван, – отмахнулась хозяйка.
И в самом деле – вошел ее двадцатилетний сын, бывший камер-юнкер двора Анны Леопольдовны, бывший гвардейский полковник, ныне, при перемене власти, пониженный в звании. Он был очень похож на мать высокомерным выражением лица и холодными светлыми глазами.
Сейчас, впрочем, и выражение лица, и взгляд выражали негодование. Он поцеловал ручки гостье, а маменьку еще и приобнял сочувственно. Было ясно, что Иван знает о случившемся на балу и еле сдерживается, стесняясь только Анны Гавриловны.
– Слышали новые новости? – спросил он наконец охрипшим от злости голосом. – Наша-то красота напилась пьяная своего любимого аглицкого пива да повалила в Царское Село со всякими людьми непотребными. Где ж это видано, чтоб императрица так себя вела?!







