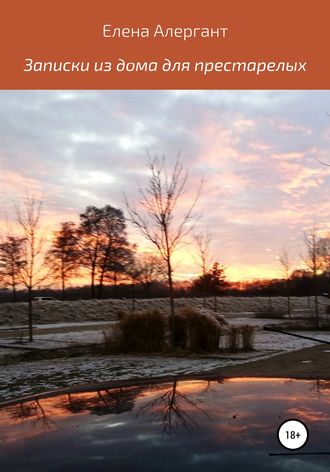
Елена Алергант
Записки из дома для престарелых
Мы думаем, это конец жизни, а это всего лишь новая сцена, на которой жизнь продолжается.
Поэт, Королева и госпожа Мопс
Каждая комната имеет своё лицо, потому что живёт в ней не просто человек, а свойственный ему одному мир, его настоящее, перемешанное с далёким прошлым. Мне до сих пор трудно смириться с круговращением приходов и уходов. Каждый новый пациент – это рождение и смерть. Знакомство, сближение, взаимопонимание… Я медленно привыкаю к людям, но постепенно их лица, голоса, привычки, радости и страдания становятся частью моей жизни. А потом они уходят, оставляя после себя пустоту, которую со временем заполняют другие. Но и новые, пройдя со мной небольшой отрезок пути, становятся прошлым. «Моя работа – это история встреч и расставаний», размышляла я, прибирая опустевшую позавчера комнату.
Новая пациентка приехала в сопровождении полноватого, преувеличенно вежливого, пожилого мужчины. Крупная, статная, с породистым лицом и обворожительной улыбкой, обнажавшей изрядно поредевшие, но всё ещё натуральные зубы. Спутник проводил её в комнату, заботливо усадил на стул и протянул мне сумку с вещами:
– Вас не затруднит развесить это в шкаф? Я в женской одежде не разбираюсь. Собрал тут кое-что поприличней.
Женщина, по-королевски выпрямившись на стуле, снисходительно разглядывала свежеокрашенные стены, тюлевые занавески и горшки с геранью, пышно цветущей на соседском балконе. Седые, давно не мытые и не стриженные волосы новой пациентки липкими прядями свисали на желтовато-серые щёки. Руки терпеливо покоились на коленях, в то время как ногти, подобно сторожевым псам, готовым в любую секунду вступиться за повелительницу, угрожающе топорщили свои почерневшие от грязи, острые обломки. Так выглядели в старых фильмах спившиеся актёры, прежде игравшие на провинциальной сцене королевских особ. Именно поэтому я в первый же день мысленно произвела вновь прибывшую в Королевы.
Меня так и подмывало спросить: «Ваше величество, в каком подземелье и за какие грехи прятали Вас столько десятилетий?» Но разве принято задавать подобные вопросы тем, кому посчастливилось вернуться из изгнания?
Спутник, неловко потоптавшись на месте, начал прощаться:
– Ну, Гертруда, я пойду потихонечку. Если что надо, звони. Заеду дня через два снова.
– А я? Мне тоже пора?
– Ты останешься здесь. Ведь мы обо всём договорились.
Вопреки моим ожиданием, Гертруда, не вдаваясь в дискуссии, подарила мужчине снисходительную улыбку и милостивым наклоном головы позволила удалиться.
Я потянула за молнию дорожной сумки, и она, неохотно распахнув пасть, дохнула на меня плесенью, пылью и тленом. Неужели это и есть то лучшее, что удалось сохранить в изгнании? Переложив «сокровища» в полиэтиленовый мешок, тут же отправила их в стирку, и пригласила Гертруду к обеду.
Как примут её наши дамы? Ухоженные, с завитыми, подкрашенными кудельками, обвешанные разноцветной бижутерией, искусно подобранной к цвету блузок и джемперов, они чинно восседали за накрытым столом в ожидании салатов и дымящихся омлетов.
Я представила им Королеву, предложив ей занять место, освободившееся всего неделю назад. Критические взгляды, презрительное перешёптывание и передёргивание капризных носов говорило само за себя: новенькая проиграла партию в первом же раунде.
Ох уж эти дамы! Они давно забыли свой первый день. Каждая была такой же запущенной, растерянной, с отчаянием, сочившимся из перепуганных глаз. Многим приходится до сих пор бороться за место под солнцем, подчиняясь местному табелю о рангах и этикету.
Да, это общество ничем не отличается от любого другого, состоящего из привилегированных патрициев, народа, обязанного всегда говорить только «да», и бунтарей, держащихся отдельной кучкой и живущих по своим собственным правилам.
Оформляя обязательные бумаги, я с наслаждением представляла завтрашний реванш: намытая до блеска, причёсанная, завитая, наряженная в туалеты из «золотого запаса», Королева торжественно займёт полагающееся ей место не только за обеденным столом, но и в жёсткой иерархии местного «высшего света».
Утром, преисполненная энтузиазмом и добрыми намерениями, переступаю порог гертрудиной опочивальни:
– С добрым утром! Как спалось на новом месте?
Скрестив под одеялом длинные, тощие ноги, она величественно возлежит на спине и приветливо улыбается:
Спасибо. Хорошо.
Радуюсь первому успеху. Кажется, контакт установлен. Можно двигаться дальше.
– Вот и замечательно. Пора вставать.
– А зачем?
– Я помогу Вам помыться, одеться и провожу к завтраку. Кофе и свежие булочки уже стоят на столе. Согласны?
– Согласна.
– Тогда вставайте.
– Да, конечно. Но не сейчас.
– А когда?
– Минут через двадцать.
Посмотрев на часы, покидаю комнату. Придётся менять и без того напряжённый график и возвращаться сюда минут через двадцать. Полчаса спустя опять стучусь в закрытую дверь:
– Пора вставать и идти к завтраку.
– Конечно… но не сейчас. Минут через двадцать.
В этот день я посещала покои Её Величества раз десять, каждый раз получая в награду чарующую улыбку и предложение вернуться через двадцать минут. Реванш не состоялся ни завтра, ни послезавтра. Целую неделю, соревнуясь в вежливости, граничащей с подхалимажем, мы по-очереди пытались выманить Гертруду с пропахшего немытым телом и неминуемыми человеческими экскрементами ложа, получая в ответ дежурное, всем до оскомины надоевшее согласие: «Конечно… но не сейчас… Минут через двадцать».
Казалось, Королева, когда-то смирившаяся с заточением, целенаправленно превращала новую комнату в ставшую родной и близкой тюремную камеру.
Неделю спустя, потеряв терпение, я решительно набрала телефонный номер, написанный на клочке бумаги спутником Королевы. Через два часа он уже сидел в моём кабинете и рассказывал захватывающую историю её жизни.
Принцесса на горошине.
Гертруда была единственной дочерью потомственного аристократа, дослужившегося при новом правительстве до генеральского чина. Девушке предстояло блистать в высшем обществе. В арсенале её боевого оружия значились не только величественная красота, но и блестяще воспитание: принцесса почти профессионально играла на рояле, пела и свободно говорила на трёх иностранных языках. Претендентов на руку, сердце и титул гордой красавицы было предостаточно, но… то ли она ждала своего принца, то ли отец не спешил с новым родством. Гертруда уже «засиживалась» в девицах.
Она успела отпраздновать четверть века, когда началась война со всеми вытекающими из неё последствиями: Нюрнбергский процесс, конфискация имущества, бесчестие и.… нехватка мужчин.
Но похоже, в последний момент судьба сжалилась над опальной принцессой и ниспослала ей жениха – пережившего русский плен немолодого майора. Когда-то она даже не посмотрела бы в его сторону: длинный, тощий крестьянин с грубыми чертами лица и дурными манерами. Единственным аргументом в его пользу был уцелевший за годы войны клочок земли и не утраченные крестьянские навыки, обещавшие спасти от неминуемого голода молодую жену и её овдовевшую мать. Так началась вторая глава жизни Гертруды, затянувшаяся почти на двадцать пять лет.
Барышня – крестьянка.
Отставной майор, сохранивший со времён войны прекрасно поставленный, командирский голос, занялся муштровкой жены и тёщи. Тонким пальцам принцессы, перебиравшим когда-то покрытые слоновой костью чёрно-белые клавиши концертного рояля, предстояло во второй главе перебирать тугие соски коров и коз, выжимая из них упругие струи тёплого, пряно пахнущего молока. Муж не тратил время на ненужные объяснения. Короткие, чёткие команды: «Пойти и сделать! Без возражений!» на многие годы стали неотвратимой реальностью неудавшейся аристократической жизни.
Послевоенная Германия постепенно вставала на ноги. У людей появились деньги и повышенный интерес к свежим продуктам. К первому клочку земли присоединился второй, а потом четвёртый и пятый. К ним добавился просторный дом с балконом, двумя ванными комнатами и домашней прислугой, но растущее благосостояние не освобождало хозяев от непосредственного участие в крестьянском труде. Гертруда, давно отвыкшая от деликатесов родительского дома, научилась готовить простые, сытные блюда, взбивать масло и консервировать огурцы. Муж, давно набравший утраченные в русском плену килограммы, превратился в грузного, грубоватого владельца прибыльного фермерского хозяйства.
Оказалось мужчина, доставивший опальную королеву в дом престарелых, был ей не племянником, а соседом. Его родители, не менее удачливые землевладельцы, дружили с семейством отставного майора, а мальчик с удовольствием забегал к бездетной соседке, обучавшей его английскому языку и игре на рояле.
Жизнь плавно катилась по основательно проложенным рельсам, но вдруг… кто бы мог подумать… Майор, собиравшийся дожить до ста лет, в одночасье переходит в иной мир. Гертруда остаётся не просто вдовой, но очень богатой вдовой. С этого момента начинается третья глава её жизни.
Весёлая вдова
С юности у неё сохранилась единственная подруга, которая (надо же, какая удача)
к этому времени тоже успела благополучно овдоветь. Обе дамы вошли в тот замечательный возраст, когда лица ещё сохраняют остатки былой свежести, фигуры – остатки былой стройности, а общество уже не требует ни пуританства, ни бережливого отношения к «девичьей чести».
Утром, часов после одиннадцати, дамы созванивались в первый раз, долго решая сложнейшую проблему: где они завтракают сегодня и с чего начнут – с шампанского или с красного вина. Завтрак затягивался до обеда, плавно перетекая в вечернюю программу, стартующую в театре, а финиширующую в казино. Ни отца генерала, ни мужа майора, ни коров, ни маринованных огурцов! Почти десять лет упоительной свободы и нескончаемых удовольствий!
К сожалению, всему хорошему рано или поздно приходит конец: подруга зачем-то последовала за своим мужем, повторно оставив Гертруду безутешной вдовой. Та сделала несколько попыток прилепиться к каким-то дальним родственницам, но пожилые дамы предпочитали в первую половину дня протирать от пыли полированные буфеты, а во вторую баловаться пирогами собственного изготовления. Шампанское вызывало у них изжогу, а красное вино расстройство желудка.
Разочарованная, потерявшая интерес к жизни Гертруда, заперлась в своих четырёх стенах, решительно порвав все контакты с внешним миром. Сын бывших соседей, давно переехавший в другой город, нашёл её пару недель назад в весьма плачевном состоянии: осунувшаяся, запущенная женщина ютилась на задвинутой в угол, грязной кровати в комнате, заваленной десятками пустых бутылок из под шампанского и ликёров. Спешно оформив документы на переезд в дом престарелых, он открыл последнюю страницу жизни обездоленной королевы.
Аккуратно записывая эту историю, я задала только два вопроса:
– А Вы видели её приятельницу?
– Да. Пару раз, когда приезжал в Ганновер. Они приглашали меня на ужин, а потом в театр.
– И кто же из дам в этой упряжке был ведущей?
Задумавшись на пару секунд, племянник безошибочно поставил диагноз:
– Приятельница была очень активной, энергичной женщиной. Безусловно ведущей была она.
Вот всё и разрешилось. Королева прожила всю жизнь не в заточении, а в подчинении. Отец – генерал, муж – майор, энергичная, властная подруга… А я требую от пожилой дамы самостоятельных решений. Придётся менять стратегию.
Утром следующего дня, наскоро покончив с обычными приветствиями, перешла к запланированной атаке: спокойное, не терпящее возражений лицо, командный голос и внутренняя убеждённость в непременном успехе.
– А теперь встаньте с постели и.… в туалет.
Чувства на лице Гертруды замелькали кадрами немого кино. Удивление, протест, безысходная покорность и.… облегчение. Навсегда покинувшее её прошлое вернулось снова. Появился кто-то, готовый давать команды и принимать за неё решения. Тонкие пальцы нерешительно откинули край одеяла, и две тощие, обтянутые сморщившейся, пересохшей кожей ноги медленно потянулись к стоптанным домашним тапочкам.
Более получаса я лила ароматные шампуни и гели на слипшиеся от грязи волосы и кожу, впитавшую запахи многолетнего запустения и гнили. Одиночество, что ты сделало с когда-то красивой женщиной?
Через час Королева, поправив и без того идеальную причёску, решительно покинула свои апартаменты, готовясь предстать перед ликующим, празднующем её возвращение народом. Но народ почему-то не ликовал. Намётанный женский глаз тут же приметил и неуклюже свисающее с похудевших плеч платье, и стоптанные каблуки покосившихся туфель, и скромный крепдешиновый платочек, прикрывающий старую, морщинистую шею. Ревнивые народные губы искривились в ироничных усмешках.
Гертруда скромно присела к накрытому столу, пожелала всем приятного аппетита и положила себе на тарелку румяную, свежеиспечённую булочку. Я заняла удобную позицию напротив своей подопечной, делая вид, будто занята важными делами. Одному подливала кофе, другому передавала молочник или вазочку с мармеладом, третьему помогала намазывать булочку, наблюдая боковым зрением за той, от кого зависел исход дебюта. За всесильной Хильдой, которую про себя называла госпожой Мопс.
На самом деле её лицо походило на старого, утомлённого жизнью бульдога. Приплюснутый нос, обвислые, дряблые щёки, потянув за собой углы влажного рта, превратили его в расплывчатый полумесяц. Крупные, идеально круглые, чёрные глаза, доводили портрет до карикатурного сходства: лицо богатое не мимикой, но выразительными, «говорящими» глазами. Появление за столом Гертруды зажгло в них настоящий охотничий азарт. Бульдог встал на охрану своей территории.
Гертруда аккуратно разделила будочку на две половинки, намазала их тоненьким слоем масла и, не спеша изучив богато накрытый стол, остановила выбор на ломтике сервелата, аппетитно поблёскивавшего крошечными, розоватыми звёздочками сала. Потянулась к блюду и нанизала ломтик на вилку. Нависшее над столом молчание взорвалось возмущённым возгласом Хильды Мопс:
– Похоже эта дама не обучена хорошим манерам! Занята только собой. Я как раз собиралась взять этот кусок колбасы.
Я чуть не подавилась возмущением. Эта хитрая лгунья – убеждённая вегетарианка, признающая к завтраку только абрикосовое варенье.
Ломтик сервелата, трепеща полупрозрачными крылышками, повис над столом. По бледно-голубому экрану, лицу Гертруды, стремительно сменяя друг друга, помчалась кадры противоречивых чувств: удивление, испуг, возмущение… Краем глаза я следила за Мопсом – вегетарианцем. Она, прощупав лица преданных ей вассалов, осталась довольна первой боевой вылазкой.
Боже! Как трудно оставаться немым свидетелем человеческого властолюбия! Но я не воспитатель в детском саду. За столом сидят пожилые люди, прожившие долгую, непростую жизнь, и они давно научились лавировать и выживать в этом непростом мире. Пусть используют свойственные им методы обороны.
Рука Гертруды замерла в нерешительности. Пара бесконечно долгих секунд… губы, сжавшиеся в упрямую полоску… едва заметное движение правым плечом… и тёмно-бордовая сервелатовая бабочка совершила плавную посадку на приготовленную для неё площадку.
Госпожа Мопс, до этого дня не потерпевшая в застольных боях ни единого поражения, сложив руки на животе, вынесла промежуточный вердикт:
– Сейчас мы с вами смогли убедиться, что дама обладает завидным аппетитом. Посмотрим, работает ли ей голова так же хорошо, как челюсти.
В ответ подданные услужливо захихикали. Бедная Королева, хрустя подрумяненной булочкой, даже не подозревала, что ей в лицо брошена перчатка; вызов на дуэль со смертельным исходом. Ей предстояло защищать свою честь на занятиях по тренировке памяти и остатков интеллекта, проводимых у нас два раза в неделю. Хильда была на этих занятиях, которые я мысленно прозвала «Поле чудес», бессменным победителем. Фотографическая память, не затронутая ни инсультом, ни временем, хранила в идеальном порядке имена всех известных актёров, писателей, спортсменов и политических деятелей. Она без промедления называла столицы всех существующих на земле государств, названия рек, озёр, морей и королев красоты, занявших призовые места в последние десять лет.
Эта, сидящая в инвалидной коляске энциклопедия, ежедневно читала газеты, смотрела научные репортажи и новости культуры. Вряд ли Гертруда сможет сравниться с ней в этом поединке. Крестьянский труд, казино и безудержный алкоголизм последних лет изрядно изрешетили её далеко не девичью память.
Злилась ли я в этот момент на зловредного Мопса, вальяжно развалившегося за столом? И да, и нет. Нет, потому что на самом деле нас связывали многолетняя дружба и взаимное уважение.
Хильда умно и с юмором рассказывала о своём прошлом:
– «Красавицей, сами видите, никогда не была», – говорила госпожа Мопс, указывая рукой на старую фотографию. Барышню, позирующую профессиональному фотографу, и в самом деле трудно было признать красивой. Она, состоявшая из шаров разной величины, походила на снеговика, слепленного умелой детской рукой. Даже волосы, собранные в замысловатую причёску, казались отдельным, завершающим картину, объёмом. Да и лицо смотрелось не лучше. Крепкие, растопыренные щёки, тяжёлый подбородок и короткий, приплюснутый нос. Только глаза, большие и круглые, излучали вековую мудрость и вселенскую печаль оставшейся в одиночестве молодой женщины.
– А замужем так и не побывала. До войны не успела, а потом… сами знаете. К одному жениху очередь из пятнадцати невест выстраивалась. Куда уж мне с моей внешностью. Даже в очередь не становилась.
– Так и прожили всю жизнь одна?
– «Почему же одна?», – возмущалась Хильда, – «Мужа не было, а дети были».
Я внутренне просияла: слава богу, хоть чуть-чуть, но всё же отведала женского счастья.
– А сколько же их было?
– Ой много. Сейчас и не пересчитать. Я ведь сорок лет учительницей начальных классов проработала. С первого по четвёртый. Вот они, мои сорок лет, все на стене висят. Ровно десять выпусков, и все мои.
– А не тяжело было?
Нет. Очень интересно. Дети такие разные. В послевоенные годы из благополучных семей почти не было. Всё больше от вдов или матерей одиночек. Невоспитанные, неухоженные и плохо развитые. Что я с ними только ни делала! В походы ходила, в театры, в кино, по музеям таскала. Даже на байдарках плавала. А на уроках по три шкуры сдирала, что бы учились хорошо. И не только с них. Мамашам их тоже приходилось частенько мозги вправлять.
Глаза Хильды заблестели азартом, а искривлённый хроническим артритом указательный палец уткнулся в пространство между землёй и небом.
– А матерей за что ругали? Им и без Вас не сладко жилось. Легко ли целыми днями на работе убиваться, а потом ещё по хозяйству вахту держать?
– А за то ругала, что ребёнка не только кормить надо, но иногда и приласкать не грех. Дикими дети росли, недолюбленными. А результатом до сих пор горжусь. У меня девяносто процентов выпускников в гимназию поступали, а это не шутка.
Я рассматривала старые фотографии, худенькие, детские, послевоенные лица и верила, что все они со временем стали хорошими людьми. Рассказы о прошлом сродни охотничьим рассказам. В них мы всегда выступаем успешными, блестящими специалистами своего дела, но Хильде я верила. Она излучала такую пассионарность, такую спокойную уверенность в себе, что не оставалось ни малейших сомнений в её даре воздействовать на людей. Даже я, с годами уставшая от бесед и общений, не могла устоять перед её вопросами.
«Как Ваш сын написал вчера контрольную, получили ли удовольствие от балета, дочитали ли книгу, о которой рассказывали на прошлой неделе?»
Она вслушивалась в ответы не перебивая. Уточняла интересующие её подробности и, делая собственные умозаключения, давала неназойливые советы.
– Встретились вчера со своей приятельницей? Удалось поговорить? Действительно стоило на неё обижаться? Вот и правильно. Это в первой половине жизни можно друзьями разбрасываться, а во второй их беречь нужно. Старые уходят, а новые уже не появляются. И остаёшься со временем одиноким, засохшим баобабом у чужой дороги.
Круглые, подёрнутые печалью глаза Хильды, всматриваясь в далёкое прошлое, пытались распознать контуры ушедших в небытие друзей.
– Мы всё за жизнь цепляемся. Хотим как можно дольше протянуть, а зря. Лучше уйти одним из первых. Пусть лучше другие по тебе грустят, чем годами с тоской смотреть на умолкший телефон.
Я тёрла мочалкой крепкую Хильдину спину и пыталась представить лицо того или той, кто уже никогда не позвонит и не поздравит её ни с днём рожденья, ни с рождеством. А ещё удивлялась привередливости природы, сохраняющей до глубокой старости наши, скрытые от постороннего взгляда спины, глянцевым и упругими, превращая выставленные напоказ щеки в сморщившиеся, печёные яблоки.
– Вот, вот. Потрите посильней справа, под лопаткой. Ой как хорошо. Аж дух захватывает. А у Вас есть кто-нибудь, кто бы спинку иногда потёр? Это правильно… Знаете, чем отличаются одинокие женщины от не одиноких? У них постоянно нетёртые спины чешутся.
Я, подхватывая брошенный мяч, ехидно спрашивала:
– А у Вас почему спина так отполирована, если, как утверждали, замужем никогда не были?
– Что замужем не была, говорила, а о «спинке» … разговору не было.
Знаю. Пока не было, но наступит момент, когда тоска по прошлому прорвёт и эту плотину молчания. Но сегодня мне не до «спинки». Голова занята судьбой Королевы.
– Скажите, зачем вчера за столом на новенькую накинулись?
– А как ещё на неё реагировать? Новеньких нужно с самого начала к порядку приучать.
– У Вас тут как в армии. Дедовщина какая-то.
– А Вы как думаете. Воспитанный человек, приходя в незнакомое общество, должен сперва порядками, обычаями, в конце концов ритуалами поинтересоваться, а потом уж колбасу в рот запихивать. А эта… расселась, как королева.
Надо же. Тоже заметила, что Гертруда не из простонародья.
– Предлагаю мирное соглашение: на этот раз воспитанием новенькой занимаюсь я.
Госпожа Мопс аж подскочила от возмущения:
– Вы, милая моя, себя в роли воспитателя уже дискредитировали. И не только Вы, а весь коллектив. Распускаете людей, а потом бегаете с квадратными глазами: «Катастрофа, катастрофа!» Да ладно, не обижайтесь. Профессия у вас такая. Клиент деньги платит, значит и музыку заказывает, иначе от начальства попадёт. А мне ваше начальство не указ. Я тоже деньги плачу, вот и заказываю свою музыку.
Подобные высказывания вызывали у моих коллег взрыв возмущения. Попадая в мощное поле её притяжения, они, как и я, допускали Хильду до самых потаённых уголков своих утомлённых разочарованиями душ, но за закрытой дверью называли её двуличной, неискренней подхалимкой:
– Перед вышестоящими спину крендельком гнёт, а себе подобных, как английский бульдог, при первой же возможности в клочки раздирает.
Я видела это в ином свете. Для Хильды мы были не высшим эшелоном власти, а коллегами, к которым она относилась с пониманием и уважением. Пациентам выделялась роль нерадивых школьников, которых, во что бы то ни стало, предстояло подготовить к гимназии. Как когда-то в классе, она выделяла группу способных, но ленивых. В неё входили те, кого ещё умудрялся скрывать первые признаки старческого маразма. Вторая группа, пользующаяся её особым расположением, состояла из «не очень умных», но послушных, преданных ей душой и телом соратников. А в третью Хильда записывала самых «тупых, дурно воспитанных, упрямых бездельников», объявивших целью своей жизни кромешное безобразие и разрушение порядка. На самом деле эти люди в медицинском понимании, просто успели слегка опередить остальную компанию на пути к окончательной потере разума. Именно они, и без того глубоко несчастные, были бессменной мишенью хильдиных нападок.
Гертруда пока оставалась для госпожи Мопс загадкой, разгадать которую предстояло на ринге. Я, прекратив бесполезный спор, приняла окончательное решение: на дуэль с Мопсом Королеву не выпущу.
На следующий день, незадолго до начала занятий, пригласила Гертруду на просмотр местных достопримечательностей. Она с любопытством разглядывала развешенные на стенах картины, предметы довоенного быта, купленные подшивке на блошином рынке: старые деревянные кофемолки, отделанные медными пластинками, давно пришедшие в негодность швейные машины фирмы «Зингер», толстые фаянсовые чашки и пивные кружки. Наконец мы вошли в маленький зал, где стояло старое, но ещё живое пианино. Гертруда, не спеша подошла к инструменту и осторожно приподняла крышку. Клавиши, отполированные сотнями прикосновений, обнажились ей навстречу в призывной улыбке. Королева нерешительно погладила их загрубевшими пальцами, опробовала две – три на звук, равнодушно покачала головой и, опустив крышку, повернулась к старинным фотографиям на противоположной стене:
– Надо же. Довоенный Ганновер. Хорошо помню это место. Тут, за углом, находилась моя школа. Шофёр, служивший у отца, всегда подвозил меня сюда на машине, а одноклассницы завидовали и злились. Ладно, пошли дальше.
Дальше идти было некуда. Цель путешествия, старое пианино, не вызвали у неё, к сожалению, ни малейшего интереса. Зато за обедом продолжала лютовать госпожа Мопс. На этот раз поводом для атаки стали несколько одиноких ломтиков картофеля, оставленных Гертрудой на тарелке.
– Ну, где это видано! Зачем хорошую еду в помойку выбрасывать! Неужели нельзя сперва заказать порцию поменьше, а потом, если не наелась, добавку попросить?
Королева задумчиво разглядывала картофель, успевший подёрнуться плёнкой застывшего жира. Лицо выражало смесь отвращения и растерянности. Все дамы, сидевшие за столом, с любопытством ожидали развязки. Одни из них, страшась неприятностей, предпочли бы доесть эти отвратительные кусочки, другие, яростно и визгливо, посоветовал бы Мопсу прогуляться куда подальше, а третьи, склонные к театральным представлениям, схватившись за сердце, потребовали бы нитроглицерина.
Меня окатило волной злости. Боже, как я ненавидела в этот момент обвислые щёки и приплюснутый нос Мопса. Это мелочное властолюбие, пусть даже власть, или её иллюзия, умещается в крошечном, подагрическом кулачке! Всю жизнь ненавидела тех, кто, неизвестно за какие заслуги, присваивает себе исключительное право хладнокровно унижать других. Но какую стратегию предпочтёт Гертруда? Минуту поразмышляв она, так и не взглянув на обидчицу, всем корпусом развернулась ко мне:
– Милочка, Вы не могли бы предоставить мне другое место? Здесь… очень дует.
В душе я разразилась бурными аплодисментами. Вот оно, аристократическое воспитание! Вот оно, истинное чувство собственного достоинства! Гертруда даже не снизошла до объяснений, обозначив откровенное хамство простым сквозняком, приравняв гордого Бульдога к дурной погоде. Сумела бы я на её месте не растеряться и влепить хамке такую звонкую, изысканную оплеуху?
Исполнить королевскую просьбу было не просто: все места, выделенные нам в обеденном зале, были пожизненно зарезервированы за своими владельцами. Помощь, как в сказке, пришла с той стороны, откуда её никто не ждал.
– Я не буду возражать, если дама пересядет за мой стол, – возвестил скрипучий фальцет, исходивший из глубины зала. Там, за отдельным столиком у окна, восседал в глубокой инвалидной коляске господин Шиллер, единственный мужчина в нашем бабьем царстве.
Несмотря на всемирно известное имя, господин Шиллер не был поэтом. Совсем наоборот. Он был налоговым инспектором, да и то, прослужив государственной казне верой и правдой более сорока лет, сумел приподняться всего лишь на третью ступеньку карьерной лестницы. Пять дней в неделю он ссыпал в бездонную государственную копилку звонкие монеты, конфискованные у робких, законопослушных бюргеров, а в выходные, вскочив с разбегу в маленький любительский самолёт, взмывал к небу. Не в заоблачное, ярко-голубое пространство, где проплывали гордые, серебристые лайнеры, а так, как на службе… всего пару ступенек над землёй, едва задевая крышей первые, полупрозрачные сгустки позолоченной солнцем ваты. И всё же… именно там, между землёй и небом, он отдыхал от ненавидящих взглядов обобранных им сограждан.
В первый день, въехав в инвалидной коляске в зал импровизированного ресторана и бегло окинув опытным взглядом принадлежащий нашему отделению стол, Шиллер, нимало не задумываясь о чувствах дам, с надеждой и любопытством взиравших на нового мужчину, скрипучим голосом бросил им в лицо первое оскорбление:
– Надеюсь, Вы не собираетесь сажать меня в этот курятник?
Многолетний опыт работы приучил меня не вспыхивать и не коптить, подобно фитилю керосиновой лампы. Но… моя холодная ирония – наилучший ответ на откровенное, умышленное хамство, так и осталась невостребованной. Одна из «благовоспитанных» дам, ни секунды не раздумывая, предпочла дипломатии боевые действия.
– Если мы – курятник, то этому старому козлу среди нас точно не место.
Одобрительный смех обитательниц курятника возвестил окончательное и бесповоротное изгнание налогового инспектора. Одной фразой он достиг того, чего ещё никому не удавалось – получил индивидуальный, двухместный столик у окна, предназначенный для приёма почётных гостей. Иными словами, обеспечил себе за завтраком кофе со свежей газетой, а за обедом суп, не приправленный ворчаньем и чавканьем болтливых соседок. Да здравствует победоносная сила хамства!
Вечером, помогая Шиллеру вылезти из штанов и носок, я позволила себе пару прямых вопросов:
– Зачем Вы сегодня так резко обошлись с пожилыми женщинами? Могли бы попросить отдельный столик никого не обижая.
– А я никого и не обижал. Просто назвал вещи своими именами.
– Кудахтающие вещи… Похоже, вы обладаете особым восприятием действительности.
– Во-первых, Вас совершенно не касается моё восприятие действительности, а во-вторых, – его голос зазвенел отвратительно и едко, – не можете осторожней? Вы сдираете носок вместе с кожей.
Дёрнувшись, нога прицельно подпрыгнула вверх. Не успей вовремя уклониться, наверняка получила бы увесистый пинок в лицо. Этот несостоявшийся пинок стал последней каплей, переполнившей бочку моего терпения. Господи! Как я устала от всех этих дрязг, претензий, капризов и упрёков. Иногда кажется, наши пациенты с упорной зловредностью мстят за свои болезни и немощь всем, кто ещё не достиг их точки распада, Мстят за то, что не успели вовремя умереть, прикорнув дома у телевизора, за то, что не нашли на блошином рынке Шагреневой кожи, готовой принять на себя их старение. Эта злобная зависть к тем, кто родился лет на двадцать – тридцать позже. Что за глупость! Каждый из нас пройдёт в своё время положенный путь. Но сегодня я ненавижу этого негодяя, попытавшегося пнуть меня в лицо. Проклятая богом профессия, на которую я добровольно обрекла себя под конец жизни!


