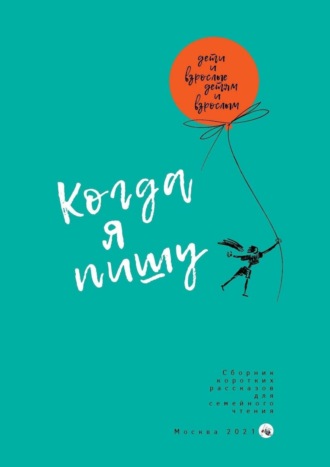
Александр Галан
Когда я пишу
Ква-Ква
В моём дворе было всего четыре дома, а детей и того меньше: второклассник Юра, девятилетний Колька и я – вот и вся наша дружная команда. Мы всегда что-нибудь придумывали и во что-то играли, где-то бегали, куда-то лазали, словом, находили себе самые разные развлечения.
Тот день у нас не задался. Прослонявшись без дела, мы решили уже расходиться, как Юра вдруг резко обернулся:
– Гля, поца, жаба вышла!
«Жабой» была Оля, девочка-даун. Это было большое безобидное создание, всегда одетое в одно и то же грязное зелёное платье, и с такими же зелёными соплями на лице. Она всегда гуляла одна, в стороне ото всех, тихо бормоча себе под нос что-то, известное только ей одной. У Жабы были две удивительности. Одна – она считала кошек своими куклами, наряжала их в разное тряпьё и везде таскала с собой, хватая несчастных за что придётся. Из-за другой она страдала сама.
Дело в том, что Жаба необычно, очень по-особенному плакала, отрывисто квакая, словно потревоженная лягушка. Многие мальчишки во дворе специально её обижали, чтобы на потеху покуражиться над ней.
– Айда поприкалываемся!
Колька сломал себе хлыстик. Мы с Юрой набрали мелких камушков и стёклышек и, окружив Жабу, принялись бросать ей по голым ногам.
Она вертелась из стороны в сторону, поднимала ноги и что-то мычала, но никак не хотела плакать. Когда наши заряды кончились, Колька стеганул прутиком ей по коленям. Жаба замерла и от боли присела. Затем она затрясла головой, и слёзы покатились по её грязным щекам.
Мы переглянулись. Представление не состоялось. Юра и Колька отошли на шаг, но я остался. Вытащив из кармана железный пистолет, я с силой ударил Жабу по спине. Я ожидал всего что угодно, но когда она встала, выпрямилась и с высоты с неподдельным удивлением посмотрела мне в глаза, мне стало плохо, и я выронил пистолет.
Как то сразу после этого я тяжело заболел и даже пропустил первую четверть в школе. Лишь к холодам, пошатываясь от слабости после больницы, я встретился со своими друзьями. Новости у них были тоже не ахти. Колька упал с велосипеда, сломал руку и был в гипсе, а у Юры развелись родители, и его определили в продлёнку на весь день.
Медленно шагая по двору, мы услышали истошное мяуканье и остановились. Возле стоящей у подъезда «Волги», как в горячке, металась Жаба. Она пыталась освободить из-под колеса придавленного котёнка и тянула его за задние лапы.
Увидев нас, она съёжилась, но потом поднялась, подошла к Юре и принялась, брызгая слюной, ему что-то громко мычать.
– Иди, иди, я не понимаю! – Юра попятился от неё назад.
Тогда Жаба схватила Кольку за руку, но он резко оттолкнул её. Колька тоже дал задний ход: – Теряемся, а то она мне вторую руку поломает…
В это время котёнок протяжно мяукнул и затих.
Жаба, вся трясясь, боязливо подошла ко мне, остановилась и, глядя мне прямо в глаза, заплакала: «Ква-ква-ква-ква!» Я её понял. Через минуту хозяин «Волги» откатил машину. Жаба схватила бездыханного котёнка на руки и, прижимая его к себе, быстро пошла прочь, но вдруг замедлила шаг и обернулась. Она смотрела на меня и улыбалась мне. Я сам видел.
После этого случая Жаба исчезла. Взрослые пацаны говорили, что её определили в интернат или в психушку, но скоро о ней вообще забыли и больше не вспоминали никогда.
Ошейник
– Где этот гадёныш?
Разъярённый отчим распахнул дверь. Вовка вздрогнул, спрятал деньги в носок.
– Пятихатку ты взял?
Отчим набычился, надел на шею толстую цепь с крестом.
– Не кричи, голова раскалывается…
Мать подтянула недопитую бутылку.
– Заткнись, синька, а то и тебе достанется.
Отчим поймал Вовку за руку, потащил из комнаты.
– Не бейте, это не я!
– Ты зачем деньги берешь? На водку?
– Нет!
– Дурь куришь или клей нюхаешь?
– Не надо, отпустите!
Вовка вырвался, выскочил из квартиры, слетел по лестнице вниз. В подвале пятиэтажки было темно, но Вовка знал дорогу на ощупь. Он подлез под трубы и зажёг фонарик.
– Вставай, Черныш! Есть будем!
Пес, скуля, встал и, поджав лапу, завилял хвостом. Вовка достал сосиски, положил на пол.
– На, ешь! Ты не скули, мне ещё хуже: мать пьёт, отчим озверел совсем, думаю, он нас из квартиры скоро выгонит, – Вовка поправил собаке белый ошейник. – Вот тогда к тебе приду, вместе будем!
Вовка обнял собаку. Черныш дернулся, взвизгнул от боли.
– Прости, я не хотел! Я тебе лекарство принесу, обещаю!
Все стихло. Вовка прислушался: кто-то сильно захрапел. Пора! Он проскользнул в прихожую, нашел куртку отчима, полез по карманам. Мелочь, ключи, бумажки… денег не было. Вовка хотел уже уйти, но вдруг увидел нож отчима. Он встал на цыпочки и взял его с полки. На пустыре пацаны за нож дали только сотню. Они же подсказали, где купить мазь. На еду денег совсем не оставалось, и Вовка вернулся во двор. Мусорные баки были полные, и Вовка залез на бак. Он стал искать и складывать съестное в пакет.
– Во, даже колбаса есть!
Вовка спрыгнул с бака:
– Ой!
Управдом тетя Маша схватила его за шиворот.
– Тебя что, домой не пускают?
– Это я для Черныша. У него лапа перебита!
– Ты его лечишь?
Вовка показал ей мазь.
– Ему нужен ветеринар.
– А он за деньги?
– Ещё какие! У отчима попроси, пусть даст.
Вовка повернулся, показал свой фонарь под глазом.
– Уже дал!
– Вставай, Черныш, лечиться будем!
Пёс с трудом приподнялся, лизнул ему руку. Вовка вытащил тюбик, принялся мазать рану. Черныш заскулил.
– Терпи! Я же твой друг!
Вовка вытряхнул объедки из пакета:
– Налетай! Тебе поправляться надо. Я решил: мы с тобой в тайгу уедем. Будем жить вдвоём в избушке, как в мультике. Ты будешь зайцев ловить, а я грибы и ягоды собирать. Не пропадём!
Вовка замолк, затем вздохнул, отломил себе кусок засохшего кекса.
Через час отчим стегал Вовку тонким ремнём и его цепь раскачивалась, как маятник, и отсчитывала удары.
Вовка прислушался, подлез под трубы.
– Ты что скулишь, Черныш?
Пёс попыталась встать, но задрожал и рухнул на пол.
– Вставай, родненький! – Вовка схватил его за ошейник. – Я сейчас, Черныш, я доктора при-
веду! Я тебя не брошу!
Вовка влетел в комнату, метнулся к матери.
– Где отчим
– Не знаю…
Отчим пришёл только под вечер. Вовка встретил его на пороге:
– Я попросить хочу…
– Что?
Отчим разделся, снял с себя цепь, положил на шкаф.
– Я… мне деньги нужны!
– Пошёл вон! – отчим оттолкнул его и зашёл в ванную.
Когда зашелестела вода, Вовка придвинул табурет к шкафу, сверху подставил скамеечку. Затем залез, потянул к себе цепь… Ба-бах! Пирамида качнулась и рухнула.
Вовка сидел на полу, сжавшись в комок. Отчим надел на шею цепь, поправил крест.
– Ну что, допрыгался, воришка!
Вовка закрыл лицо руками.
– Не трусь, не трону! Люди о тебе беспокоятся. Управдом приходил, участковый спрашивал.
– Зачем?
– Решать вопрос.
Отчим полез в свою куртку.
– Что решать?
Вовка перестал дышать.
– Вот что!
Отчим развернулся, и к ногам Вовки упал белый ошейник.
Вовку нашли на вторые сутки. Он лежал рядом с Чернышом. Участковый вытащил Вовку из-под труб, поставил на ноги.
– Пойдём, нельзя тебе здесь.
– Он – мой друг!
– Его надо похоронить.
Вовка зашмыгал носом.
– Я не смог… я его бросил!
Участковый крепко взял Вовку за руку.
– Нет, парень, ты – настоящий друг. Самый настоящий!
Бегунов Валерий
Как кормить борщом по науке
В детстве меня невозможно было накормить супом или борщом. Ни в какую! Не любил я первых
блюд. Я застывал над тарелкой, упрямо бычился и без конца водил ложкой туда-сюда. То зачерпывая суп или борщ, то медленно выливая его обратно в тарелку – но только не в рот.
Но однажды мой любимый дяде-дед или дедо-дядь придумал беспроигрышный способ скармливать мне первое. Без упрёков, скандалов, приказаний и уговоров. До последней капли в тарелке. Но сперва надо рассказать об этом замечательном человеке, дружбой с которым я очень дорожил.
Это был младший брат моей бабушки по матери. То есть двоюродный дед. Однако я называл его дяде-дед или дедо-дядь. Или просто – дядя. Он был крупный учёный мирового уровня, профессор в Ленинградском кораблестроительном институте, и разрабатывал судовые двигатели для грузовых судов. Огромного роста, могучий, он прекрасно играл в баскетбол. А ещё обладал замечательным мягким баритоном. Даже учился одно время в консерватории со знаменитыми сёстрами Лисициан. Но выбрал не искусство, а науку. Посчитал, что наука и техника – это более точное и надёжное занятие.
Мы с самого раннего моего детства и сошлись с ним в научном подходе ко всему, что встречалось в жизни. То, что во мне есть эта «научная жилка», дедо-дядь понял сразу. На этом и подловил меня, придумав, как скармливать мне борщи и супы. Но ещё немного о нём. Артистичный, он любил время от времени поразить наше мальчишеское воображение. Сидя в одном конце комнаты, он комкал ненужную бумагу или старую газету, а потом особым движением – ну, знаете, типичным броском баскетболиста: рука идёт вперёд и вверх, а кисть как бы накрывает сверху начало движения – и вот таким манером дяде-дед посылал бумажный комок точно в корзину для мусора на другом конце комнаты.
Но не эти таланты поражали нас, мальчишек. Сногсшибательное впечатление производила способность моего дяде-деда лежать на волне, как бревно. Ведь если лечь на воду плашмя, на живот или на спину, то через какое-то время ноги начинают опускаться и ты уже плывёшь столбиком. Мой дедо-дядь был из тех немногих людей, кто мог, вытянувшись, лежать на волне на спине часами. В согнутых в локтях руках он держал перед собой газету. И порой так и задрёмывал с нею. И волны Чёрного моря плавно покачивали этого Гулливера и медленно несли вдоль Крымского побережья, как дредноут.
После школы я поступил в Корабелку в Питере, тогда – в Ленинграде, и стал часто бывать в доме дяде-деда. Мы вместе хозяйничали и со сдержанным удовольствием общались на всякие темы. Как-то раз он сказал:
– Тащи сахарницу. Насыплем сахар.
Сахарница была фаянсовым шаром. С одного бока у него была ручка. А с другого – носик. Сахарница выскользнула у меня из рук, грохнулась на стол, и у неё отлетела ручка.
– М-да, – сказал дедо-дядь, взял в одну руку сахарницу, в другую – ручку и осмотрел их.
– Для шара, – «научным тоном» заметил я, – это была лишняя деталь.
Тут сахарница вывернулась из руки дедо-дядя, и у неё отлетел носик.
– Ты прав, – тоном исследователя сказал дедо-дядь, – для шара и эта деталь лишняя.
– Теперь у нас сахарница идеальной сферической формы, – глубокомысленно заметил я. И дяде-дед с готовностью, в том же глубокомысленном тоне, согласился:
– Что ж, будем пользоваться сахарницей идеальной шарообразной формы…
Но вернёмся к тому, как дедо-дядь скармливал мне борщ без остатка и без сопротивления с моей стороны. Он сажал меня к себе на колени напротив тарелки борща. Брал ложку, крест-накрест проводил ею по борщу и говорил:
– Сперва вычерпываем вот эту четвертинку.
И загружал эту четверть борща в меня. Потом снова чертил ложкой крест-накрест по тарелке и сообщал:
– А теперь выхлёбываем вот эту четвертушку…
И я без задержки выхлёбывал четвертушку борща с другого края. Я понимал: тут кроется какой-то подвох. Но в чём состоит надувательство, не мог сообразить. А «научный подход» меня завораживал: я чувствовал, что участвую в особом таинстве. И с каждой новой делёжкой на четвертинки борщ ложка за ложкой исчезал во мне – до последней капли.
Я дорожил дружбой с моим дяде-дедом до самых последних лет его жизни.
Георгины и нокаут
В детстве лето я проводил в Крыму, в Симферополе, у дедушки и бабушки. Путь из их квартиры в огромный старый двор я прокладывал не по земле, а по воздуху. Пройти одну комнату, потом другую, три ступеньки в прихожую, потом ещё пять – и только после этого ты во дворе!
Вся жизнь уйдёт на такое путешествие. Я прыгал на ближайший подоконник. А оттуда – во двор.
Вдоль всей стены квартиры бабушки и дедушки тянулся палисадник. Он заботливо возделывался бабушкой. Густой плющ и вьюнок с колокольчиками по стене. Высоченные гладиолусы, розы, гвоздики, астры. Георгины на длиннющих стеблях! Шириной палисадник – шага в полтора. Огорожен он штакетником высотой в метр. И я, пролетая сквозь цветочную чащу, над палисадником и щтакетником, приземлялся уже во дворе.
Я не раз расшибал коленки об утоптанную до каменной твердости почву двора. Но что такое разбитые коленки по сравнению со свободным полётом! На лету, правда, я сшибал и две-три головки роскошных бутонов георгин. Но об этом и о связанном со сшибленными георгинами боксёрском поединке отдельный разговор, дальше.
Наши старые симферопольские дворы! Роскошное царство тайн! В каждом – и в нашем – росла в центре могучая акация или шелковица. Сараи и старинные подвалы манили неизведанными секретами, словно волшебные пещеры. Обитала во дворе и всякая живность. Всехняя подруга кошка Мурка носилась с нами, ребятней, по крышам. То ли её сын, то ли племянник – рыжий хулиганистый котёнок. Он совал нос куда ни попадя. У одной из соседских семей был курятник. А правителем и повелителем там – огромный, злобный, самонадеянный и самовлюбленный петух. Он готов был драться с кем угодно в любую минуту. Без всякого повода. Даже дворовые собаки не связывались с ним.
Но однажды рыжий котёнок указал увенчанному гребнем террористу его место.
Я подбирал сшибленные в очередной раз головки георгин. Один подкатился под ноги петуху. Тот встал над ним и заклекотал: моё! А я подумал: дед с утра пил валерьянку. Её обожают кошки. А курицы? Я принёс флакон и половину его вылил в куриную кормушку. Петух отогнал сбежавшихся кур и жадно склевал зерно. И его потянуло на подвиги.
Он хамски загоготал (как позже сказал мой дед, «не своим голосом»). И, распустив по земле крылья, с бандитским видом, покачиваясь и виляя, пошел по двору. Собаки попрятались. Соседи – и мой дед – поняв, что надвигается нечто несусветное, повыскакивали во двор. И, учуяв аромат валерьянки, объявился рыжий котёнок.
Петух увидел жертву. И двинул на неё. Котёнок встал на задние лапы и прижался спиной к шелковице. А когда пьяный в дым петух подскочил к нему, он сделал то, что умеют все кошки. Сперва правой лапой он нанёс по петушиной морде серию мощных ударов – столь молниеносных, что разглядеть их было невозможно. А затем левой лапой котёнок провёл с другой стороны такую же серию ударов.
Петух неуверенно отошёл на два шага. Что-то невнятно буркнул. И рухнул. Он смог встать. Прошёл ещё пару шагов, волоча одно крыло по земле и что-то невнятно бурча. И грохнулся на бок. Мы, дворовая ребятня, хором считали: «Один… два… четыре… семь…» При счёте «девять» петух пошевелился, поднял голову, проорал что-то в небеса и перевернулся на спину в глубоком обмороке.
Котёнок забрался на акацию и ждал: что будет? Весь двор зааплодировал. Мой дед громко провозгласил: «Аут!» Подошёл к котёнку и высоко поднял его хвост – как судья на ринге поднимает руку победившего боксёра. Потом дед вынес из дома блюдце молока.
У меня он забрал флакон с остатками валерьянки. А блюдце поднес котёнку. Котёнок завопил. Головой вниз он сполз по шелковице и прыгнул на деда. Дед повернулся ко мне:
– Сколько сегодня сшиб георгин? Две? Три? Пять? Высадишь взамен в палисаднике десять рассад. Бабушка как раз приготовила.
Дед ушёл на кухню, неся в одной руке флакон с валерьянкой, а в другой блюдце с молоком. Котёнок ехал на дедушке, вцепившись в его штанину, и орал в полном восторге. Куры заполошенно носились вокруг поверженного повелителя, запинаясь о бутоны георгин.
Вышла моя бабушка, неся пучок рассады, лопатку, совок, лейку и подкормку. Неодобрительно поджав губы, постояла над петухом, курами и сбитыми георгинами. Открыла калитку в палисадник и позвала меня кивком головы.
И до ужина под знающим и опытным руководством бабушки я постигал науку высаживания цветочной рассады.
Чаша для шмеля
Когда дочке было года четыре, мы проводили лето у моей мамы в западноукраинском городе Ровно. И случился день, когда с утра и до полудня окрестные шмели доверчиво предлагали свою дружбу дочке. И ей казалось, что она – добрая повелительница природы.
Ровно – город небольшой и старинный. Очень красивый. Зелёный. Окраинными улицами можно выйти к озеру и реке. А от дома моей мамы тянулся парк. Огромный! Он шёл до центра города, местами похожий на лес, хотя и не очень дремучий. Каждый день я выводил туда на прогулку дочку. Мы качались на качелях. Кидали камушки в фонтан с фигурой богатыря в центре. Но больше всего любили изучать тайны парка. Мы прокладывали секретные тропинки среди самых густых кустов. Шли за цепочками муравьёв, а те спешили по делам. Мы застывали перед бабочками, притаившимися, словно цветки, на листьях и ветках. И ждали, когда подует ветер и цветы раскроют лепестки-крылья, превратятся снова в бабочек и улетят кто куда. Я учил дочку обниматься с деревьями и слушать, как шумит сок в их глубине. Закрыв глаза, дочка прижималась ухом к коре и замирала.
Однажды вдруг что-то среди листьев куста загудело и ветки стали колебаться-туда сюда.
– Там кто-то заблудился? – спросила дочка, оторвавшись от общения с деревом.
Она заглянула под ветку. Раздвинула две другие в самой середине куста… И оттуда вылетел огромный шмель. Он покружил вокруг нас и сел на дерево шагах в пяти. Мы подошли к нему. Он опять покружил – над головой дочки. Он гудел как труба и словно звал за собой. Так, передвигаясь за шмелём от дерева к дереву, мы дошли до огромного каштана. Шмель облетел его несколько раз. Сел в самом низу, у травы, на кору возле норки – отверстия в коре. Погудел ещё. И нырнул в норку.
– Спрятался в домике! – радостно объявила дочка.
Мы присели перед норкой на корточки, по очереди заглянули в её темноту и приложились к ней ухом. Я поднял прутик и поводил им в норке. Оттуда донеслось гудение.
– А теперь я, – сказала дочка и забрала прутик.
Она покрутила им в норке. Оттуда загудело. Шмель вылез из норки. Погудел. Покружил вокруг дочки и улетел. Дочка хмыкнула:
– Перекусил, почистил крылышки, переодел штанишки. И улетел в гости.
А я повёл дочку через парк на центральную площадь города. Там во всю длину бульвара, отходящего от площади, тянулся широкий газон, весь покрытый огромными алыми маками. Просто-таки алый ковер! Мы шли вдоль этих зарослей маков, широко распахнувших лепестки. Я бережно двумя пальцами подхватил качавшийся на ветру бутон и развернул его к дочке.
– Смотри, как много внутри всего! Пчёлы и шмели, как из чашки, пьют оттуда сок.
Маки были почти в рост дочки. Она то и дело останавливалась, нагибалась, отводила назад и в стороны руки и утопала носом то в одном, то в другом маковом бутоне. И я поступил не очень красиво – взял и сорвал с общественного газона один из самых ярких и больших цветков. Я торжественно вручил его дочке. Мы пошли дальше.
И вдруг, предупредив о своём появлении жужжанием и гудением, объявился шмель.
– Это наш знакомый? Который из парка? – спросила дочка.
– Вроде другой, – ответил я. – Полоски не такие, как у того.
А шмель пристроился на лепестки цветка, который несла дочка. Переполз с одного лепестка на другой – и нырнул в самую глубину макового бутона. Дочка внутренне замерла. Она ступала осторожно и несла маковый бутон как необыкновенную драгоценность. Она смотрела прямо перед собой – и одновременно как бы внутрь цветка и внутрь себя. Ветер покачивал стебель с бутоном. А дочка словно и не дышала.
Шмель временами гудел внутри бутона. И от его движений бутон тоже покачивался. Но дочка боялась заглянуть внутрь цветка – чтобы не помешать шмелю и не спугнуть его. Она вся прониклась тем доверием, которое оказали ей природа, цветок и шмель.
А потом, напитавшись, шмель улетел, гудя в вышине на прощанье. Дочка оттаяла. Но до самого дома так и несла цветок, словно чудесное хрупкое чудо-сокровище.
Брызгалов Марк
Собачница
Крепкий кирпичный дом, оштукатуренный и аккуратно побелённый, с чистым свежевыкрашенным крыльцом, резными строгими наличниками и зелёным забором, как магнитом притягивал к себе. Не столько он, сколько его обитатели: баба Надя и деда Костя.
Деда Костя, седой ветеран, начинал служить пехотинцем, прошёл всю войну, два раза горел в танке, выжил, был контужен. Два раза родные получали на него похоронки. Уже и оплакать успели, а мать не верила и ждала. Когда пришёл, это был настоящий праздник, Светлый, Теплый, Летний – каких мало. Как же по-другому – этой минутой и жили всю войну. Верили: будет и на нашей улице праздник.
Когда собрались в доме родителей односельчане, как принято, пошли рассказы о жизни, о войне вернувшихся фронтовиков, мать долго слушала, а потом тихо сказала:
– Вымолила я у Бога тебя.
После революции, в 30-е, в селе закрыли церковь, а война началась – в соседнем селе открыли храм и разрешили богослужения. Так она туда стала ходить: 10 километров туда, десять обратно. Пешком. И в летний зной, и в лютую стужу. А утром на работу.
Живёт в русском сердце жажда справедливости, помноженная на терпение и смекалку, и жажда эта согнет любого супостата в бараний рог. И… милосердие живёт. Вот тётка Ефросинья – вечная труженица, мужа и пятерых сыновей забрала у неё война. Одна осталась она на всём белом свете. Старики рассказывали, когда на последнего, на младшего, похоронку получила, так завыла жутко, до мурашек, до холодка за спиной. На другом конце села слышно было. Без слов понятно – горе. А когда после войны гнали на восток пленных немцев, зелёных совсем, наварила картошки, отнесла им. Их же тоже ждут матери дома – пусть хоть они вернутся… Откуда силы брались?
Был весенний перестроечный день, каких много. В тот день я, уставший и слегка измотанный, возвращался из школы. Баба Надя, (всегда, сколько помню себя, доброжелательная и отзывчивая) выходила на улицу, отворив калитку. Дружный собачий лай огласил всю округу, оповещая о выходе из дома хозяйки. Сколько было собак? Двадцать, тридцать или ещё больше – не знаю, но точно много.
– Баба Надя, зачем ты их всех к себе собираешь? Всё понимаю, любовь к братьям нашим меньшим никто не отменял. Ладно одну, ну максимум две… Зачем столько-то? – спросил я, ведь с соседями вечные проблемы, Пашинины регулярно жалобы пишут, у них обоняние страдает от собачьих ароматов. За глаза собачницей называют.
Бабушка улыбнулась своей всегдашней улыбкой. Мудрой и понимающей. Спокойно от такой улыбки на душе, мирно и радостно.
– Знаешь, я когда вот такой, как ты, была, война началась. А жили мы в Ленинграде. Когда стало совсем тяжко, родители отправили меня в сельскую местность к родным. Тогда казалось, что там больше шансов выжить. Папа свой паёк отдавал мне, а когда не брала, говорил, что не голоден и их кормят от пуза на работе. При этом поглаживал вздувшийся от голода живот. За день до моей отправки он улыбался и развлекал нас с мамой, играя на старом немецком пианино. Он всё извинялся, что оно расстроено. Старался шутить. Это я потом, после войны, узнала, что папа через три дня умер от голода.
Привезли меня, а родных дома не оказалось. Оставили в хате, пододвинули ведро с водой – и всё. Дверь закрывать не стали. Осталась одна, что делать – не знаю. Ослабла так, что с трудом кружкой воду черпала и пила. И вот вижу однажды: в приоткрытую дверь входит собака и кладёт мне на кровать сухарик. Рыжая такая дворняжка, с подпалинами. И, лизнув шершавым языком моё лицо, уходит. Я ведь сначала подумала, что у меня от голода видения начались. Потрогала рукой, а сухарик – настоящий! Помочила в кружке с водой и съела.
И стала та собачка появляться каждый день и приносить сухари. Принесёт, положит и уйдёт. Десять дней или больше, сейчас уже не помню. Но наступил день, когда она не пришла. Ждала я её, ждала – нет. Только когда родственники вернулись, очень удивились, что я жива, находясь столько времени без пищи. Я им про собаку, про сухари рассказала. Они не поверили, посчитали, что я брежу.
Только когда зашли за хату в огород, увидели околевшего рыжего пса с подпалинами, кожа да кости. Он лежал с сухарём в зубах, а в приоткрытом глазу отражалась бездонная синева небес.
Для меня до сих пор загадка: как же так, сам не ел, а маленькой девочке приносил. Однажды рассказала знакомому кинологу. Он недоверчиво выслушал, внимательно посмотрел на меня и спросил: «Сама придумала?» А что тут придумывать, какие ещё нужны доказательства – вот она я. Вот поэтому я всю жизнь не могу пройти мимо братьев наших меньших, нуждающихся в помощи…
Сколько вынесла наша женщина – не дай Бог вынести никому. И когда говорят, что много воды утекло, что пора бы забыть ту страшную войну, встают у меня перед глазами две светлые души: наши баба Надя и деда Костя. И понимаю, что даже если бы захотел забыть – не смог.



