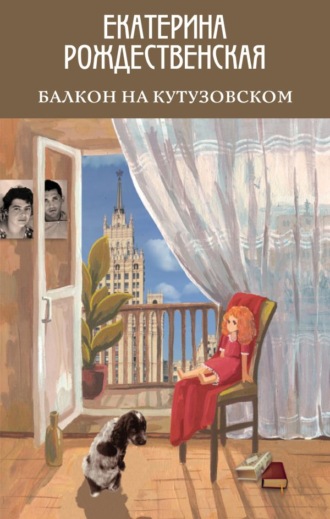
Екатерина Рождественская
Балкон на Кутузовском
***
«Здравствуйте, мои дорогие!
Живем мы в новой квартире. Сплошная лафа. Алена проявляет свои кулинарные способности, я ей, в меру своих сил и тех же способностей – помогаю. Но теперь-то появилось новое место для работы. Работается в новой комнате распрекрасно. Об этом говорят факты – поэму я закончил. В понедельник отнес ее в журнал „Молодая гвардия“. Прочитал редактору. Ему очень понравилось. Долго благодарил меня за то, что я показал поэму именно им. Будут печатать в третьем номере. В общем, в этом смысле все в порядке.
Мебели у нас в комнате достаточно. Четыре хороших стула купили в комиссионке. Письменный стол поставили у самого окна. Вид у комнаты жутко уютный (честное слово, роскошь, а не комната!). Просторно и светло. Осталось только сделать дверь (сделать – в смысле обить ее чем-нибудь) – и тогда все.
Теперь о белилах и олифе. Достать это в Москве очень трудно. Приятель Лидии Яковлевны достал для ремонта где-то за городом у строителей какие-то граммы и говорит, что больше ничего сделать нельзя. Но я поговорю с Володькой (тем самым архитектором) и напишу вам.
Вот вроде, и все наши новости. Пишите нам. Не болейте.
Крепко вас целую,
Роберт».
Квартирка для пятерых была, конечно, невелика, но вполне удобна и уютна, спасибо Володе. Главное, у каждого был, как говорила Поля, свой угол, и еще оставалось место для гостиной или столовой, чтобы всем кагалом сесть за стол – кухня всю семью целиком не вмещала.
Лидка пришла в восторг от светелки, как она с ходу назвала свою спаленку, где впритык поместились только кровать и шкаф. И правда, комнатенка была солнечная, отчего казалась намного просторнее своих скудных восьми метров. Особенно поразила ее внушительная дверь на балкон, да и сам балкон, выходящий на город. Туда вела довольно высокая ступенька – прямо как в вагон поезда – торжественно поднимаешься, потом шаг вниз, и ты уже на балконе. Поля с Лидкой открыли дверь и боязливо встали на границе комнаты, шумно вдыхая теплый воздух.
– Как на корабле, мам, да? – мечтательно сказала Лидка.
– Ну конечно, ты прям у меня с корабля всю жизнь не слезала! Когда последний раз была на корабле-то, мать моя? Девочкой в Саратове? – улыбнулась Поля.
– Смотри, речку видно… А гостиница «Украина» какая огромная! Как «Киевский» торт! Хотя для торта слишком высоко, а для дома слишком сладко. Махина. Я там продовольственный как раз видела. Надо будет сходить на разведку, – Лидка совершенно не замечала вечные материнские подковырки и ехидство, а когда спросила однажды про это, то в ответ услышала неожиданное: «Я образно мыслю! Это физкультура для мозгов, ты ж не хочешь, чтоб я впала в детство? Терпи! Я ведь не буду сама с собой разговаривать! А если начну, то это уже будет конец».
– Да, нам надо будет с тобой все окрестности обойти, чтоб знать, где что и почем. Внизу кондитерская, уже хорошо, не надо далеко за хлебом ходить, и какой-то непонятный магазин «Русский сувенир».
Поля слушала вполуха и улыбалась, глядя сверху на редко проезжающие машины. Она боязливо тронула шершавые балконные перила, проверяя их на прочность. Но ничего, те выдержали, даже не зашатались. Поля придвинулась и смело оперлась на них локтями. Приятно было вылезти из подвала и вознестись над землей, что и говорить. В связи с высотой этого нового для нее положения изменилось все, ну пусть не все, а многое – приблизилось небо и облака, зауважались птицы, которые все разом словно взмыли в воздух, и стало видно – они летают, а не просто ходят и гадят почти в окно, как было на Поварской! А люди отдалились и на расстоянии все казались вполне неплохими, что интересно. Поля смотрела на них, как в лупу на муравьишек в детстве – идут себе проложенными тропинкам, меленькие, все сверху черненькие, даже если среди них попадались и блондины, передвигают ножками, размахивают ручками, тащат кто портфель, кто авоську, кто рулон какой, шагают кто парами, кто поодиночке, медленно, быстро, все в делах, все в движении. А помимо рассматривания людей Полю сильно впечатлила и гостиница, настолько она выбивалась своей роскошью и необычностью из общего пейзажа, на зависть всем приезжим и, конечно, иностранцам! «Как власть ни ругай, а Хрущев молодец, все-таки так Москву преобразил! Вот стою себе сейчас на собственном красавце-балконе, наслаждаюсь замечательным видом, – думала Поля, – что греха таить, вид, конечно, ни в какое сравнение с тем, что был на Поварской, и не идет, тут не поспоришь. Все ухожено, зелено, добротно, ни тебе бумажки, ни фантика на асфальте. А может, с такой высоты и не видно, глаза-то старые. Надо будет вниз спуститься, посмотреть повнимательней. Но балкон – вещь, да».
Да, балкон был главным предметом роскоши в новой квартире. По нему, по балкону этому, можно было сделать целых полтора шага в длину и полшага в ширину. Лидка сразу решила выставить на балкон табуретку, чтобы можно было сидя наблюдать за городом.
Поля с Лидкой порядочно пробыли на балконе, перекидываясь словами, тыкая друг друга в бок локтями и с улыбкой осматривая окрестности. Они, чуть сощурившись, пристально вглядывались в окна дома напротив и разглядывали, у кого какие занавески – импортные или отечественные, что стоит на подоконниках – традесканция или фикус, а потом, для отдыха, переводили взгляд на широкий участок травы внизу под балконом – с кустами и деревьями, отделяющий дом от проспекта.
– Ишь как, зелень с двух концов, Катюле будет чем дышать, правда, Козочка? Только шумновато, конечно, не то что в нашем дворике… – Поля покачала головой.
– Ладно тебе, мам, что ж теперь делать, мы ж в городе живем, пойдем уже в дом, – Лидка пропустила мать вперед и оставила балконную дверь открытой, решила, пусть проветрится. Потом оглянулась снова: ракурс, угол нового взгляда на жизнь стал совершенно другим – не подобострастно-заискивающим, вроде как извиняющимся, снизу вверх, а хозяйским, вседозволенным, чуть властным, аж с шестого этажа вниз.
Катя осталась на рубеже балкона и комнаты.
– Козочка, осторожней, не подходи к перилам, смотри отсюда, со ступенек, – предупредила ее Лида. А Катьке и самой было страшно подойти. Она стояла на возвышении и завороженно смотрела на огромную вывеску перед глазами. Напротив, через проспект, стоял точно такой же дом, как и их – серого кирпича, не блочный, нет, кирпичный и тоже невероятно девятиэтажный, с таким же, как и у их дома, длиннющим козырьком, отделяющим первый, магазинный этаж от второго, жилого. Но дом напротив был во много раз красивей, это и не обсуждалось, по одной простой причине – на самой его макушке, на жестяной коричневой крыше, виднелись огромные буквы. Да и не виднелись они, они торчали! Прямо лезли в глаза! Стояли во всей своей красе, громадные, просто богатырские, нагло и вызывающе действуя на Катькину неокрепшую детскую психику. Она не увидела ничего, кроме этих букв – ни величавой гостиницы с высоченным, уходящим в небо шпилем, ни речку за густыми липами, ни толпящиеся повсюду дома. Собственно, этот вид из окна начинался и заканчивался для нее волшебными буквами размером с двухэтажный дом каждая:
ДОМ ИГРУШКИ
Днем буквы были не так заметны, но вечером, вечером они зажигались, каждая своим цветом – красным, желтым, синим, зеленым – и стояли там в вышине, гордо и неколебимо, по-советски! Катька очень-очень гордилась этими буквам, словно сама их сделала и установила! А главное, теперь она жила без адреса: «Я живу в доме напротив Дома игрушки!» Какой еще адрес был нужен? Хотя поначалу название ее немного смущало – почему «Дом игрушки», а не «Дом игрушек»? Их же там много, а не одна!
Этими буквами, без сомнения, было заражено все ее детское сознание. Когда Катя ложилась спать, они светили ей прямо в окно своими разноцветными огнями, и она перетасовывала их в полусне, составляя все новые и новые слова.7 Это стало ее любимой ночной игрой, ей уже не надо было рассказывать сказки:
ДОМ ИГРУШКИ: УШКИ, ГРУШИ, МИГ, ДУРКИ (пусть и нет такого слова, сразу же понятно, о чем речь, правда?), УРОК, РОК, ШУМ, ШУМОК, УМОК, а когда в 1966-м вышел наилюбимейший фильм «Республика ШКИД», то в ее словарном запасе появилось и новое слово – ШКИД!
Она отодвигала в край плотные занавески, садилась у окна и могла долго-долго перемешивать эти буквы, впустив их прямо в комнату…
***
«Здравствуйте, родные мои, хорошие мои, Лидия Яковлевна и Полина Исаевна!
С прошлого письма прошло, наверное, целых 10 дней, все никак не находилось у меня и секундочки присесть и написать, сплошные переезды, выступления и встречи. Вот уже целых 20 дней, как мы мотаемся по Югославии. Объездили всю страну. Это и неудивительно. Первая советская делегация аж с 1948 года. Встречают очень здорово. Сначала, правда, приглядывались, присматривались, даже принюхивались, а потом все пошло нормально. Летели мы сюда с пересадкой. Сначала до Праги 2 часа на нашем „Ту-104“. В Праге еще целые сутки ждали югославский самолет Берлин- Белград. Приземлились, и началось: встречи, встречи, встречи! Дискуссии с югославскими писателями, приемы, коктейли…
Я немного удивился, что меня здесь неплохо знают, – оказывается, много переводили и писали обо мне. В общем, прием отличный. Чувствуется, что в целом наши дела с Югославией уже пошли на поправку. И это здорово, уж очень хороший народ – честный, гордый, веселый и умный. Любовь к России осталась несмотря ни на что. Бывает, что вечером после приемов и выступлений нам с Аленой удается немного погулять, во всяком случае, стараемся в гостиницу возвращаться пешком, если это не слишком далеко. А в целом поездка очень интересная, хоть и немного утомительная, но уверен, что запомнится она нам надолго.
Целую вас крепко,
Роберт.
Р. S. Алена пишет вам чаще и больше, но просит и в моем письме передать вам привет и крепко обнять и поцеловать от нее Катьку! Очень мы соскучились».
Потихоньку приживались. Сразу после переезда как-то сама собой завелась собачка. Никто о ней и не помышлял, хотя Катя, конечно, о живности всегда мечтала, но чтоб специально заводить, так нет. Но тут родственники подбросили спаниельку, по всем статьям чистокровную такую, беленькую, с шоколадными пятнами по бокам и на морде. Приблудилась к ним на даче в конце осени, то ли бросили ее бывшие хозяева-изверги, поиграв лето, то ли заблудилась и потеряла родню, в общем, приковыляла на участок, грязная, голодная и с ушами, полными репьев. Знать, пробиралась сквозь заросли и собрала с округи все колючки, какие только было можно. Прибрела и плюхнулась на пороге, не в силах дальше двинуться, родственники даже не поняли сначала, что за динозавр там у них за дверью вздыхает. Тихонечко открыли, вгляделись, увидели смышленые глазки с ресницами, черный потрескавшийся нос и огромное бесформенное зелено-коричневое тело – сплошь в репьях, словно в нарывах и коросте. Храбро вышли, первым делом покормили живность размоченными в молоке сухарями и стали отдирать колючки. По мере того как гора репьев росла, бесформенный зверь неизвестной поначалу породы превращался в премилого длинноухого спаниеля с постоянно виляющим хвостом и вываливающимся от счастья языком. Товарища помыли, отстригли колтуны, укоротили когти – видимо, хозяина он лишился с месяц-два, – и стали думать, что с ним делать дальше. Себе оставить не смогли, обросли за последнее десятилетие пятью котами, а про Киреевских сразу подумали – у них Катька маленькая, а дитю собачонку подсунуть для воспитания и ответственности – милое дело! Вот и привели ее торжественно на Кутузовский в новую квартиру родни. Собачку назвали вполне человечьим именем – Тимка, и он, обнюхав все углы, зажил на новом месте припеваючи. Все его моментально полюбили, видно, были готовы к тому, чтоб еще с кем-то поделиться плещущей через край любовью.
Поводок Тимка никогда не знал и не был к нему приучен, и Поля теперь с удовольствием школьницы каталась вверх-вниз на лифте, чтобы погулять с любимым псом. Ну, она не совсем гуляла, конечно. Она высаживалась на скамейку у подъезда, Тимка убегал по своим собачьим делам во двор – метки поставить, кошек погонять, нужду справить, новости разузнать, облаять алкаша какого – алкашей он не уважал – и возвращался к Поле. Когда гулять с ним не было времени, ему открывали дверь из квартиры, он радостно бежал вниз с шестого этажа, с разбегу пинал обеими лапами дверь подъезда, и та со скрипом выпускала его наружу. Обратно попасть было сложнее, приходилось терпеливо ждать соседей, чтоб открыли и пустили. Его все знали и пускали с удовольствием. Он бежал вверх, язык на плече, через все ступеньки и этажи, пыша счастьем вернуться, наконец, в родимый дом, скребся что есть силы в заветную дверь на шестом этаже, а когда открывали, морда его выражала неподдельное ликование, но с оттенком скромности, как у Смоктуновского в недавно вышедшем фильме «Берегись автомобиля»: «Здравствуй, Люба! Я вернулся!»
Все как-то быстро и на удивление безболезненно вписалось в свою колею. Лидка перезнакомилась со всеми соседями на этаже, Милка-то была уже практически своя, а так Лидка то у одних соль попросит, то у других молоток, третьим, у которых кошка, объедки какие-то подсунет, и пошло-поехало, не только этаж, но и весь подъезд уже родной, а Лидка – главный общественный озеленитель двора, практически начальник зеленых насаждений. Этим своим назначением она сильно гордилась, но называла это «зеленые наслаждения», цветочки она любила. На почве «зеленых наслаждений» познакомилась в один из прекрасных дней с довольно простым внешне, но вполне милым и основательным Федором Степанычем, чуток подраненным бывшим воякой, прихрамывающим, но несильно. Возраста он был вполне среднего, под полвека точно, что было лет на десять-пятнадцать меньше Лидкиных годов. А подошел впервые, когда Лида, стоя на коленях, заботливо подложив под них кусок картона, копалась в земле у подъезда, сажая бархатцы, к которым душа лежала еще с Поварской.
– Вы, гражданочка, недавно переехали, как я понимаю? Раньше я тут никого в такой позе не встречал.
Лидка вытерла тыльной стороной руки лоб, подняла на мужчину свои зеленые лучистые глаза и затрепетала ресницами.
– А вы, гражданин, не смущайтесь от такой моей позы! Кто ж еще сделает, если не я? Домуправ не марается черными работами, да и рабочих на это мелкое садовое дело не нанимает! А мне полчаса в такой позе посидеть да цветы насадить в удовольствие только, а потом все лето глаз будет радоваться! Я ж для всех делаю, не только для себя!
Лидка снова прищурилась на мужичка и вычислила, что он, скорее всего, из крестьян или рабочих, причем в вечном поколении. Особой важности для Лиды это не представляло, просто бросалось в глаза. Все сразу читалось на его простом лице, и спрятать эту преданную дворняжкину сущность не представлялось возможности. Выдавал в основном его нос. Выдавал с потрохами. Он отвесно спускался от переносицы поначалу как вполне греческий, но чуть ближе к концу классическая отвесная часть его резко прерывалась, и на этом стебле красовался широкий, выступающий вперед пятачок с большими ноздрями. Такие носы на века оставались отличительной чертой клана и изменению не подлежали, даже если их обладатели женились на первых сельских длинноносых красавицах. Но это было не так уж и важно – глаза его сияли добротой и теплом, в них чувствовалось доверие и заинтересованность. Несмотря на все это рабоче-крестьянское очарование и простецкое имя-отчество, Федор Степаныч оказался вполне интеллигентского склада, с рассуждениями о высших материях, но без углубления в подробности.
– Да что вы, гражданочка, я только «за»! – Он любовно посмотрел на цветочки, а потом снова на Лидку. – Инициатива в нашей жизни решает все! Куда мы без инициативы? И так приятно, что вы озаботились красотой двора… Этими, так сказать, бархотками, значит… А что, уважаемая, вполне нарядно получится! Эдакое солнечное пятно на сырой земле, путеводная звезда, так сказать! А какие у вас тут растут мальвы, какой чудный цвет! Прям цвет чайной розы! Эти невероятные вспрыски розового по нежно-желтому, эта легкая кудрявость и трогательная беззащитность, этот деликатный аромат и наивная беспомощность… И какая у них, цветочков ваших, разница в росте – приземленные бархатцы и величественные мальвы. Только вот один вопрос, гражданочка, а не низковато ли засели бархатцы-то? У меня опасения следующего порядка, сейчас я вас с ними ознакомлю. Вот, например, собачка из подъезда выскочит, а тут сразу клумба с цветами, она без разбору в центр, в самую красоту и нагадит, чем испортит все высокохудожественное восприятие, которое вы задумали. Или ребенок выбежит…
– И тоже нагадит? – улыбнулась Лидка.
– Необязательно. Но мячом как пить дать стукнет. Я вам что советую – цветочки ваши беззащитные оградить. Я ж не против цветочков, я очень их большой поклонник и только всеми фибрами «за»! Но мальвы-то ладно, сами за себя постоят, а вот бархатцы… Я вот что предлагаю, уважаемая… Хотите, я сейчас шину прикачу – если их в шину засадить, очень празднично получится, и мы устроим клумбу с этим учетом, чтоб не на земле, а в приподнятом, так сказать, состоянии. Собачкам не залезть. К глазу ближе. Сердцу радостней. Ну как? Качу? – И он посмотрел на Лиду просящим взглядом, прямо как первоклашка на директора.
– Катите, не убудет, только осторожнее, а то здесь в большом количестве бегает наше будущее – дети! – смеясь, сказала Лидка и спросила: – А две шины у вас есть? Чтоб симметрично разместить.
– Найдем и две! Я запасливый. Потерпите, детки, дайте только срок! Будет вам и белка, будет и свисток! – несказанно обрадовался гражданин. – А симметрия – это по-нашему!
Вскоре раскрасневшийся Федор Степаныч прикатил две шины и натаскал Лидке несколько ведер земли из-за дома с палисадниками, где жил сам. И снова вернулся, бряцая лейками. Потом Лида принесла с антресолей остатки белой краски, Федор Степаныч мигом шины покрасил, жирно, не жалея краски, и результат пришелся всем. Бархатцы подбоченились, приосанились, заколосились.
– Вы мне, того, сообщайте, если надо в чем помочь, гражданочка. Нравится мне ваше отношение к действительности, – промямлил на прощание мужичок, по-детски ковыряя носом сандалии землю. – Как вас по имя-отчеству-то?
– Лидия Яковлевна я. Спасибо вам за помощь! – Лидка снова опалила его своим необыкновенным взглядом. Хотя во взгляде этом вроде и не было ничего особенного, ну, посмотрела и посмотрела, но был он по-особому манким, невероятно притягивающим и страстным, уж такой она уродилась. Причем степень страсти этой совершенно не зависела от того, куда Лидка устремляла свой взор – на мужчину, бархатцы или кусок копченой колбасы. Федор Степаныч слегка зарделся в ответ и пролепетал:
– Да я от чистого сердца! Как увидел, что такие красавицы прям в земле своими нежными руками копаются, коленки грязнят! Не должно такое допускаться! Так что ежели чего, я тут, всегда под рукой и с превеликим удовольствием! Можете целиком и полностью на меня рассчитывать! Вон, видите два окна? – Федор Степаныч махнул на окна второго этажа деревянного соседнего дома, подслеповато глядящие на Лидкин подъезд. – Это мои!
Они вежливо распрощались, но с тех пор Федор Степаныч подкарауливал Лиду, как только она выходила из подъезда:
– Кстати, уважаемая Лидия Яковлевна, я подписался на второе полугодие журнала «Новый мир»! Буду вам рассказывать о новинках! Вы, по ходу сказать, не могли бы мне дать чего-нибудь почитать из вашего любимого? У вас, наверное, библиотека богатая… Я верну, я всегда возвращаю! Вот дали мне недавно «Овода» автора Этель Войнич, какой стиль, какой сюжет, читал с замиранием сердца! А про Джека Лондона и не говорю! Мощный писатель, ух, мощный, чудесник импровизации, гений пера! И этого, как его, Арчибальда Кронина тоже не могу не отметить, был мной частично прочитан!
И при этом Федор Степаныч смотрел на Лидку въедливо и победоносно, как студент, специально к этому случаю выучивший сложные иностранные фамилии и готовый блеснуть знаниями. Он всегда оказывался рядом, возникая как черт из табакерки, стоило только Лидке шагнуть из подъезда. Складывалось ощущение, что он днями и ночами просиживает у своего окна с биноклем, чтобы, завидев Лидию, моментально ринуться к ней бегом со своего второго этажа и предложить помощь. Хоть какую, хоть самую малую, хоть сумочки ваши, Лидочка, донести, или сбегать за молочком для Катеньки, или выполнить любое желание своей сказочной зеленоглазой золотой рыбки. Темперамент у него лез в такие моменты из всех щелей. Поля поначалу побаивалась этой его прыти, звала мужланом, но учтиво здоровалась, когда видела.
Утром в хорошие дни Лидка обычно отвозила Катьку в детский сад, недалеко, две остановки к центру, через реку и сразу на той стороне улицы, в Девятинском переулке, около пустующей церквы, отданной под склад, и стоял детский сад Литфонда. Там Катя занималась всякими детскими делами часов до пяти, потом Аллуся ее забирала, и весь день у всех был вполне свободен. Алена довольно быстро нашла общий язык и подружилась с директором сада, бывшей фронтовичкой с прокуренным басом Еленой Васильевной, шумной, гостеприимной и веселой. Бывало, Катьку оставляли у нее и на пятидневку, условия в саду были прекрасные, воспитательницы вышколенные, гулянье под присмотром, еда здоровая, пятиразовая, а девку надо было постоянно откармливать, очень уж она болезненная получилась, худющая, не зря ее глистой в детсаде обзывали. А что делать-то оставалось, Роба с Аленой много разъезжали, Лидке хоть и жалко было внучку так надолго отдавать, но тоже не очень справлялась и с домом, и с не самой молодой Полей.
Все было бы хорошо и удобно, идеально, можно сказать, но в жизни идеальное случается редко, а то и вообще никогда. Уклад этот работал нечасто именно из-за того, что детские непрошеные болезни наваливались одна за другой. Все в семье стояли на ушах, чтобы ребенка оградить, защитить, укрыть от сквозняков, покормить витаминчиками и прочим полезным, но как Катька была дохлой, так дохлой и оставалась. Причем болела бедняга не просто простудами, ушами там, соплями или другой какой обыденной поносной мелочью, нет, сплошным ужасом – то подряд шли пневмонии, прям одна за другой, одна за другой, без остановки, то неизвестно откуда взялся миокардит, то флюсы и жесточайшие отиты, то ревматизм с по-старушечьи разбухающими коленками и детскими криками от боли по ночам. Ну а про обычные детские болезни, кори да скарлатины с осложнениями и говорить нечего – все было ее… Поэтому на пятидневки хоть она и оставалась, но так, редко-редко, когда позволяло здоровьишко. А в основном суровое детство проходило дома – врачи, уколы, компрессы, отвары из шиповника и иван-чая, ненавистные масляные обертывания и барсучьи жиры с медвежьим салом. Поля очень за нее переживала, все время держала под своим неусыпным надзором, и когда Катька вылеживалась в теплой пенной ванне с бадусаном, всегда заставляла ее петь, чтобы знать, что с ней все в порядке и она не утонула. А Катька в это время не просто лежала и отмокала, а думала, что будет, если она растворится в этой ванне, как мыло, и песня ее оборвется, бабушка придет, а ее и нет, только пенка. А еще про то, что ей однажды сказал папа: мыло убивает микробов. «И это очень грустная история, – думала Катя, – ведь микробов, по словам папы, целые толпы, и они живут везде, в основном на немытых руках, в общем, на всем человеке с ног до головы. А ведь у этих микробов точно есть семья, друзья, дети, почти такие же, как Катька, только поменьше. И тут приходит мыло или наливается в ванну бадусан и убивает! Как это печально», – думала Катька, сидя в ванне и разводя руками ядовитую для микробов пышную пену.
– В кого ж девка такая? – качала головой Лидка. – И родители вроде здоровые, и из подвала уехали, а она, бедняжка, все чахнет и чахнет. Нет, наверное, все-таки из-за того, что первые годы на подвал пришлись, легкие надорвала там, а иначе никак не объяснишь…
Вид у Катьки был и впрямь заскорузлый, полупрозрачный, вечные синяки под огромными глазами, нездоровая, в белизну, кожа и тяжелое старческое дыхание.
– Иди-ка ты ляг, котеночек, – Поля поманила ее, и Катька покорно и бессильно прилегла рядом с прабабушкой. – Ничего, крохотка моя, ничего, сейчас я выколдую из тебя все хвори, ты ж меня знаешь, – Поля гладила ее по белой головке с двумя жидкими косками и шептала: – Господи боже, благослови! Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, аминь. Как Господь Бог небо и землю, воду и звезды, и сырую мать-сыру землю твердо утвердил и крепко укрепил, и как на той мать-сырой земле нет никакой болезни, ни кровяной раны, ни щипоты, ни ломоты, ни опухоли, так бы сотворил Господь и рабу Божию Катерину, твердо утвердил и крепко укрепил жилы ея, и кости ея, и белое тело ея; так бы и у нее, рабы Божей Катерины, не было на белом теле, на ретивом сердце, ни на костях ея никакой болезни, ни крови, ни раны, ни щипоты, ни ломоты, ни опухоли. Един архангельский ключ, во веки веков, аминь…
Поля все шептала и шептала свои вечные миротворные молитвы, гладя Катьку по волосам, успокаивая и убаюкивая ее. Катьке нравился этот таинственный ритуал, было в нем что-то защищающее и необходимое, она сама не понимала, что именно, но всегда сразу и не пререкаясь шла к бабе Поле и подставляла свою беленькую головку под ее молитвенное шептание.
Поля в церковь никогда не ходила, советская власть выбила эту ненужную привычку у граждан, а сами церкви поразбивала или превратила в клубы и склады, но крепкая вера у Поли осталась с тех давних-предавних времен, когда и сама еще девочкой из Астрахани, где родилась, помнила долгие церковные стояния с прадедушкой. В ее детских воспоминаниях осталось от него мало, почти ничего, одно лишь ощущение таинственной защиты. Вот она у него на руках в церкви, выше всех остальных – роста он был недюжинного, – а вокруг волшебный ладанный запах и мерцание свечек, гулкость, божественный хор, а она смотрит, задрав голову вверх, на мягкий свет, отвесно падающий из окошек и освещающий лики. А еще сохранила в памяти невесомое ощущение от его древних шершавых рук, перебирающих ее волосы, шепот молитв и состояние абсолютного необъяснимого растворения и покоя. Редкой доброты великан был.
– Ничего, котеночек мой, ничего, все наладим, направим-выправим! Что не убивает, то делает тебя сильнее, так и знай! Лида, давай-ка ей травки завари! Пора уж, а то никакого ухода за ребенком! – Поля все подтыкала одеяльце под Катькины тощие бока, словно хотела завернуть ее в кокон, подождать маленько и вскорости получить из него бабочку, красивую, сильную и, главное, здоровую.
– Ох ты ж, мать моя, вот время какое пошло, никак тебя хвори не отпустят… Лидка, а может, снова позовешь эту твою, как ее, Евку, врачиху из второго подъезда? Катю надо почаще смотреть, не дело это, раз в неделю в поликлинику возить, там больные все, не по ее это силенкам! – Поля снова подоткнула одеяло под правнучку. – Она мне понравилась, Ева твоя, внимательная такая, опытная! Лидка, ты меня слышишь?
– Слышу, мама! Как будто в этой квартире можно что-то да не услышать! – Лида появилась на пороге с дымящейся чашкой. – Ой, ее не надо даже уговаривать, она и так согласная! Да еще с превеликим удовольствием!







