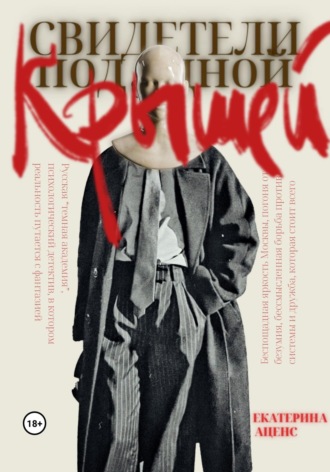
Екатерина Аценс
Свидетели под одной крышей
Глава 1. Побег труса, принесший спасение
С самого начала занятия – это была история искусства, голландская школа портретистов, мелькающие на ткани проектора мазки тяжеловесных красок, – все пошло странным и непривычным для нас образом. Честно признаться, когда учишься на вечернем отделении в Государственном Университете имени Ф. Ротха, существующая вокруг тебя, как студента, реальность начинает приобретать прямо противоположные значения: «хорошо» – это когда в другом вузе было бы «плохо», а «плохо» – когда на нашем бы месте ценящие себя и свое время студенты подали бы документы на отчисление. Парадоксальным образом мы верили в то, что в других университетах не лучше, и, обучаясь здесь по нашему совершенно одухотворенному направлению «Культурный антрополог», нам открывается недоступная для всех остальных дверь, за которой ждет блестящая карьера, деньги и признание научного сообщества. По крайней мере, так считал я – потому что единственный из всех присутствующих в кабинете изредка поднимал глаза на презентацию по голландской живописи. Преподаватель был молодой и нервный; в пыльном кардигане в серую полоску, со следом от острого соуса на уголке губ, о котором никто из нас не решился ему сказать. Ерзающий, вздрагивающий от шорохов копошащейся в сумке старосты, он напоминал мне такую здоровую, домашнюю, откормленную до размера маленького котенка крысу. Таким же острым и боязливым взглядом он порой смотрел на меня, замечая, что я разглядываю карикатурные лица персонажей Яна Стена; наверное, именно эта деталь – его крысиный взгляд – подсказала мне характер его дальнейших действий. С долей самоуверенности он мерзко протянул между зубов имя, которым я сам себя никогда не называл, и ласково произнес:
– Если вы так заинтересовались творчеством Яна Стена, я могу на следующее занятия принести хорошенький томик по голландской живописи, – он довольно похлопал себя по коленям. – Там очень плотная и дорогая бумага, каждая иллюстрация отлично пропечатана! Я в ваши годы был такой же – тянуло к искусству, как к магниту.
– Спасибо, – я вежливо улыбнулся, но через медицинскую маску на пол-лица это отразилось только на морщинах вокруг глаз, а мои круглые, здоровые очки блестели противным лимонным бликом от ламп, поэтому вместо моего лица он видел что-то довольно абстрактное, – было бы здорово. Если вам не сложно…
– Не сложно, конечно, не сложно! – он снова хлопнул себя по коленям.
Староста, сидящая в другом конце кабинета, зажала рот ладонью, чтобы не рассмеяться вслух, и снова принялась копаться в сумке – клянусь, каждые десять минут она доставала оттуда батончик с кокосом и начинала его тихо жевать, и каждый раз она долго смотрела на меня, ожидая, что я попрошу у нее тоже, но я вежливо качал головой, отказываясь. Ни в ее поведении, ни в словах молодого преподавателя не было ничего такого особенного, что могло бы заставить меня насторожиться. Но чем спокойнее становилось в аудитории, чем легче в ней дышалось пропитанным пылью воздухом, чем непринуждённее становилась нудная лекция, чем мягче мозолили глаза мелькающие за окном огни засыпающей дороги, тем яснее становилось – скоро случится что-то особенно плохое. Не было ни дня в нашей университетской жизни на вечернем отделении, в течении которого мы не чувствовали бы за своими плечами тяжелое дыхание застывшего над нами злого издевательства судьбы. Это превратилось в рутину. Однако все мы прекрасно понимали, что ставшая для нас привычной ненормальность происходящего не будет казаться таковой для новенького молодого преподавателя. Вот он и ерзал все время на месте – может, подсознательно ощущал, что последует после. Я взглянул на часы – до конца занятия оставалось еще сорок минут. Два раза по двадцать, четыре – по десять. За такой щедрый отрезок времени можно было бы уместить целую жизнь какого-нибудь микроорганизма или разрушить полмира. Нам, как студентам, была предначертана лишь одна участь – мука ожидания конца пары.
Мое мировосприятие всегда отличалось особой внимательностью к деталям. Те последние несколько минут нашего мирного существования я запомнил мелким подрагиванием ладоней старосты, скрипом шин у проезжающей по узкой дороге перед нашими окнами легковой машины, медлительной дробью капели, бьющей по железной трубе со стороны улицы, тяжелым дыханием сидящего возле меня одногруппника; помню, когда поднял на него взгляд, он посмотрел на меня в ответ – на дне его болотных глаз тяжело осел горчичный блеск паники и беспомощности, как у антилопы, зажатой мощной челюстью аллигатора. Не знаю, что в тот момент отразил мой взгляд, – то ли вспышку отчаяния, то ли надежду на лучший исход для нас всех – но потом мне стало не до этого: ушли на второй план шорохи и скрипы, запах пыли, гул машин, взгляд одногруппника, мелькающие в моей голове образы желто-оранжевой пасти крокодила и кадры из документального фильма про животных. Раздался грохот – и в нашем кабинете погас свет. Экран проектора пошел рябью. Вся наша маленькая группа, состоящая из шести человек, замерла на своих местах; мне показалось, что мы превратились в единый организм. Дышали мы в одном темпе; наши частые, тихие выдохи и вздохи зазвучали в унисон. Даже гул от выключающегося компьютера напомнил мне тогда паническое дыхание загнанного животного. Преподаватель застыл на месте. Нелепый в своей глупой беспечности, он хрипло рассмеялся – от звука его каркающего смеха мне сделалось так не по себе, что вспотели ладони.
– Что это еще за фокусы? – негромко произнес он, оглядывая нас вопросительным взглядом. – Нам отключили электричество в здании, что ли?
Мы молчали. Со стороны коридора раздались громкие, тяжелые шаги; перед дверьми нашего кабинета кто-то пробежал, потом хлопнула дверь – с такой силой, что, должно быть, практически сорвалась с петель. Несильно, но громко ударили по стене, примыкающей к нашей аудитории; от испуга я подскочил на месте, преподаватель схватился за край стола, бледнея лицом, староста на другом конце кабинета медленно поднялась на дрожащих ногах и знаком показала мне придвинуть стул к двери. Тихо, практически бесшумно передвигаясь по старому паркету, я послушался ее. Чем ближе я подходил к двери, тем отчетливее слышал беспорядочный шум по ту сторону от нее: кто-то матерился под нос, бренчали цепочки, половицы старого, криво стесанного пола заходились отчаянным скрипом от чьих-то грубых шагов. Стоило мне придвинуть стул к двери, – так, чтобы ее нельзя было отпереть – раздался оглушительный грохот. Мне показалось, что в соседнем помещении проломили стену, но вряд ли они дошли бы до порчи здания университета. Нас запугивали. Над нами издевались. Я взглянул на старосту – ее бледное, изможденное лицо лишилось всей живости, взгляд потух, глаза превратились в темные впадины на ее осунувшемся лице.
– Что происходит? – преподаватель вжался в компьютерное кресло. – Почему вы все молчите? Кто там, что они делают?
– Разве вам не сказали, почему платят в два раза больше за работу в вечернее время? – староста тяжело опустилась на стул.
– Сказали, что, – он вздрогнул и боязливо посмотрел на дверь. Шаги затихали, – что студенты, бывает, шумят в коридорах. Я… Я не думал, что шумят настолько сильно… Это же срывает учебный процесс! Мне нужно сообщить… Нет, я не могу. Мне нужно позвонить!
– Связь не ловит, – я пожал плечами. – Странно, обычно к нам посылают преподавателей, которые в курсе всех… Тонкостей. Почему вы тогда согласились приходить? Вас же предупреждали.
Снова раздался грохот – и гадкий, лающий смех. Они испытывали наше терпение.
– Это возмутительно! – преподаватель вскочил на ноги. Его кардиган с объемными пуговицами перекосило в сторону, когда он принялся беспокойно вертеться, собирая разбросанные по столу бумаги. – Я не могу работать в таких условиях! Я вынужден – заметьте, вынужден покинуть вас! Наше занятие вам возместит другой преподаватель.
– Вы шутите? – молчащая до сих пор одногруппница выпрямилась на своем стуле; от ее тяжелого, блестящего презрением взгляда даже мне сделалось не по себе, преподаватель и вовсе ошарашено замер, роняя на пол засаленные бумажки с конспектами. – Если вы уйдете посреди занятия, ничто не остановит их от того, чтобы зайти в кабинет. Ваше присутствие – единственное, что им мешает. Только преподов они не трогают, они не хотят попадаться им на глаза. Как только вы уйдете, они ворвутся к нам в кабинет, и неизвестно, что с нами сделают.
– Кто это, «они»? – искусствовед нагнулся, чтобы дрожащими пальцами ухватиться за край бумаги; неосторожным движением он смял ее, принялся торопливо запихивать к себе в сумку. – О ком вы вечно говорите? Это вы о тех негодяях, которые шумят в коридоре? Так я выйду, поговорю с ними! Не бойтесь, моего авторитета хватит, чтобы они больше не безобразничали!
– Вы идиот? – староста вся дрожала: то ли от злости, то ли от паники. Я взглянул на свои ладони – тремор у меня был не меньше. – Мы третий год это терпим, ни один препод не смог с ними договориться, им не важно ничье мнение, третий год мы учимся закрывать на это глаза, ходим по коридорам только в сопровождении препода, трясемся от страха, когда выходим из вуза. Третий год ходим в деканат и жалуемся, и нам обещают разобраться с проблемой. Разобрались? Да им наплевать! И на ваши жалобы им будет насрать! Если уйдете сейчас, то подставите всех нас. Неизвестно, что будет, если мы останемся одни. Вам совесть позволяет быть таким трусом?
– Я не трус, – преподаватель схватился за стул перед дверью и резко отодвинул его в сторону; испуганный, практически не понимающий ничего от накатившего ужаса, я вскочил на ноги и попытался схватить искусствоведа за плечо, чтобы остановить, но он уже стоял на пороге – дверь была широко распахнута, позади зияла черная пасть стихшего коридора. – Я просто ценю свою безопасность! Простите. Я вынужден уйти.
И он бросился бежать. Его неказистая фигурка быстро растворилась в темноте: коридор, подобно черной дыре, поглотил все оттенки его пыльного кардигана и стрельчатых брюк. Чудом я успел захлопнуть дверь прежде, чем тишину разбил гул уверенных шагов. События завертелись, как дрожащая пластинка с пестрой картинкой в стиле поп-арт – в моей голове как наяву зазвучал жизнеутверждающий мотив, запел саксофон и покладистый голосок скрипки. Под взрыв радостных гитарных аккордов мы навалились на дверь, пока староста вместе с двумя одногруппницами двигали преподавательский стол. Дверь сотрясалась от ударов; мой слух ласкал мягкий мужской баритон, и я представил себя в пропитанном сигаретным дымом зале. Там был приятный полумрак, за моей спиной шептались, рокочуще играясь согласными звуками, британцы. В смокинге, вальяжно развалившийся в бархатном кресле, я сидел перед сценой – грохот ударов по хлипкой двери нашего кабинета превратился в аккуратное цоканье каблуков танцовщиц; передо мной, улыбаясь голливудской улыбкой, стоял молодой Энгельберт Хампердинк. Уверенно подмигнув мне, он схватился за микрофон; совместными усилиями девочки начали двигать дубовый стол к двери, чтобы ее нельзя было открыть со стороны коридора, но, стоило Хампердинку в моей голове начать первый куплет «A man without love», дверь сотряс удар такой силы, что меня и одногруппника швырнуло на пол. Пластинку заело на одной фразе. В моей голове запищал белый шум; падая, затылком я грубо приземлился на выступающий вперед деревянный плинтус.
– Черт! – староста всхлипнула и осела на пол, – Черт возьми! Как я устала от этого. Черт!
Корявый скрип медленно открывающейся двери заставил нас всех замолчать. Как беспомощно двигающийся по сухому асфальту дождевой червяк, я стал отползать вглубь кабинета, пока не уперся спиной в острые металлические ножки стула. Казалось, сам воздух загустел и замер – превратился в желе, и дышать им сделалось так же тяжело, как если бы мне в глотку стали проталкивать желейные куски. Тишина опустилась на нас плотным коконом. За дверью была темнота длинного коридора – в нем не было ни одного человека, но мы все чувствовали чье-то присутствие. Может, они прятались по углам? Может, успели убежать? Может, заняли свободные кабинеты и ждали, когда мы выйдем, чтобы наброситься? Самое отвратительное, самое мерзкое и гадкое, что мы ощущали в тот момент, было незнание. От него у меня царапала желудок паника и сводило в страхе зубы. Мы знали, что они сделали с нашей бывшей старостой – прогулка в одиночестве по темному коридору, и на следующий день она звонит нам из больницы. Ее скинули с лестницы, и не знаю, чем успели еще запугать, раз до сих пор она говорила, что поскользнулась сама, винить стоит только ее собственную неуклюжесть, и никогда в жизни она не слышала никакой шум во время занятий вечером, никогда не сталкивалась с издевательствами в ГУ им. Ф. Ротха. Нас ждало что-то еще хуже – так я думал, когда тихие шаги приближались к нашей широко распахнутой двери. Никто из нас не нашел в себе силы сдвинуться с места, чтобы закрыть ее – наверное, накатившее на меня отчаяние сделалось обще ощущаемым чувством.
– Наплевать, – староста тихо всхлипнула, – мне уже наплевать.
В том, как неуклюже она принялась шуршать пакетами в своей огромной сумке, я понял желание достать кокосовый батончик – предложи она мне его тогда, и я бы согласился.
Тишину коридора тонко разрезал свист. До сих пор не знаю, что за мелодия это была, но в тот момент она показалась мне самой прекрасной и зловещей одновременно; ноты опускались и поднимались вверх, взлетали выше, отлетая эхом от бетонных стен, и негромкие, быстрые шаги звучали словно аккомпанемент для этого свистящего соло. Потом нам в глаза ударил свет.
Это был первый раз, когда я увидел ее. В тот момент она показалась мне женским воплощением Клинта Иствуда. Медленно я пополз взглядом от ее сапог с широким голенищем к ремню – металлическая пряжка зазвенела, когда она переставила ноги. В руке, подобно револьверу, она сжимала большой черный фонарик, и нижняя часть ее тонкого лица оттенялась холодным светодиодным рефлексом. Мне сделалось абсолютно ясно, что на фоне должен был заиграть саундтрек из спагетти-вестерна – в моей голове он давно звучал во всю, в моей голове она стояла не на пороге обшарпанной двери, а посреди техасской прерии, с ковбойской шляпой на затылке и спиралью лассо около бедра, и позади ее статной фигуры, на дрожащем от жары горизонте скакала черной стрелой взмыленная кобыла, ударялась копытами о желтую крошку камня; скрипела далекая железная дорога, перебирая маслянистыми колесами поездов, как насекомое – тонкими лапками, хрипел пьяным смехом шумный трактир, звенело золото, пели рикошетом револьверные пули. Улыбаясь сквозь дымку поднявшегося в воздух песка и пыли, она произнесла хриплым голосом:
– Не бойтесь. Я ваш новый куратор.
И горячий южный ветер сурового американского штата взметнул в воздух копну ее кудрявых красных волос.
– Можете звать меня Евой.
Глава 2. Вознесение
Страх был прямо противоположной ее существу стихией. Каждое отточенное уверенностью движение Евы было полно смелости и несвойственной нам беспечности – как будто медленная поступь старшекурсников по старому паркету коридора была частью нашего воображения, как будто никто и ничто нам не угрожало, как будто мы были обычными третьекурсниками, в голове у которых были мысли только о тех студенческих проблемах, которые понятны всем: сессия, долги, лень, курсовая. Ева не осталась стоять в дверях; она села на криво стоящий дубовый стол, свесила вниз ноги, каблуки на ее старомодных ковбойских сапогах ударились о деревянную поверхность, и этот глухой стук на несколько минут стал единственным звуком, который раздражал мой слух. В нелепой и жалкой позе распластавшись на полу, я так и продолжил глядеть на нее – снизу вверх, как собачонка на свою хозяйку.
– Кураторов они тоже не трогают, – Ева засмеялась взглядом, когда увидела меня; какая-то детская задорность читалась в добром блеске ее светлых глаз, – Я по совместительству преподаватель, работаю в деканате, курирую вечерние группы. Жаль, что раньше не добралась до вашей группы: было слишком много дел. Насколько я знаю, у вас это последний день перед стажировкой? Завтра уже уезжаете заграницу?
– Все, – я поднял руку, – кроме меня.
Это была моя до абсурда несправедливая участь – каждого неудачника из нашей группы ждали кирпичные стены новенького чешского университета в неоклассической клетке плоских колонн, пикники на салатовой лужайке – такого же сочного зеленого оттенка как блестящая спинка ядовитой квакши; их ждали светлые аудитории и приветливые лица новых знакомых, роговая оправа очков на носу уважаемых профессоров, сахарный аромат от горячего какао в чистой столовой, подносы с едой, скрип туфель по пластиковому паркету. Почему-то я был уверен: пахло там жирными листьями алоэ и кипарисом, в каждом аккуратном пространстве уютных кабинетов стоял запах соленого арахиса и бумаги, персикового чая со сладкой мякотью на дне стакана. На полгода мне было суждено остаться одному. Меня ждали желто-серые стены, кривые устья трещин на каменном потолке, болотный свет моргающих от усталости ламп, неприятный запах – бетон, пыль, влажная древесина, старость, дождь с полупрозрачными хлопьями снега. Кто бы знал, почему мне так не повезло. Кто бы ответил: почему на меня одного не хватило места? Деканат пожимал плечами – «Что-ж, остается Вам только присоединиться к другой вечерней группе, будете посещать с ними занятия»; «Вы уже приходили к нам на прошлой неделе – ответ остался прежним, мест на стажировку не осталось, мы сожалеем»; «Не забудьте закрыть дверь – вот так, ручку надо два раза вниз опустить, ее еще не починили!». Я хотел им ответить – и не починят. Ручку два раза надо было опустить уже как третий год. Деканат на любые жалобы, просьбы, вежливые или не очень, пожимал плечами с прежней беспечностью; сидящая за столом тучная женщина хранила в своем стеклянном взгляде удивительно хорошо читаемое безразличие. Порой мне казалось, что она не слышит, что ей говорят – как будто она была роботом, не воспринимающим человеческую речь, но умеющим говорить шаблонными фразами. Бездушная марионетка в чьих-то властных руках.
– Одинокий воин, значит, – куратор улыбнулась мне.
– Зовите меня Казимиром, – я поднялся на ноги и протянул ей ладонь – она поздоровалась со мной по-мужски.
Мы продолжили разговор в небольшом круглосуточном кафе с демократичными ценами для студентов: оно стояло возле нашего вуза. С заляпанными грязью панорамными окнами, освещаемое внутри одной лампочкой дешевой люстры, кафе встретило нас усталым ворчанием кофе-машины и еле-слышным «Добро пожаловать» от сотрудницы, синяки под глазами которой напомнили мне о том, что уже близилась полночь. Не знаю, каким чудом мы вышли из университета: Ева быстро вела нас за собой по черным, мертвым коридорам, и она сама, ее тонкая, но высокая фигура, звук ее уверенного шага – сапоги с широким голенищем отбивали радостную, бодрую дробь, – придал и нам уверенности. Еще никогда я не чувствовал себя в такой безопасности, подходя к дверям вуза: за ними нас ждала молочная прохлада московской улицы, круглый диск луны, втесанный в черное небо. Свобода. Больше бояться было нечего – только следующего дня.
– Всем вам – удачи на стажировке, – продолжила куратор, когда мы уселись за качающийся деревянный столик. Она повернулась ко мне: – Казимир, ты работаешь?
– Нет, – покачал головой я.
– Тогда будешь эти полгода посещать занятия вместе с дневным отделением. Слишком опасно тебя одного отправлять в чужую вечернюю группу. Для того, чтобы уладить все дела с деканатом, тебе надо подъехать к шести часам в четверг, – она принялась что-то писать на клочке бумаги, который достала из кармана. Карандаш быстро заскрипел с неприятным звуком: я подумал, что она, куратор, все-таки холерик, – Я буду тебя ждать у главного входа, провожу до кабинета, чтобы ты не влип в неприятности.
– Вы знаете, кто это? – вдруг спросил я. Она медленно подняла на меня налившийся тяжестью взгляд. – Знаете, кто издевается над студентами вечерних групп?
В ее вежливом покашливании я услышал нежелание отвечать на мой прямой и неудобный вопрос.
– Мы ведь понимаем, что это такие же студенты, как и мы, – снова попробовал я; староста бросила на меня благодарный взгляд, но я не был уверен, что она поддержит меня, если я и дальше начну давить на куратора. Они все скоро уезжали, им не нужны были лишние проблемы. Меня вдруг накрыло будоражащим самомнением: остался только я, теперь я единственный был нашей последней надеждой, и тогда поток слов сам полился из меня: – Какой-то факультет решил сделать из нас грушу для битья. Этим занимается кто-то, кому не страшно быть пойманным: наверняка, богатые студенты, дети влиятельных родителей. Мы пытались опубликовать наше обращение на сайте вуза, но через секунду его кто-то удалил из администрации. С тех пор вся наша группа – в черном списке. Нам не дают рассказать о том, что происходит. Но вы ведь сами видели: над нами издеваются. Кто дал им право мучить нас, срывать занятия, бить, если мы ходим по коридорам в одиночестве? Кто они такие, чтобы устанавливать нам правила, по которым мы должны передвигаться по вузу? Они запирают кафетерий и столовую, орут и ломают стены, пока у нас идут занятия, оставляют записки. «Свод правил для вечерних крыс»! И только присутствие преподавателя может нас спасти. Неужели это никому не кажется ненормальным? Все наши преподы делают вид, что ничего не происходит. А Вы? Будете делать так же?
– Моя цель, – моментально ответила куратор, – избавиться от них всех. Ты прав, Казимир: деканат все знает, но замалчивает. Я делаю все, что в моих силах, чтобы уберечь каждую вечернюю группу от неприятностей. Мне не всегда это мне удается: ваша староста, несколько девочек с первого курса, парень с четвертого – одни в больнице, других заставили взять академический отпуск, других запугали до отчисления. Мне тоже приходили от них угрозы. Но они меня боятся. Я слишком влиятельная для них. Что это за студенты, сколько их, с какого они курса и факультета – мне так и не удалось узнать. Но одно я знаю точно: они заинтересуются тобой. Ты уже привлек их внимание. Поэтому будь вдвойне осторожен. Раз ты будешь в дневной группе, неизвестно, покажут ли они себя.
– Значит, я теперь Ваш экспериментальный способ выйти с ними на контакт? – я скрестил руки на груди.
– Ты – наша надежда, – Ева оскалилась в клыкастой, яркой улыбке, как гиена из «Короля льва», – мой главный козырь. Четверг, восемь вечера! Запомни!
Наскоро попрощавшись с нами, она пулей вылетела из кофе.
– Так шесть вечера или восемь? – повернулась ко мне староста.
Я коротко пожал плечами. Теперь во мне поселилось подозрение: была ли куратор и правда на нашей стороне? Или на своей собственной? И главное – во сколько мне быть в четверг в вузе? В шесть или в восемь?
«Шесть или восемь?», – крутилось в моей голове, пока скрипучие вагоны метро несли меня все дальше и дальше по тоннелю до конечной станции. «Шесть или восемь?», – спрашивал я себя, с трудом вышагивая километры до моего дома, и таким же вопросом я задавался, поднимаясь на лифте до предпоследнего этажа, и заглядывая себе в глаза, отражающиеся в грязном зеркале маленького туалета своей скромной квартирки. Ночью мой воспаленный волнением мозг создавал неоновые вспышки, закручивал лихие восьмерки и шестерки, все больше и больше путая меня, и утром я проснулся больным и уставшим. Четверг – это было уже сегодня. До самого вечера я разбирал гору накопившихся по предметам долгов, которые мне нужно было сдать в конце недели. Сегодня, как я полагал, меня ознакомят с новым расписанием – на самом деле, оно практически не отличалось от расписания вечернего отделения, просто занятия начинались в разное время. По этой причине я не слишком волновался – новых предметов у меня не намечалось. Меня беспокоило одно – в шесть или в восемь? Будет ли Ева меня ждать, если я приеду не в то время? И что мне делать, если я приеду в вуз раньше нее? Тронут ли меня они? Беспокоясь за свою безопасность, я решил так: лучше мне быть к восьми, потому что, даже если куратор приедет к шести, ей никогда в голову не придет бросить меня в одиночестве, она решит дождаться меня. В конце концов, разве не она сказала, что несет ответственность за вечерние группы? Мне было жаль, что я не взял ее номер, а она – мой, но все же я продолжал надеяться, что в крайнем случае она может попросить мои личные данные в деканате. Дорога до университета показалась мне быстрой, как последний глубокий вздох умирающего; отчаянной, как бессмысленная попытка ухватить все воспоминания о человеке перед прощанием с ним: смотреть долгим взглядом ему вслед и видеть, как медленно его фигура становится все меньше и меньше. С кем я прощался? Чувствовал ли в тот момент, что подхожу к той черте в своей жизни, после которой нельзя будет повернуть обратно? События неслись, как стремительно уносящий меня вперед поезд метро, и вряд ли я был в силах остановить эту всемогущую систему судьбоносного течения жизни.
«Шесть или восемь?», – в последний раз пронеслось в моей голове, когда я открывал тяжелую дверь, ведущую в ГУ им. Ф. Ротха. В холле стоял неприветливый полумрак. Заволновавшись, я совсем забыл, где именно Ева должна была ждать меня. Чувствуя себя беспомощным слепым котенком, я неуверенно пошел вверх по коридору, пока не уперся в привычный вид закрытого кафетерия. Тогда я решил сверится с часами на своей руке.
«Среда, 18:00», – показали они мне. Головокружение заставило меня прислониться к стене.
– Среда, – я принялся судорожно проверять дату на телефоне; руки у меня дрожали, – Не четверг, а среда.
Последняя среда в моей жизни – так я назвал тот день. Среда, а не четверг. Теперь уже было не важно: шесть или восемь, или десять, одиннадцать, двенадцать, час, два, или три часа, или три часа пять минут. В среду не было занятий ни у одной вечерней группы. Если бы меня заметил кто-то из них… Что бы со мной случилось? Я вспомнил поломанную фигуру старосты внизу лестницы, вспомнил то, как она беспомощно плакала, как слезы на перекошенном лице смешивались с бетонной пылью и кровью, и как мы ее втроем поднимали на ноги, как она шла, спотыкаясь, и как дрожало от боли все ее хрупкое тело, и как в моей голове билось внезапное отвращение к блестящим дорожкам соплей у нее под носом, и как меня пронзило стыдом от таких мыслей – все это было так страшно, неприятно, чудовищно дико. Вдруг во мне воспрянула затаенная злоба. Я уставился на дверцы закрытого кафетерия, вслушался в тихий шум, доносящийся оттуда: они сидели прямо там, заперевшись изнутри, а я стоял в шаге от входа в их логово, где они кишели, подобно гадкой рассаде личинок; на выкрашенных в бордовый цвет дверях остались масляные следы от прикосновения чьих-то потных ладоней, в щель между створками пробивался приглушенный теплый свет. Идеальные условия для разведения насекомых. Еда, влага и тепло. Несмотря на ярость, во мне осталась толика благоразумия: она отвела меня дальше от кафетерия, и тогда я понесся, стуча ботинками по кафельному полу, на верхний этаж – в деканат. Может, они бы послушали меня? Может, я бы успел спрятаться у них? Задыхаясь, я перескакивал широкие ступени; под моими ногами промелькнул желтоватый блеск плитки, потом – корявый паркет. Сердце судорожно стучало в груди, надрываясь. Ладони у меня быстро вспотели. Когда мой плоский каблук придавил линолеум третьего этажа, позади меня раздались шаги. Медленная, грубая поступь: так стучали мартенсы. Вверх по моей спине, мелко подрагивая ледяными лапами, взобралась паника; она обхватила своим тельцем мою голову, ухватила и зажала тот нерв, что отвечал за движениями моего тела, и, потакая ее воле, я замер. Не просто замер, но окоченел – все мышцы сковало холодной болью. Бац-бац, – продолжали греметь шаги позади меня. Бац, – сердце остановилось у меня в груди. Бац, – пульс упал куда-то в горло и истошно забился там, глупый и беспомощный. Бац. Бац. И тут я сорвался с места. Не помню, куда я бежал и зачем. Мимо меня мелькали заколоченные двери кабинетов, круглая, тяжеловесная люстра над моей головой кружилась из стороны в сторону, когда ноги заносили меня в стены. Бац! Бац! Бац! – закричали быстрые шаги позади меня. Я не мог дышать, не мог видеть, только слух и остался – о, как бы я хотел оглохнуть в тот момент, когда вдогонку к стуку мартенсов зазвучал другой, более живой и быстрый стук. Теперь их было двое. У меня не было шансов, однако я продолжал нестись вперед, ноги мои истошно ныли от боли, обтесанные ударами о стены плечи скрипели в такт моим лихорадочным движениям: бежать, бежать, спасаться, бежать – по зеленому коридору, по паркету, по пружинистому полу, автоматически сгибать колени, дышать, смотреть только вперед, не оборачиваться назад. Что-то вдруг произошло в тот момент – необъяснимым образом мои ноги ослабели настолько, что я споткнулся, полетел вперед, как брошенный шар для боулинга, упал плашмя на пол, и в голове моей поднялся настоящий шторм: гудело, звенело, волны паники вздымали свои километровые волны над моим жалким, съежившимся сознанием, виски ныли от боли, и сквозь эту невыносимо объемную толщу страха я смог только обрывками ухватить взглядом расплывающийся подо мной линолеум и темно-бордовые следы на нем. Наверное, у меня пошла кровь носом; я потянулся было ладонью до лица, как вдруг меня резко подняли на ноги, ухватив за шкирку как пищащего котенка. Пахло дешевыми сигаретами – такие иногда притаскивал мне брат, аромат у них был горький и хорошо въедающийся в память. Никаких других мыслей в моей голове не успело возникнуть, как не успело возникнуть возможности взглянуть на лица моих новых знакомых – я прозвал их «две пары мартенсов». Меня резко ударили в живот. Согнувшая пополам мое туловище боль была такой острой и внезапной, что следующий удар заставил меня сдавленно закричать; кто-то зажал мне рот рукой. Эта широченная, почему-то маслянистая на ощупь ладонь с силой надавила мне на лицо – так, что мне пришлось закинуть голову назад. Потолок поплыл у меня перед глазами, когда мне прилетел еще один удар – а потом их вдруг стало так много, что я перестал считать их количество, перестал ощущать, куда именно меня ударили, и потолок сделался черным как непроглядное небо ледяной зимой. В какой-то момент мне все же разрешили упасть, но это не принесло никакого облегчения – грубые ботинки начали бить меня в колени и живот, и в руки, которыми я закрыл свое лицо. Перед глазами у меня стоял ярко-красный экран. Иногда он шел рябью – тогда я понимал, что меня снова ударили. И вдруг я услышал его. Две пары мартенсов замерли надо мной, как насторожившиеся приказом собаки. Гул в моей голове чудом рассеялся, и я услышал звучащий с конца коридора голос – негромкий, но такой четкий и строгий, что он показался мне военной сиреной в наступившей вдруг тишине.


