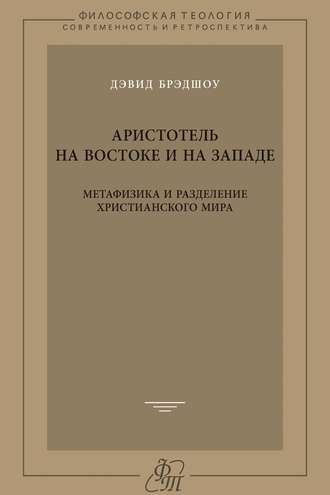
Дэвид Брэдшоу
Аристотель на Востоке и на Западе. Метафизика и разделение христианского мира
Глава 1
Аристотелевские начала
Хотя Аристотель никогда не приписывал себе честь создания термина energeia, трудно сомневаться в том, что он является его изобретением. Он не употребляется в дошедшей до нас греческой литературе, предшествующей Аристотелю, и даже в течение нескольких десятилетий после его смерти этот термин можно найти только в сочинениях философов, особенно принадлежащих к школе самого Аристотеля. В то же время оно встречается 671 раз в сочинениях Аристотеля, почти на каждой второй странице берлинского издания. К сожалению, этимологии этого термина Аристотель касается только один раз, кратко отмечая, что energeia происходит от «дела» или «сделанного» (τὸ ἔργον) (Met. IX.8 1050а22). Хотя это указывает на изначальный источник термина, все-таки в греческом языке встречаются комбинации en и ergon, и скорее всего ближайшим источником слова являются именно такие примеры. Речь идет о прилагательном energos, которое означает «активный», «эффективный», и глаголе energein, значение которого «быть активным или эффективным», «действовать». В обоих случаях корневой смысл слова energeia – что-то вроде «активность», «действие» или «эффективность». Было бы опрометчивым сказать больше этого, опираясь только на этимологию.
Далее можно было бы перечислить различные значения этого термина, как это делается в словарях, иллюстрируя каждое соответствующими текстами[12]. Однако это не объяснило бы нам, что соединяет все эти разные значения в уме Аристотеля и почему он считал, что уместно употреблять один и тот же термин в разных смыслах. В таком случае мы рисковали бы упустить более тонкие нюансы этого термина. Кроме того, это не пролило бы света на тот аспект термина energeia, который нас интересует в первую очередь, а именно на его способность к развитию в самых разных направлениях. Среди вопросов, которыми мы должны будем задаться, есть и такой, который касается не сказанного Аристотелем: какие дальнейшие трансформации использованное им понятие предполагало или вызывало, хотя это и не произошло у него самого? Чтобы ответить на этот вопрос, лучше всего начать с рассмотрения того, как термин energeia развивался в трудах самого Аристотеля.
Такой подход неминуемо поднимает остро дискуссионный вопрос о хронологии аристотелевских творений. Хотя многие заслуженные ученые старались выявить такую хронологию, начиная с Вернера-Йегера, впервые предложившего в 1920-е годы подходить к изучению Аристотеля с точки зрения его философского развития, нельзя сказать, что серьезные препятствия, возникающие на этом пути, были вполне преодолены. Дело не только в недостатке соответствующих свидетельств, как внутренних, так и внешних; самая большая трудность заключается в том, что в ходе своей творческой карьеры Аристотель, судя по всему, исправлял и изменял свои тексты, так что любой из них может содержать страты, относящиеся к разным периодам. Это создает обескураживающую свободу конструирования возможных сценариев. Некоторые факты действительно установлены с достаточной достоверностью – например, что большая часть Органона относится к более раннему времени, чем большая часть «Метафизики». Однако от таких отрывочных фактов до единой последовательной хронологии – огромная дистанция[13].
Мой подход состоит в том, чтобы опираться лишь на такого рода относительные хронологические оценки и прежде всего на те, которые получили широкое признание. Это вполне уместно потому, что нас здесь интересует не столько хронологическое, столько концептуальное развитие. Ничто не мешало Аристотелю употреблять термин по-новому, в то же время продолжая использовать его в старых смыслах, или вводить новое значение бессистемно и лишь гораздо позднее давать ему системное обоснование. Вместо того чтобы рассуждать о точном порядке обнаружения и изложения, гораздо полезнее сосредоточиться на аргументах, посредством которых Аристотель переходит от одного характерного употребления термина к другому, или же, когда нет явных аргументов, – на предположениях, способных показать естественность такого перехода. Хотя результаты этого подхода подлежат ревизии в свете продолжающихся исследований, он обеспечивает необходимую гибкость, поскольку никоим образом не претендует на хронологическую строгость[14].
Energeia как реализация способности
Истоки понятия energeia следует искать в простом различении, которое Аристотель заимствует у Платона. В «Эвтидеме» Платон различает между обладанием (κτῆσις) и использованием (χρῆσις) таких хороших вещей, как пища, питье и богатство (280b-е). В «Клейтофоне» присутствует такое же различение, когда говорится, что если человек не знает, как использовать (χρῆσθαι) нечто, он должен отказаться от владения им и искать руководства у другого. Приводятся самые разные примеры от материальных объектов, как лира, до собственных глаз, ушей или души (407е-408b)[15]. Наконец, в «Теэтете» можно найти различение между обладанием (κτῆσις) знанием и активным «удерживанием» ((ἕξις) его, что уподобляется разнице между обладанием птицей, которая содержится в клетке, и держанием ее в руках (197а-199b).
Подобное различение часто появляется в ранних сочинениях Аристотеля. В отличие от Платона Аристотель относит его почти исключительно к знанию, зрению и другим случаям восприятия. В результате у него оно становится не различением между владением и использованием вообще, но особым различением между владением и использованием способности или возможности души. Аристотель также отличается от Платона тем, что для обозначения владения предпочитает использовать термины hexis или to echein. Наконец, что важнее всего, он часто заменяет chresthai словом energein в качестве одного из членов оппозиции. Типично аристотелевское указание на это различение находим в «Топике»: «“быть лишенным (μὴἔχειν) зрения” противолежит “обладать зрением”, а “не пользоваться (ἐνεργεῖν) зрением” – “пользоваться” им» (1.15 106b19-20)[16]. В другом месте Аристотель противопоставляет обладание (ἕξις) и energeia так, что это очень похоже на то, как Платон противопоставляет обладание (κτῆσις) и chresis[17]. Неудивительно, что Аристотель нередко употребляет chresis и energeia более или менее как синонимы[18]. В «Никомаховой этике» платоновская и аристотелевская оппозиции стоят рядом как грубые эквиваленты: «И может быть, немаловажно следующее различение: понимать ли под высшим благом обладание добродетелью или применение ее (κτήσει ἢ χρίσει), склад души или деятельность (ἕξει ἢἐνεργείᾳ)» (1.8 1098b31—33).
Таким образом, самый простой смысл термина energeia в аристотелевском корпусе, то есть деятельность, оказывается и самым ранним. Самое раннее значение – это деятельность, рассматриваемая специфически как реализация способности по контрасту с простым обладанием. Этот вывод подтверждается другим ранним пассажем, имеющим платоновское происхождение: это Protrepticus b63-65[19]. Этот пассаж начинается утверждением: «Конечно же, действий (ἐνέργειαι) много по числу, и они различны у вещи составной и делимой, а вещи простой по природе, которая по своему бытию не относится к чему-то другому, с необходимостью присуща только одна добродетель в подлинном смысле»[20]. Присутствующая здесь корреляция между количеством частей и количеством «энергий» (energeiai) была бы странной, если бы «энергия» означала не более, чем то, что мы имеем в виду под «деятельностью». Далее в этом пассаже продолжается корреляция «энергии» непосредственно с обладанием способностью ((δύναμις). Там говорится, что если человек является простым существом, то его главное дело – достижение истины; с другой стороны, если человек – существо, наделенное несколькими способностями, то его главное дело – лучшая из них, как забота о здоровье для врача или забота о безопасности для кормчего. И поскольку высшей человеческой способностью является разум, в любом случае главное дело человека – это истина. Вся эта аргументация представляется применением метода, о котором говорится в «Федре». Пытаясь понять нечто, говорит нам Сократ, прежде всего следует выяснить, простая это вещь или сложная; затем надо убедиться в ее способностях воздействовать или испытывать воздействие, которые, соответственно, будут простыми или сложными (270c-d). Аристотель добавляет к этому еще два момента. Первый состоит в том, что каждая способность имеет соответствующую energeia (или ergon); второй – в том, что если имеется более чем одна способность, ergon высшей из них есть ergon вещи в целом.
Приведенный пассаж из «Протрептика» является первым известным случаем корреляции между dynamis и energeia. Эта корреляция (и противопоставление) в дальнейшем получит другое применение, весьма далекое от изначального различения между обладанием и реализацией способности. Начало этого процесса заметно уже в «Протрептике», ибо далее Аристотель говорит:
Как кажется, о жизни говорится в двух смыслах: во-первых, как о жизни в возможности (κατὰδύναμιν), а во-вторых, как о жизни в действительности (κατ’ ἐνέργειαν). Ведь мы называем зрячими тех животных, которые, с одной стороны, имеют зрение и рождены способными видеть, даже если они закроют глаза, а с другой – пользующихся этой способностью и обращающих взор на что-либо. Подобным образом дело обстоит и в отношении знания, и в отношении познания. Одно мы называем использованием способности и актуальным мышлением ((τὸ χρῆσθαι καὶ θεωρεῖν), а другое – обладанием способностью и наличием знания…
Отсюда… следует сказать, что бодрствующий живет истинным образом и в собственном смысле, а спящий живет благодаря возможности перейти в такое движение, наличие которого и позволяет нам, рассматривающим дело со всех сторон, говорить, что он бодрствует и воспринимает какие-то вещи (b79-80)[21].
Здесь надо отметить несколько моментов. Во-первых, обстоятельственные обороты kata dynamin и kat’ energeian. Добавление предлога kata – «в соответствии с» или «соответственно» – преобразует различение dynamis—energeia в средство выявления разных смыслов слова. Различающиеся таким образом два значения не являются независимыми; как поясняет Аристотель, то, что говорится kat’ energeian, означает «истинным образом и в собственном смысле», а то, что говорится kata dynamin, – это производное от первого.
Если иметь в виду это семантическое различие, достаточно одного шага, чтобы говорить о соответствующих уровнях действительности. Далее Аристотель движется именно в этом направлении – хотя и не используя термин energeia. Во-первых, он отмечает, что «о тех вещах, которые имеют только одно определение, мы говорим, что они “больше” не только в смысле их превосходства, но и в смысле предшествования [то есть речь идет о семантическом предшествовании, о чем мы только что говорили]… Стало быть, следует считать, что бодрствующий живет в большей степени, нежели спящий, а бодрствующий душой – в большей степени, нежели просто имеющий душу» (b82-83). И затем он делает вывод, о котором уже говорилось: «У души единственное или самое преимущественное дело – размышлять и делать умозаключения». Поскольку бодрствовать душой – значит жить, отсюда следует, что «правильно мыслящий живет лучше (ζῇ μᾶλλον), а лучше всех живет тот, кто больше всех стремится к истине». Далее следует примечательное утверждение:
И если для всякого живого существа «жить» означает одно и то же, а именно существовать, то ясно, что разумный, пожалуй, и будет существовать самым совершенным образом (κἀν εἴη γεμάλιστα καὶκυριῶτατα), причем тогда лучше всего, когда будет действовать (ἐνεργῇ) и исследовать самый важный для познания предмет (b86).
Ясно, что Аристотель уже готов к тому, чтобы признать некоторое различие уровней реальности. С этой точки зрения, жизнь составляет «истинное существование» (ὅπερ εἶναι) живого существа; жить значит бодрствовать душой, а в разумном существе таким бодрствованием является размышление; соответственно, тот, кто активно размышляет, живет и существует лучше, чем тот, кто этого не делает. Хотя высшая степень реальности не описывается как действительность (ἐνέργεια), о человеке на высшем уровне говорится как о действующем (ἐνεργῇ). Уже здесь предполагается, что «энергия» как деятельность естественным образом ведет к более техническому смыслу – действительности[22].
Итак, мы видим, что существует два смысла глаголов «жить», «воспринимать» и «знать» и что эти два смысла соответствуют двум различным уровням реальности. В De anima II.5 Аристотель разворачивает эту схему в свете своего зрелого гиломорфизма. Он признает, что двусмысленно называть человека даже потенциально δυνάμει) знающим, потому что это можно понять двояко. В одном смысле человек является потенциально знающим просто в силу его материи и принадлежности к определенному роду; в другом смысле он является потенциально знающим только в том случае, если он образован и потому действительно может мыслить, когда захочет, без всякого вмешательства извне. Быть потенциально знающим во втором смысле подразумевает, что человек является потенциально знающим в первом смысле, но не наоборот, так что эти два уровня потенциальности составляют последовательность. Как и раньше, только тот, кто на самом деле мыслит, является знающим «в действительности (ἐντελεχείᾳ) и в полном смысле» (417а28)[23]. Далее Аристотель распространяет свой анализ на ощущения, а также приводит пример о возможности мальчика стать предводителем войска и, судя по всему, допускает, что подобная двусмысленность имеет место в любом случае, когда о вещи говорится, что она обладает какой-то потенциальностью в качестве предиката.
Об этих трех уровнях действительности условно говорят как о первой потенциальности, второй потенциальности (или первой актуальности) и второй актуальности. Хотя такая терминология и полезна, следует иметь в виду, что Аристотель в данном случае различает не столько типы потенциальности или актуальности, сколько способы обладания потенциально или актуально некоторым предикатом[24]. В той же главе далее отмечается, что переход с первого уровня на второй и переход со второго уровня на третий – это переходы разного типа. Чтобы человек, являющийся потенциально знающим в самом слабом смысле, стал потенциально знающим в более сильном смысле, он должен претерпеть изменение в результате повторяющихся переходов от одного состояния к противоположному – то есть в процессе обучения. Это изменение инициируется внешним агентом, который уже обладает тем, чем претерпевающий изменение обладает лишь потенциально. Переход от первой актуальности ко второй, напротив, может происходить без всякого изменения или действия какого-либо внешнего агента: тот, кто уже потенциально знает в сильном смысле, может стать актуально знающим по своему желанию, просто обратившись к имеющемуся у него знанию. Несмотря на это различие, оба типа изменения являются реализацией природы вещи и шагом к более полной реальности. Аристотель описывает первое как переход к «обладанию и выявлению природных свойств» (ἐπὶ τὰς ἕξεις καὶ τὴν φύσιν), а второе – как «переход к себе и к полной реальности» (εἰς αὑτὸ γὰρ ἡἐπίδοσιςκαὶεἰςἐντελέχειαν) (417b6-7)[25].
Один из самых интересных моментов в этой схеме – это то, что переход от первой актуальности ко второй не требует внешнего агента, но происходит сам собой, если ничто ему не препятствует. В Физике VIII.4 Аристотель использует этот момент, чтобы разрешить определенную проблему в своей теории движения. Он хочет объяснить, как движение элементов может быть естественным, не будучи причиной самого себя, что требовало бы, чтобы элементы были живыми. Повторив свои соображения из De anima о способах потенциально знать, он говорит, что «то же относится и к тяжелому и легкому, так как легкое возникает из тяжелого, например, из воды воздух… [оно] уже становится легким и будет действовать (ἐνεργήσει), если ничто не помешает. Деятельность (ἐνέργεια) легкого тела состоит в том, чтобы оказаться в некотором месте, а именно наверху; если оно находится в противоположном месте, то это значит, что ему что-то препятствует подниматься» (255b8-12)[26].
В последнем предложении я следую оксфордскому переводу energeia как «деятельность» (activity). Но само это предложение довольно несуразное: как правило, мы не думаем о пребывании в каком-то месте как о деятельности. Та же проблема возникает и в случае с другим примером, который приводит Аристотель чуть ниже, когда говорит о том, как нечто определенной величины распространяет себя в определенном пространстве. И опять, мы не считаем деятельностью распространение в каком-то пространстве. Эта несуразность указывает на
то, что начинает изменяться значение термина energeia в сторону более широкого понятия актуальности, которое может охватывать статические состояния. В то же время Аристотель оправданно употребляет тот же термин, ибо energeia остается своего рода реализацией способности, даже если это уже не активная реализация. По существу, он решил отдать предпочтение корреляции этого термина с dynamis вместо того, чтобы сохранить его этимологическую ассоциацию с деятельностью. Позднее мы вернемся к развитию energeia в смысле деятельности. Но сначала мы должны рассмотреть, как Аристотель систематически отделяет «энергию» от ранних ассоциаций с движением и изменением.
Различение energeia – kinesis
Лишь один раз Аристотель касается эволюции значений, которую претерпел термин energeia: это утверждение в Метафизике IX.3, что «имя energeia перешло и на другое больше всего от движений: ведь за energeia больше всего принимают движение» (1047а30-32). Мы уже видели, что energeia изначально означала не движение, а реализацию способности. Тем не менее, поскольку такая реализация обычно предполагает движение или, по крайней мере, изменение, оба понятия тесно связаны. Теперь посмотрим, как и почему Аристотель их разделяет.
Первый шаг в этом направлении можно найти в Евдемовой этике II. I[27]. Здесь Аристотель замечает, что вообще собственным делом (ἔργον) вещи является ее цель (τέλος) (1219а8). Однако он добавляет, что следует иметь в виду два разных случая. В первом случае ergon вещи отличается от ее использования, как дом отличается от акта его строительства, а здоровье – от акта врачевания (в данном случае ergon лучше переводить как «продукт»). В другом случае такого различия не проводится. В качестве примеров он приводит видение, которое есть одновременно использование и собственное дело зрения, а также мышление, которое есть одновременно использование и собственное дело математического знания (1219а13—17). Отсюда вывод (хотя Аристотель его и не делает): поскольку во втором случае использование и ergon тождественны, последний также тождествен и цели вещи. Распространив это тождество на использование (χρησις) и energeia (что очевидно из содержания этой главы), мы можем сказать, что в таких случаях «энергия» вещи тождественна ее цели.
Аристотель делает именно такой вывод в знаменитом пассаже из Метафизики IX.6, когда проводит различение между energeia и движением или изменением (κίνησις) (1048b18-34). Он повторяет примеры из Евдемовой этики и добавляет некоторые другие: с одной стороны – строительство дома, лечение, ходьба, похудание и обучение; с другой стороны – видение, размышление, понимание, хорошая жизнь, счастье. Действия первого типа суть движения, так как каждое имеет предел (πέρας) и потому не является само по себе целью, но направлено на цель. Действия второго типа – это energeiai, так как каждое есть цель или, иначе, так как цель в нем заключена (ἐνυπάρχει τὸ τέλος)) (1048b22). В силу этой фундаментальной разницы два этих класса примеров отличаются также и с помощью грамматического теста. Необходимо прекратить совершение действия первого типа, чтобы можно было сказать, что оно совершено, например, нужно прекратить строить дом, чтобы можно было сказать, что дом построен. И наоборот, человек в одно и то же время видит и увидел, думает и подумал, живет хорошо и уже жил хорошо.
О том, как именно интерпретировать этот текст, много дискутировали. Мы вернемся к этому вопросу, но сначала важно обратить внимание на другой значимый текст, касающийся различения energeia – kinēsis: Никомахова этика Х.3-4. Хотя этот текст по видимости посвящен удовольствию, а не «энергии», есть несколько причин, по которым его, как правило, рассматривают с точки зрения разработки различения energeia – kinēsis. Присутствующее здесь противопоставление удовольствия и движения во многом напоминает Метафизику IX.6; это противопоставление иллюстрируется через уподобление удовольствия зрению – образцовому случаю «энергии»; и хотя отрицается, что удовольствие является деятельностью, при этом говорится, что удовольствие «восполняет деятельность» (1174b23), так что удовольствие и «энергия» оказываются связанными самым тесным образом. Ранее Аристотель утверждал, что удовольствие есть energeia, и представляется разумным рассматривать изложенную в Никомаховой этике X теорию как развитие этого более раннего взгляда[28].
В Никомаховой этике Х.З Аристотель отвергает теорию, согласно которой удовольствие есть движение, которое может быть определено с точки зрения быстроты или медленности. Всякому движению свойственна быстрота или медленность, но ни то ни другое не применимо к удовольствию:
Ибо удовольствие можно быстро получить, так же как можно вдруг воспылать гневом, но получать удовольствие невозможно [быстро или медленно ни безотносительно], ни в сравнении с другим, а при ходьбе или росте и всем таком это возможно. Итак, быстро и медленно можно перейти к удовольствию, но осуществлять его (ἐνεργεῖν κατ’ αὐτήν), то есть получать удовольствие, невозможно быстро (1173 аЗ 4-b4).
Здесь все дело в различных глагольных формах. Пассивный аористный инфинитив ἡσθῆναι (переведенный как «получить удовольствие») указывает на переход от неудовольствия к удовольствию, тогда как инфинитив настоящего времени ἥδεσθαι обозначает не переход, а просто продолжающееся состояние удовольствия. Однако инфинитивы настоящего времени для хождения и роста указывают именно на переход – переход, внутренне присущий самой деятельности. Можно сказать, что кто-то ходит или растет быстро или медленно, имея в виду временные отношения между дискретными стадиями, опознаваемыми в самом процессе. При «переживании удовольствия» таких стадий нет, а соответственно нет и вопроса о скорости.
В следующей главе это различение становится основанием для более общего противопоставления движения и удовольствия. Глава начинается с замечания, что удовольствие подобно зрению, которое «считается в любой миг совершенным, ибо оно не нуждается ни в чем, что, появившись позже, завершит его форму» (1174а14—16). Очевидно, что это утверждение тесно связано со сказанным в Метафизике IX.6: если движение несовершенно, то каждая energeia является целью или содержит в себе цель. Цитированный отрывок продолжается следующим образом:
Удовольствие… есть нечто целостное, и, видимо, за сколь угодно малый срок нельзя испытать такое удовольствие, чья идея за больший срок достигнет совершенства. Вот почему удовольствие не является движением. Ведь всякое движение происходит во времени и направлено к известной цели (как, скажем, движется строительство), и оно завершено, когда достигнет того, к чему стремится, то есть по прошествии всего срока или в это время [завершения]. Но применительно к частям все [движения] не завершены и имеют видовое отличие от движения в целом и друг от друга (1174а17-23).
Чтобы проиллюстрировать, как части движения различаются по виду от целого и друг от друга, Аристотель приводит в пример строительство храма (кладка камней отличается от вытесывания желобов на колонне), а также ходьбу (разные этапы ходьбы различаются). О таких частичных движениях он говорит, что «“откуда и докуда” сообщают им их виды» (1174b5). Он завершает свое рассуждение, приводя в пользу тезиса, что удовольствие не является движением, другой, довольно загадочный, аргумент: «Движение иначе, как во времени, невозможно, а удовольствие возможно, ибо оно дано целиком в настоящем (τὸ γὰρ ἐν τῷ νῦν ὅλον)» (1174b8—9).
Объединив все эти замечания из Этики и из Метафизики IX.6, мы получаем следующую таблицу:

Хотя здесь многое требует комментариев, наиболее озадачивающим является, конечно, последний пункт. Для того чтобы его прояснить, мы можем обратиться к обсуждению времени в Физике. Физика IV. 12 объясняет, что для движения быть «во времени» – значит измеряться временем (221а4-7). Это более строгое требование по сравнению с тем, что сосуществует со временем, как, например, такие вечные истины, как несоизмеримость диагонали квадрата с его стороной. (Аристотель замечает, что если «находиться в чем-нибудь» значит сосуществовать с ним, тогда «всякий предмет будет находиться в любом другом, и небесный свод будет в просяном зерне, так как, когда существует зерно, существует и Небо».) Что значит измерять временем, он объясняет в предыдущей главе: «Мы и время распознаем, когда разграничиваем движение, определяя предыдущее и последующее, и тогда говорим, что протекло время, когда воспримем чувствами предыдущее и последующее в движении» (219а22-25). Другими словами, мы распознаем время, совершающееся в движении, и потому измеряем движение внутренними различиями в самом движении. Это ключевая характеристика движения, которая позволяет Аристотелю определить время как «число движения по отношению к предыдущему и последующему» (219b2).
Таким образом, противопоставление, обозначенное в пункте 7 нашего списка, оказывается в зависимости от того, что говорится в пункте 5. Движение – «во времени», потому что оно обнаруживает неоднородность; отсюда, как замечает Аристотель, само существование чего-либо, находящегося «во времени», предполагает, что время существует (221а24-25). Поэтому утверждение, что удовольствие имеет место «теперь», должно означать отрицание того, что оно предполагает временную неоднородность, или существование времени. (Для Аристотеля «теперь» – это вообще не часть времени, как и точка не является частью линии.) Без сомнения, удовольствие, переживаемое человеческой душой, не имеет временной длительности, но Аристотель утверждает, что ничто в природе удовольствия как такового не требует этого. И если мы правы, прочитав соответствующие рассуждения в Метафизике в свете сказанного в Этике, тогда мы можем сказать то же самое о мышлении, зрении, хорошей жизни и других парадигматических случаях «энергии».
Теперь мы можем вернуться к вопросу грамматического времени в Метафизике IX.6 (пункт 4 в нашей таблице). Относительно этого пункта были предложены три интерпретации. Первая заключается в том, что утверждение, сделанное в совершенном времени («увидел») относится к периоду, который предшествует утверждению, сделанному в настоящем времени («видит»)[29]. Вторая состоит в том, что оба утверждения относятся к одному и тому же периоду времени, однако при этом совершенное время применяется в силу прошлого события – например, человек в настоящий момент увидел в силу прошлого акта опознания чего-либо[30]. Согласно третьей интерпретации, не только настоящее и совершенное время указывают на один и тот же момент, но совершенное время верно также и в силу настоящего момента[31]. Первая точка зрения несовместима с утверждением Аристотеля, что удовольствие (и, по-видимому, другие «энергии») может иметь место «в настоящем». Ее можно также отбросить из лингвистических соображений, так как она подразумевает, что Аристотель употребляет совершенное время в смысле того, что грамматисты называют экспериентивным перфектом (experiential perfect) – то есть, указывая на некое действие в прошлом и не предполагая при этом наличия некоего продолженного состояния, явившегося результатом этого действия. В греческом языке совершенное время отличается от английского тем, что, как правило, такое употребление не допускается[32]. Остаются еще две интерпретации. В пользу второй говорит тот факт, что самое распространенное употребление совершенного времени в греческом языке («результативного перфекта») указывает на некое событие, имевшее место в прошлом. С другой стороны, проверка грамматическим временем с очевидностью предполагает иллюстрацию того факта (или связь с этим фактом), что движение подразумевает завершение, тогда как energeiai не подразумевают, и требует интерпретации в свете этого факта. Это обращает нас к пункту 3: является фактом, что energeia «совершается в каждый момент, ибо не нуждается ни в чем, что, появившись позже, завершит ее форму».
Конечно, сказать, что energeia «совершается в каждый момент», значит указать на то, что ее свершение не требует временного процесса даже в том минимальном смысле, который подразумевается второй интерпретацией. Таким образом, несмотря на доводы грамматического характера, мы должны сделать вывод, что Аристотель употреблял контрастные грамматические времена для того, чтобы сказать нечто большее по сравнению с тем, что предполагает вторая интерпретация. В каждый момент, когда человек видит х, имеет место завершенное видение человеком этого х; а в каждый момент, когда человек думает об х, имеет место завершенное думание этого человека об х[33]. Таким образом, существенной характеристикой «энергий» является совсем не только то, что они темпорально однородны. Суть в том, что они обладают формой (εἶδος), сообщаемой некоей внутренней телеологической структурой – структурой, которая не нуждается во времени для своего свершения. Движение также обладает формой, сообщаемой внутренней телеологической структурой, но в данном случае эта структура может быть завершена только через темпоральное развертывание. В последующих разделах мы увидим, как эти существенные характеристики «энергии», ее внутренняя атемпоральность и ее телеологическая самосвершенность, позволят этому понятию играть решающую роль в аристотелевской метафизике[34].


