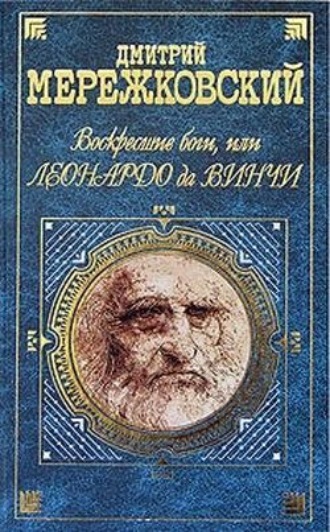
Дмитрий Мережковский
Воскресшие боги, или Леонардо да Винчи
С невольной улыбкой следил Леонардо за выражением пророческой и в то же время легкомысленной, словно школьнической дерзости в лице Макиавелли, в глазах его, блестевших странным, почти безумным блеском, – и думал:
«С каким волнением говорит он о спокойствии, с какой страстью – о бесстрастии!»
– Мессер Никколо, – молвил художник, – ежели вам удастся исполнить этот замысел, открытия ваши будут иметь не менее великое значение, чем Евклидова геометрия или исследования Архимеда в механике.
Леонардо в самом деле был удивлен новизной того, что слышал от мессере Никколо. Он вспомнил, как, еще тринадцать лет назад, окончив книгу с рисунками, изображавшими внутренние органы человеческого тела, приписал сбоку на полях:
«Да поможет мне Всевышний изучить природу людей, их нравов и обычаев, так же, как я изучаю внутреннее строение человеческого тела».
IV
Они беседовали долго. Леонардо, между прочим, спросил его, как мог он во вчерашнем разговоре с капитаном копейщиков отрицать всякое боевое значение крепостей, пороха, огнестрельного оружия; не было ли это простой шуткою?
– Древние спартанцы и римляне, – возразил Никколо, – непогрешимые учителя военного искусства, не имели понятия о порохе.
– Но разве опыт и познания природы, – воскликнул художник, – не открыли нам многого, и каждый день не открывает еще большего, о чем и помышлять не смели древние?
Макиавелли упрямо стоял на своем.
– Я думаю, – твердил он, – в делах военных и государственных новые народы впадают в ошибки, уклоняясь от подражания древним.
– Возможно ли такое подражание, мессер Никколо?
– Отчего же нет? Разве люди и стихии, небо и Солнце изменили движение, порядок и силы свои, стали иными, чем в древности?
И никакие доводы не могли его разубедить. Леонардо видел, как смелый до дерзости во всем остальном, становился он вдруг суеверным и робким, словно школьный педант, только что речь заходила о древности.
«У него великие замыслы, но как-то исполнит он их?» – подумал художник, невольно вспомнив игру в кости, во время которой Макиавелли так остроумно излагал отвлеченные правила, но каждый раз, как пытался доказать их на деле – проигрывал.
– А знаете ли, мессере, – воскликнул Никколо среди спора с искрою неудержимой веселости в глазах, – чем больше я слушаю вас, тем больше удивляюсь – ушам своим не верю!.. Ну подумайте только, какое нужно было редкое соединение звезд, чтобы мы с вами встретились! Умы человеческие, говорю я, бывают трех родов: первые – те, кто сам все видит и угадывает; вторые видят, когда им другие указывают, последние сами не видят и того, на что им указывают, не понимают. Первые – лучшие и наиболее редкие; вторые – хорошие, средние; последние обычные и никуда не годные. Вашу милость… ну да, пожалуй, и себя, чтобы не быть заподозренным в чрезмерной скромности, я причисляю к первому роду людей. Чему вы смеетесь? Разве не правда? Воля ваша – думайте, что хотите, а я верю, что это недаром, что тут воля верховных судеб совершается, и для меня не скоро в жизни повторится такая встреча, как сегодня с вами, ибо я знаю, как мало на свете умных людей. А чтобы достойно увенчать нашу беседу, позвольте мне прочесть одно прекраснейшее место из Ливия и послушайте мое объяснение.
Он взял со стола книгу, придвинул заплывший сальный огарок, надел железные, сломанные и тщательно перевязанные ниткою очки с большими круглыми стеклами и придал лицу своему выражение строгое, благоговейное, как во время молитвы или священнодействия.
Но только что поднял он брови и указательный палец, готовясь искать ту главу, из коей явствует, что победы и завоевания ведут государства неблагоустроенные скорее к гибели, чем к величию, и произнес первые, звучащие как мед, слова торжественного Ливия, – дверь тихонько отворилась, и в комнату, крадучись, вошла маленькая, сгорбленная и сморщенная старушка.
– Синьоры мои, – прошамкала она, кланяясь низко, – извините за беспокойство. Госпожи моей, яснейшей мадонны Лены Гриффы любимый зверек сбежал – кролик с голубою ленточкой на шейке. Ищем, ищем, весь дом обшарили, с ног сбились, ума не приложим, куда запропастился…
– Никакого здесь кролика нет, – сердито прервал ее мессер Никколо, – ступайте прочь!
И встал, чтобы выпроводить старуху, но вдруг посмотрел на нее внимательно сквозь очки, потом, опустив их на кончик носа, посмотрел еще раз поверх стекол, всплеснул руками и воскликнул:
– Мона Альвиджа! Ты ли это, старая хрычовка? А я-то думал, что давно уже черти крючьями стащили падаль твою в пекло!..
Старуха прищурила подслеповатые хитрые глаза и осклабилась, отвечая на ласковые ругательства беззубой улыбкой, от которой сделалась еще безобразнее:
– Мессере Никколо! Сколько лет, сколько зим! Вот не гадала, не чаяла, что Бог приведет еще встретиться…
Макиавелли извинился перед художником и пригласил мону Альвиджу в кухню покалякать, вспомнить доброе старое время. Но Леонардо уверил его, что они ему не мешают, взял книгу и сел в стороне. Никколо подозвал слугу и велел подать вина с таким видом, точно был в доме почтеннейшим гостем.
– Скажи-ка, братец, этому мошеннику хозяину, чтобы не смел угощать нас той кислятиной, что подал мне намедни, ибо мы с моной Альвиджей не любим скверного вина, так же как священник Арлотто, который, говорят, и перед Святыми Дарами из плохого вина ни за что бы не стал на колени, полагая, что оно не может претвориться в кровь Господню!..
Мона Альвиджа забыла кролика, мессер Никколо – Тита Ливия, и за кувшином вина разговорились они, как старые друзья.
Из беседы этой Леонардо понял, что старуха некогда сама была кортиджаной, потом содержательницей дома терпимости во Флоренции, сводней в Венеции и теперь служила главной ключницей, заведующей гвардаробою мадонны Лены Гриффы. Макиавелли расспрашивал ее об общих знакомых, о пятнадцатилетней голубоглазой Аталанте, которая однажды, говоря о любовном грехе, воскликнула с невинною улыбкою: «Разве это хула на Духа Святого? Монахи и священники могут проповедовать, что им угодно, – никогда не поверю я, будто бы доставлять бедным людям удовольствие – смертный грех!» – о прелестной мадонне Риччеи, муж которой замечал с равнодушием философа, когда ему сообщали об изменах супруги: жена в доме, что огонь в очаге – давай соседям, сколько хочешь, не убудет. Вспомнили и толстую рыжую Мармилию, которая каждый раз, бывало, склоняясь на мольбы своих поклонников, набожно опускала завесу перед иконою, «чтобы Мадонна не увидала».
Никколо в этих сплетнях и непристойностях, по-видимому, чувствовал себя как рыба в воде. Леонардо удивлялся превращению государственного мужа, секретаря Флорентинской Республики, тихого и мудрого собеседника в беспутного гуляку, завсегдатая притонов. Впрочем, истинной веселости не было в Макиавелли, и художник угадывал тайную горечь в его циничном смехе.
– Так-то, государь мой! Молодое растет, старое старится, – заключила Альвиджа, впадая в чувствительность и качая головой, как дряхлая парка любви. – Времена уже нынче не те…
– Врешь, старая ведьма, чертова угодница! – лукаво подмигнул ей Никколо. – Не гневи-ка ты Бога, кума. Кому другому, а вашей сестре нынче масленица. Теперь у хорошеньких женщин ревнивых и бедных мужей не бывает вовсе, и, вступив в дружбу с такими мастерицами, как ты, живут они припеваючи. Самые гордые синьоры охотно сдаются за деньги – по всей Италии свальный грех да непотребство. Распутную женщину от честной только разве и отличишь, что по желтому знаку…
Упомянутый желтый знак был особою шафранного цвета головною повязкою, которую закон обязывал носить блудниц, с тою целью, чтобы не смешивали их в толпе с честными женщинами.
– Ох, не говорите, мессере! – сокрушенно вздохнула старуха. – Куда же нынешнему веку против прежнего? Да хотя бы то взять: не так давно еще в Италии о французской болезни никто не слыхивал – жили мы как у Христа за пазухой. Или опять же насчет этого желтого знака – и, Боже ты мой, просто беда! Верите ли, в прошлый карнавал госпожу мою едва в тюрьму не упрятали. Ну посудите сами, статочное ли дело мадонне Лене желтый знак носить?
– А почему бы ей не носить?
– Что вы, что вы, как можно, помилуйте! Разве яснейшая мадонна какая-нибудь уличная девчонка из тех, что со всякой сволочью шляются? Да известно ли милости вашей, что одеяло на ее постели великолепнее папских облачений в день св. Пасхи? Что же касается до ума и учености, тут уж она, полагаю, и самих докторов Болонского университета за пояс заткнет. Послушали бы вы только, как рассуждает она о Петрарке, о Лауре, о бесконечности небесной любви!..
– Еще бы, – усмехнулся Никколо, – кому же и знать бесконечность любви, как не ей!..
– Да уж смейтесь, смейтесь, мессере, а ведь вот, ей-богу, чтобы мне с этого места не встать: намедни, как читала она свое послание в стихах одному бедному юноше, которому советует обратиться к упражнению в добродетелях, слушала я, слушала, да и расплакалась, ну так за душу и хватает, точь-в-точь как бывало в Санта-Мария дель Фьоре на проповедях брата Джироламо, царствие ему небесное. Воистину новый Туллий Цицерон! И то сказать, недаром же знатнейшие господа платят ей за один разговор о тайнах платонической любви разве что на два или на три дуката менее, чем другим за целую ночь. А вы говорите – желтый знак!
В заключение мона Альвиджа рассказала про собственную молодость: и она была прекрасна, и за нею ухаживали; все ее прихоти исполнялись; и чего только она, бывало, не выделывала. Однажды в городе Падуе, в соборной ризнице сняла митру с епископа и надела на свою рабыню. Но с годами красота поблекла, поклонники рассеялись, и пришлось ей жить сдачей комнат внаймы да стиркою белья. А тут еще заболела и дошла до такой нищеты, что хотела на церковной паперти просить подаяния, чтобы купить яду и отравиться. Только Пречистая Дева спасла ее от смерти: с легкой руки одного старого аббата, влюбленного в ее соседку, жену кузнеца, вступила мона Альвиджа на торный путь, занялась более выгодным промыслом, чем стирка белья.
Рассказ о чудесной помощи Матери Господа, ее особливой Заступницы, прерван был служанкою мадонны Лены, прибежавшей сказать, что госпожа требует у ключницы баночки с мазью для мартышки, отморозившей лапу, и «Декамерона» Боккаччо, которого вельможная блудница читала перед сном и прятала под подушку вместе с молитвенником.
По уходе старухи Никколо вынул бумагу, очинил перо и стал сочинять донесение великолепным синьорам Флоренции о замыслах и действиях герцога Валентино – послание, полное государственной мудрости, несмотря на легкий, полушутливый слог.
– Мессере, – молвил он вдруг, поднимая глаза от работы и взглядывая на художника, – а признайтесь-ка, удивились вы, что я так внезапно перешел от беседы о самых великих и важных предметах, о добродетелях древних спартанцев и римлян к болтовне о девчонках со сводней? Но не осуждайте меня слишком строго и вспомните, государь мой, что этому разнообразию нас учит сама природа в своих вечных противоположностях и превращениях. А ведь главное – бесстрашно следовать природе во всем! Да и к чему притворяться? Все мы люди, все человеки. Знаете старую басню о том, как философ Аристотель в присутствии ученика своего Александра Великого, по прихоти распутной женщины, в которую влюблен был без памяти, стал на четвереньки и взял ее к себе на спину, и бесстыдная, голая, поехала верхом на мудреце, как на муле? Конечно, это только басня, но смысл ее глубок. Уж если сам Аристотель решился на такую глупость из-за смазливой девчонки, – где же нам, грешным, устоять?..
Час был поздний. Все давно спали. Было тихо. Только сверчок пел в углу и слышалось, как за деревянной перегородкой в соседней комнате мона Альвиджа что-то лепечет, бормочет, натирая лекарственной мазью отмороженную лапку обезьяны.
Леонардо лег, но долго не мог заснуть и смотрел на Макиавелли, прилежно склоненного над работою с обгрызенным гусиным пером в руках. Пламя огарка бросало на голую белую стену огромную тень от головы его с угловатыми резкими очертаниями, с оттопыренною нижнею губою, непомерно длинною тонкой шеей и длинным птичьим носом. Кончив донесение о политике Чезаре, запечатав обертку сургучом и сделав обычную на спешных посылках надпись – cito, citissime, celerrime – скорее, самое скорое, наискорейшее! – открыл он книгу Тита Ливия и погрузился в любимый многолетний труд – составление объяснительных примечаний к Декадам.
«Юний Брут, притворившись дураком, – писал он, – приобрел больше славы, чем самые умные люди. Рассматривая всю его жизнь, прихожу я к тому заключению, что он действовал так, дабы избегнуть подозрений и тем легче низвергнуть тирана, – пример, достойный подражания для всех цареубийц. Ежели могут они восстать открыто, то, конечно, это благороднее. Но когда сил не хватает для явной борьбы, следует действовать тайно, вкрадываясь в милость государя и не брезгуя ничем, чтобы ее заслужить, деля с монархом все его пороки и будучи ему сообщником в распутстве, ибо такое сближение, во-первых, спасет жизнь мятежника, во-вторых, позволит ему, при удобном случае, погубить государя. Итак, говорю я, должно притворяться дураком, подобно Юнию Бруту – хваля, порицая и утверждая обратное тому, что думаешь, дабы вовлечь тирана в погибель и возвратить свободу отечеству».
Леонардо следил, как при свете потухающего огарка странная черная тень на белой стене плясала и корчила бесстыдные рожи, между тем как лицо секретаря Флорентинской Республики хранило торжественное спокойствие, словно отблеск величия Древнего Рима. Только в самой глубине глаз да в углах извилистых губ сквозило порой выражение двусмысленное, лукавое и горько-насмешливое, почти такое же циничное, как во время беседы о девочках со своднею.
V
На следующее утро вьюга утихла. Солнце искрилось в заиндевелых мутно-зеленых стеклах маленьких окошек постоялого двора, как в бледных изумрудах. Снежные поля и холмы сияли, мягкие, как пух, ослепительно белые под голубыми небесами.
Когда Леонардо проснулся, сожителя уже не было в комнате. Художник сошел вниз, в кухню. Здесь в очаге пылал большой огонь и на новом самовращающемся вертеле шипело жаркое. Хозяин не мог налюбоваться машиною Леонардо, а дряхлая старушка, пришедшая из глухого горного селения, смотрела, выпучив глаза, в суеверном ужасе, на баранью тушу, которая сама себя подрумянивала, ходила, как живая, повертывая бока так, чтобы не пригореть.
Леонардо велел проводнику седлать мулов и присел к столу, чтобы закусить на дорогу. Рядом мессер Никколо в чрезвычайном волнении разговаривал с двумя новыми приезжими. Один из них был гонец из Флоренции, другой – молодой человек безукоризненной светской наружности, с лицом, как у всех, не глупым, не умным, не злым и не добрым, незапоминаемым лицом толпы, – некий мессер Лучо, как впоследствии узнал Леонардо, двоюродный племянник Франческо Веттори, знатного гражданина, имевшего большие связи и дружески расположенного к Макиавелли, родственник самого гонфалоньера Пьеро Содерини. Отправляясь по семейным делам в Анкону, Лучо взялся отыскать Никколо в Романье и передать ему письмо флорентинских друзей. Приехал он вместе с гонцом.
– Напрасно изволите беспокоиться, мессер Никколо, – говорил Лучо. – Дядя Франческо уверяет, что деньги скоро будут высланы. Еще в прошлый четверг синьоры обещали ему…
– У меня, государь мой, – злобно перебил его Макиавелли, – двое слуг да три лошали, которых обещаниями великолепных синьоров не накормишь! В Имоле получил я 60 дукатов, а долгов заплатил на 70. Если бы не сострадание добрых людей, секретарь Флорентинской Республики умер бы с голоду. Нечего сказать, хорошо заботятся синьоры о чести города, принуждая доверенное лицо свое при чужом дворе выпрашивать по три, по четыре дуката на бедность!..
Он знал, что жалобы тщетны. Но ему было все равно, только бы излить накипевшую горечь. В кухне почти никого не было: они могли говорить свободно.
– Наш соотечественник, мессер Леонардо да Винчи, – гонфалоньер должен его знать, – продолжал Макиавелли, указывая на художника, и Лучо вежливо поклонился ему, – мессер Леонардо вчера еще был свидетелем оскорблений, которым я подвергаюсь… Я требую, слышите, не прошу, а требую отставки! – закончил он, все более горячась и, видимо, воображая в лице молодого флорентинца всю Великолепную Синьорию. – Я человек бедный. Дела мои в расстройстве. Я, наконец, болен. Если так будет продолжаться, меня привезут домой в гробу! К тому же все, что можно было сделать с данными мне полномочиями, я здесь уже сделал. А затягивать переговоры, ходить вокруг да около, шаг вперед, шаг назад, и хочется, и колется – слуга покорный! Я считаю герцога слишком умным для такой ребяческой политики. Я, впрочем, писал вашему дяде…
– Дядя, – возразил Лучо, – конечно, сделает для вас, мессере, все, что в силах, – но вот беда: Совет Десяти считает донесения ваши столь необходимыми для блага Республики, проливающими такой свет на здешние дела, что никто и слышать не хочет о вашей отставке. Мы бы де и рады, да заменить его некем. Единственный, говорят, золотой человек, ухо и око нашей Республики. Могу вас уверить, мессер Никколо, – письма ваши имеют такой успех во Флоренции, что большего вы сами не могли бы желать. Все восхищаются неподражаемым изяществом и легкостью вашего слога. Дядя мне говорил, что намедни в зале Совета, когда читали одно из шуточных ваших посланий, синьоры так и покатывались со смеху…
– А, так вот оно что! – воскликнул Макиавелли, и лицо его вдруг передернулось. – Ну, теперь я все понимаю: синьорам письма мои по вкусу пришлись. Слава Богу, хоть на что-нибудь да пригодился мессер Никколо! Они там, изволите ли видеть, со смеху покатываются, изящество слога моего оценивают, пока я здесь живу как собака, мерзну, голодаю, дрожу в лихорадке, терплю унижение, бьюсь как рыба об лед – все для блага Республики, черт бы ее побрал вместе с гонфалоньером, этой слезливой старой бабой. Чтоб вам всем ни гроба ни савана…
Он разразился площадной бранью. Привычное бессильное негодование наполняло его при мысли об этих вождях народа, которых он презирал и у которых был на посылках.
Желая переменить разговор, Лучо подал Никколо письмо от молодой жены его, моны Мариетты.
Макиавелли пробежал несколько строк, нацарапанных детским крупным почерком на серой бумаге.
«Я слышала, – писала между прочим Мариетта, – что в тех краях, где вы находитесь, свирепствуют лихорадки и другие болезни. Можете себе представить, каково у меня на душе. Мысли о вас ни днем, ни ночью не дают мне покоя. Мальчик, слава Богу, здоров. Он становится удивительно похож на вас. Личико белое, как снег, а головка в густых черных-пречерных волосиках, точь-в-точь как у вашей милости. Он кажется мне красивым, потому что похож на вас. И такой живой, веселый, как будто ему уже год. Верите ли, только что родился, открыл глазенки и закричал на весь дом… А вы не забывайте нас, и очень, очень прошу, приезжайте скорее, потому что я более ждать не могу и не буду. Ради Бога, приезжайте! А пока да сохранит вас Господь, Приснодева Мария и великомощный мессер Антонио, коему непрестанно о здравии вашей милости молюсь».
Леонардо заметил, что во время чтения этого письма лицо Макиавелли озарилось доброю улыбкой, неожиданной для резких, угловатых черт его, как будто из-за них выглянуло лицо другого человека. Но оно тотчас же скрылось. Презрительно пожав плечами, скомкал он письмо, сунул в карман и проворчал сердито:
– И кому только понадобилось сплетничать о моей болезни?
– Невозможно было скрыть, – возразил Лучо. – Каждый день мона Мариетта приходит к одному из ваших друзей или членов Совета Десяти, расспрашивает, выпытывает, где вы и что с вами…
– Да уж знаю, знаю, не говорите – беда мне с ней!
Он нетерпеливо махнул рукой и прибавил:
– Дела государственные должно поручать людям холостым. Одно из двух – или жена, или политика!
И, немного отвернувшись, резким, крикливым голосом продолжал:
– Не имеете ли вы намерения жениться, молодой человек?
– Пока нет, мессер Никколо, – ответил Лучо.
– И никогда, слышите, никогда не делайте этой глупости. Сохрани вас Бог. Жениться, государь мой, это все равно что искать угря в мешке со змеями! Супружеская жизнь – бремя для спины Атласа, а не обыкновенного смертного. Не так ли, мессер Леонардо?
Леонардо смотрел на него и угадывал, что Макиавелли любит мону Мариетту с глубокою нежностью, но, стыдясь этой любви, скрывает ее под маскою бесстыдства.
Гостиница опустела. Постояльцы, вставшие спозаранку, разъехались. Собрался в путь и Леонардо. Он пригласил Макиавелли ехать вместе. Но тот грустно покачал головою и ответил, что ему придется ждать из Флоренции денег, чтобы расплатиться с хозяином и нанять лошадей. От недавней напускной развязности в нем и следа не оставалось. Он весь вдруг поник, опустился, казался несчастным и больным. Скука неподвижности, слишком долгого пребывания на одном и том же месте была для него убийственна. Недаром в одном письме члены Совета Десяти упрекали его за слишком частые, беспричинные переезды, которые производили путаницу в делах: «Видишь, Никколо, до чего доводит нас этот твой непоседливый дух, столь жадный к перемене мест».
Леонардо взял его за руку, отвел в сторону и предложил денег взаймы. Никколо отказался…
– Не обижайте меня, друг мой, – молвил художник. – Вспомните то, что сами вчера говорили: какое нужно редкое соединение звезд, чтобы встретились такие люди, как мы. Зачем же лишаете вы меня и себя этого благодеяния судьбы? И разве вы не чувствуете, что не я вам, а вы мне оказали бы сердечную услугу?..
В лице и голосе художника была такая доброта, что Никколо не имел духу огорчить его и взял тридцать дукатов, которые обещал возвратить, как только получит деньги из Флоренции. Тотчас расплатился он в гостинице с щедростью вельможи.
VI
Выехали. Утро было тихое, нежное, с почти весеннею теплотою и капелью на солнце, с душисто-морозною свежестью в тени. Глубокий снег с голубыми тенями хрустел под копытами. Между белыми холмами сверкало бледно-зеленое зимнее море, и желтые косые паруса, подобные крыльям золотистых бабочек, кое-где мелькали на нем.
Никколо болтал, шутил и смеялся. Каждая мелочь вызывала его на неожиданно забавные или печальные мысли.
Проезжая бедное селение рыбаков на берегу моря и горной речки Арциллы, увидели путники на маленькой церковной площади жирных веселых монахов в толпе молодых поселянок, которые покупали у них крестики, четки, кусочки мощей, камешки из дома Лореттской Богоматери и перышки из крыльев Архангела Михаила.
– Чего зеваете? – крикнул Никколо мужьям и братьям поселянок, стоявшим тут же на площади. – Не подпускайте монахов к женщинам! Разве вы не знаете, как жир легко зажигается огнем и как любят святые отцы, чтобы красавицы не только называли их, но и делали отцами?
Заговорив со спутником о римской церкви, он стал доказывать, что она погубила Италию.
– Клянусь Вакхом, – воскликнул он, и глаза его загорелись негодованием, – я полюбил бы, как себя самого, того, кто принудил бы всю эту сволочь – попов и монахов отречься или от власти, или от распутства!
Леонардо спросил его, что он думает о Савонароле. Никколо признался, что одно время был пламенным его приверженцем, надеялся, что он спасет Италию, но скоро понял бессилие пророка.
– Опротивела мне до тошноты вся эта ханжеская лавочка. И вспоминать не хочется. Ну их к черту! – заключил он брезгливо.
VII
Около полудня въехали они в ворота города Фано. Все дома переполнены были солдатами, военачальниками и свитой Чезаре. Леонардо, как придворному зодчему, отвели две комнаты близ дворца на площади. Одну из них предложил он спутнику, так как достать другое помещение было трудно.
Макиавелли пошел во дворец и вернулся с важною новостью: главный герцогский наместник дон Рамиро де Лорка был казнен. Утром в день Рождества, 25 декабря, народ увидел на Пьяцетте между Замком и Роккою Чезены обезглавленный труп, валявшийся в луже крови, рядом – топор, и на копье, воткнутом в землю, отрубленную голову Рамиро.
– Причины казни никто не знает, – заключил Никколо. – Но теперь об этом только и говорят по всему городу. И мнения прелюбопытные! Я нарочно зашел за вами. Пойдемте-ка на площадь, послушаем. Право же, грешно пренебрегать таким случаем изучения на опыте естественных законов политики!
Перед древним собором Санто-Фортунато толпа ожидала выхода герцога. Он должен был проехать в лагерь для смотра войск. Разговаривали о казни наместника. Леонардо и Макиавелли вмешались в толпу.
– Как же, братцы? Я в толк не возьму, – допытывался молодой ремесленник с добродушным и глуповатым лицом, – как же сказывали, будто бы более всех вельмож любил он и жаловал наместника?
– Потому-то и взыскал, что любил, – наставительно молвил кузнец благообразной, почтенной наружности, в беличьей шубе. – Дон Рамиро обманывал герцога. Именем его народ угнетал, в тюрьмах и пытках морил, лихоимствовал. А перед государем овечкой прикидывался. Думал, шито да крыто. Не тут-то было! Час пришел, исполнилась мера долготерпения государева, и первого вельможу своего не пощадил он для блага народа, приговора не дождавшись, голову на плахе отрубил, как последнему злодею, чтобы другим не повадно было. Теперь небось все, у кого рыльце в пуху, хвосты поджали – видят, страшен гнев его, праведен суд. Смиренного милует, гордого сокрушает!
– Regas eos in virga ferrea, – привел монах слова Откровения: «Будешь пасти их жезлом железным».
– Да, да, жезлом бы их всех железным, собачьих детей, мучителей народа!
– Умеет казнить – умеет миловать!
– Лучшего государя не надо!
– Истинно так! – молвил поселянин. – Сжалился, видно, Господь над Романьей. Прежде, бывало, с живого и с мертвого шкуру дерут, поборами разоряют. И так-то есть нечего, а тут за недоимки последнюю пару волов со двора уводят. Только и вздохнули при герцоге Валентино – пошли ему Господь здоровья!
– Тоже и суды, – продолжал купец. – Бывало, таскают, таскают – всю душу вымотают. А теперь мигом решат, так что скорее не надо!
– Сироту защитил, вдовицу утешил, – прибавил монах.
– Жалеет, что говорить, жалеет народ!
– Никому в обиду не даст!
– О Господи, Господи! – всхлипывая от умиления, залепетала дряхлая старушка-нищенка. – Отец ты наш, благодетель, кормилец, сохрани тебя Матерь Царица Небесная, солнышко наше ясное!..
– Слышите, слышите? – шепнул Макиавелли на ухо спутнику. – Глас народа – глас Божий! Я всегда говорил: надо быть в долине, чтобы видеть горы, – надо быть с народом, чтобы знать государя. Вот куда привел бы я тех, кто считает герцога извергом! Утаил сие от премудрых, неразумным открыл.
Зазвучала военная музыка. Толпа заволновалась.
– Он… Он… Едет… Смотрите…
Приподымались на цыпочки, вытягивали шеи. Из окон высовывались любопытные головы. Молодые девушки и женщины с влюбленными глазами выбегали на балконы и лоджии, чтобы видеть героя – «Чезаре белокурого, прекрасного» – «Cesare biondo e bello». Это было редкое счастье, ибо герцог почти никогда не показывался народу.
Впереди шли музыканты с оглушительно звонким бряцаньем литавров, сопровождавшим тяжелую поступь солдат. За ними романьольская гвардия герцога – все отборные молодые красавцы, с трехлоктевыми алебардами, в железных шлемах и панцирях, в двухцветной одежде – правая половина желтая, левая красная. Никколо налюбоваться не мог истинно древнею римскою стройностью этого войска, созданного Чезаре. За гвардией выступали пажи и стремянные, в одеждах невиданной роскоши – в камзолах золотой парчи, в накидках пунцового бархата, с вытканными золотом листьями папоротника; ножны и пояса мечей – из змеиной чешуи с пряжками, изображавшими семь голов ехидны, мечущих к небу свой яд, – знаменье Борджа. На груди выткано было серебром по черному шелку: «Caesar». Далее – телохранители герцога, албанские страдиоты в зеленых турецких чалмах, с кривыми ятаганами. Маэстро дель кампо – начальник лагеря, Бартоломео Капраника, нес поднятый вверх обнаженный меч Знаменосца Римской Церкви. За ним, на черном берберийском жеребце с бриллиантовым солнцем в челке, ехал сам повелитель Романьи, Чезаре Борджа, герцог Валентино, в бледно-лазоревой шелковой мантии, с белыми жемчужными лилиями Франции, в гладких, как зеркало, бронзовых латах, с разинутой львиной пастью на панцире, в шлеме, изображавшем морское чудовище или дракона с колючими перьями, крыльями и плавниками из кованой, тонкой, при каждом движении звонко трепещущей меди.
Лицо Валентино – ему было двадцать шесть лет – похудело и осунулось с тех пор, как Леонардо увидел его впервые при дворе Людовика XII в Милане. Черты сделались резче. Глаза с черно-синим блеском вороненой стали – тверже и непроницаемее. Белокурые волосы, все еще густые, и раздвоенная бородка потемнели. Удлинившийся нос напоминал клюв хищной птицы. Но совершенная ясность, как прежде, царила в этом бесстрастном лице. Только теперь в нем было выражение еще более стремительной отваги и ужасающей остроты, как в обнаженном отточенном лезвии.
За герцогом следовала артиллерия, лучшая во всей Италии – тонкие медные кулеврины, фальконеты, черботаны, толстые чугунные мортиры, стрелявшие каменными ядрами. Запряженные волами, катились они с глухим потрясающим гулом и грохотом, который сливался со звуками труб и литавров. В багровых лучах заходящего солнца пушки, панцири, шлемы, копья вспыхивали молниями, и казалось, Чезаре ехал в царственном пурпуре зимнего вечера, как триумфатор, прямо к этому огромному, низкому и кровавому солнцу.
Толпа смотрела на героя молча, затаив дыхание, желая и не смея приветствовать его криками, в благоговении, подобном ужасу. Слезы текли по щекам старой нищенки.
– Святые угодники!.. Матерь Пречистая! – лепетала она, крестясь. – Привел-таки Господь увидеть светлое личико твое, солнышко ты наше красное!..
И сверкающий меч, врученный папой Чезаре для защиты Церкви Господней, казался ей огненым мечом самого Архангела Михаила.
Леонардо невольно усмехнулся, заметив одинаковое выражение простодушного восторга в лице Никколо и полоумной нищенки.
VIII
Вернувшись домой, художник нашел подписанное главным секретарем герцога, Агапито, приказание на следующий день явиться к его высочеству.
Лучо, который, продолжая путь в Анкону, остановился отдохнуть в городе Фано и должен был выехать утром, пришел к ним проститься. Никколо заговорил о казни Рамиро де Лорки. Лучо спросил его, что думает он о действительной причине этой казни.
– Угадывать причины действий такого государя, как Чезаре, трудно, почти невозможно, – возразил Макиавелли. – Но ежели угодно вам знать, что я думаю, – извольте. До завоевания герцогом Романья, как вам известно, находясь под игом множества отдельных ничтожных тиранов, полна была буйствами, грабежами и насилиями. Чезаре, чтобы положить им сразу конец, назначил главным наместником умного и верного слугу своего, дона Рамиро де Лорку. Лютыми казнями, пробудившими в народе спасительный страх перед законом, в короткое время прекратил он беспорядок и водворил совершенное спокойствие в стране. Когда же государь увидел, что цель достигнута, то решил истребить орудие жестокости своей: велел схватить наместника под предлогом лихоимства, казнить и выставить на площади труп. Это ужасное зрелище в одно и то же время удовлетворило и оглушило народ. А герцог извлек три выгоды из действия, полного глубокою и достойною подражания мудростью: во-первых, с корнем вырвал плевелы раздоров, посеянные в Романье прежними слабыми тиранами; во-вторых, уверив народ, будто бы жестокости совершены были без ведома государя, умыв руки во всем и свалив бремя ответственности на голову наместника, воспользовался добрыми плодами его свирепости; в-третьих, принося в жертву народу своего любимого слугу, явил образец высокой и неподкупной справедливости.







