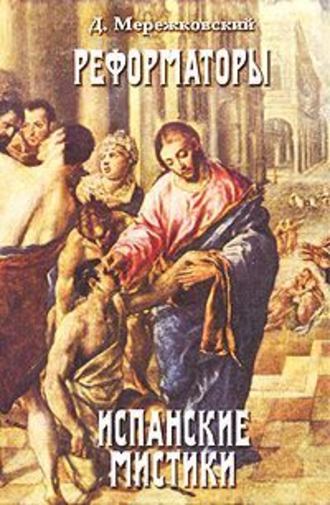
Дмитрий Мережковский
Паскаль
3
Переселившись из Клермона в Париж, Этьен Паскаль вложил все свое имущество в доходные бумаги Парижской Ратуши, но в недобрый час, потому что кардинал Ришелье, всемогущий министр короля Людовика XIII, сделал, как раз в эти дни, то, что власть делала всегда, чтобы наполнить пустую казну, – запустил руку в чужой карман и вынул из него сколько хотел. На четверть были урезаны доходы вкладчиков Парижской Ратуши. Несколько жертв этой несправедливости – в том числе и Паскаль, – выражая свое возмущение главному интенданту-казначею, осыпали его площадною бранью и едва не избили, за что были посажены в Бастилию. Но Паскалю удалось бежать и скрыться у друзей, а потом уехать к себе на родину, в Клермон.[61]
В это время младшая дочь его, восьмилетняя Жаккелина, оставшаяся в Париже у родных, так тяжко заболела оспою, что едва не умерла. Когда в первый раз по выздоровлении увидела она рябое лицо свое в зеркале, то огорчилась, но не очень, а потом и совсем утешилась, сочинив благодарственную молитву в стихах:
Рябинами этими, Боже,
Ты запечатлел лицо мое,
Чтобы девство мое сохранить.
Je les prends, dis-je, o Souverain!
Pour un cachet dont votre main,
Voulut mariner mon innocence…[62]
В те же дни писала она о любви:
Свободна я от ига твоего, Любовь,
Твое безумье разум презирает.
Libre de ton servage et de cette rigueur,
Qui fait que la raison te fuit et te méprise.[63]
Богу решила себя посвятить, но в монастырь идти не хотела, потому что «многое», говорила, «делается в монастырях, что разумными людьми не может быть одобрено».[64]
Сочиняет «Утешение» на смерть одной гугенотки:
Дал ли Ты ей такую веру, Боже,
Только затем, чтобы ее погубить?
Нет, на милость Твою уповаю
И верю в Твой Промысел мудрый,
И вечную благость Твою.[65]
Это значит: хотя и еретичка, будет спасена.
В этих стихах как будто предчувствует она, что будет и сама полугугеноткой-янсенисткой в Пор-Руаяльской обители и так же в молодости умрет за новую веру.
В то же время пишет королеве на ее беременность не совсем приличные для двенадцатилетней девочки стихи:
Каждый раз, как младенец, еще не рожденный,
Движется во чреве матери, —
Это для наших врагов – землетрясение.[66]
«Маленькими чудесами (petites merveilles)» кажутся эти стихи королеве, и Жаккелина, сделавшись придворным поэтом, входит у нее в такую милость, что прислуживает за ее столом.[67]
Однажды, в присутствии кардинала Ришелье, в доме племянницы его, герцогини д'Эгийон (d'Aiguillon), мальчики и девочки – в том числе и Жаккелина Паскаль – играли комедию «Тиранство любви».[68]
«Очень был доволен кардинал, особенно когда я выходила на сцену, – писала Жаккелина отцу. – После представления он взял меня к себе на колени и, пока я читала ему сочиненные мною в честь его стихи, обнимал меня и целовал». «Можете написать отцу, чтобы он возвращался, ничего не боясь», – сказал он ей на прощание.
«В самом деле, Монсеньор, этот человек достоин вашей милости, потому что слишком жалко, что он не приносит пользы государству», – подтвердила госпожа д'Эгийон и тут же напомнила ему о Паскале, уже в пятнадцать лет «великом математике».
Тот при этом присутствовал и под взором Ришелье не смутился: помня, что «снова открыл геометрию Евклида», чувствовал свое величие. Если бы кто-нибудь в эту минуту пристальней вгляделся в невозмутимо спокойное лицо его, с почти неуловимой улыбкой, то, может быть, понял бы, с какой высоты этот мальчик смотрел на всемогущего старика в кардинальском пурпуре. Вот когда впервые овладела им та неутолимая «похоть превосходства (libido excéllendi)», с которой он будет тщетно бороться всю жизнь.[69]
В эти дни Паскаль, на шестнадцатом году, пишет «Опыт о конических сечениях», в котором «делает такое открытие, какое не сделано никем за 2000 лет после Архимеда».[70] Шестиугольник, вписанный в коническое сечение и обладающий тем свойством, что все три точки пересечения двух противоположных сторон его находятся всегда на одной прямой, называет он «Мистической Гексаграммой» (Hexagramme mystique), может быть, уже предчувствуя то, что будет движущей силой всех его открытий, – мистику в математике, веру в познании. Три точки пересечения двух сторон шестиугольника находятся на одной прямой. Один, Два, Три – это сочетание Божественных Чисел, может быть, и есть для него «мистика в математике». «Это исследование мы продолжим, насколько Бог даст нам сил», – заключает он свою теорему, как молитву.[71]
«Опыт» этот прославил его на всю Европу. Будущий соперник его, Декарт, не верил или только притворялся, будто бы не верит, что шестнадцатилетний мальчик мог сделать такое открытие, а втайне ему завидовал. «Чудным отроком» (minis adolescens) называет его великий математик Гассенди, и Лейбниц им восхищается.[72]
4
Ришелье исполнил свое обещание: Этьен Паскаль назначен был главным королевским комиссаром для взимания податей и налогов в Верхней Нормандии, с огромным жалованием в 70 000 ливров.
С нищих и голодных людей пришлось комиссару выколачивать недоимки и усмирять, с помощью военной силы, «Бунт Босоногих», новую Жакерию. Липнет к золоту кровь – это тогда уже понял сын комиссара.[73]
Чтобы облегчить отцу работу по исчислению налогов, он изобрел «счетную машинку», производившую все исчисления по четырем правилам арифметики,[74] и поспешил обнародовать свое изобретение, «чтобы все узнали, каков этот опыт двадцатилетнего юноши», скажет он сам о себе, когда после десятилетних усилий по усовершенствованию машинки и по устройству более чем пятидесяти образцов ее посвятит ее канцлеру Селье (Sellier), жестоко издеваясь в этом посвящении над злополучным соперником своим, Руанским часовщиком, изобретателем такой же машины. «Жалкий выкидыш его был мне так противен, что я и к собственной машине моей охладел бы, если бы не было угодно Канцлеру своим покровительством пресечь в корне это зло, чтобы не лишить меня славы моей».[75]
В этом изобретении Паскаль, может быть, сам уже предчувствовал то, что будет второю движущей силой всех его открытий – прикладное, жизненное действие науки – власть человека над природой.
В то же время начались у него те болезни, которым суждено было длиться, с небольшими перерывами, двадцать лет. «Не было у меня, с восемнадцати лет, ни одного дня без страданий», – скажет он сам в конце жизни.[76] Первое начало этим болезням положил его отец, так же «сглазив», «испортив» его наукой, как некогда клермонтская ведьма – колдовством. Кроме физики, механики и математики, ни о чем не говорил с ним, даже за обедом и ужином, отбивая у него охоту к пище и закармливая плодами с Древа Познания.
Чем-то подобным параличу поражена была вся нижняя часть тела его, ноги иногда почти совсем отнимались, «холодея, как мрамор», и, даже когда начинали служить ему снова, он не мог ходить без костылей.[77]
В эти дни он написал «Молитву о добром употреблении болезней (Prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies)». «Господи, сделай так, чтобы Ты жил и страдал во мне… да утешит меня Твой бич…» «Некогда я считал здоровье благом, не потому, что здоровому мне было бы легче послужить Тебе, Господи… а потому, что я мог предаваться необузданней всем наслаждениям». «Вся моя жизнь доныне была ненавистной Тебе: ибо, презирая слово Твое и святейшие Таинства Твои, я жил в гнусной праздности».[78]
Судя по этим угрызениям, может быть, несколько преувеличенным, но, кажется, все-таки искренним, Паскаль в юности не был вовсе таким «святошей», каким изображает его Жильберта Перье в своем полугугенотском «Житии св. Блэза Паскаля».
В зиму 1646 года Этьен Паскаль, выйдя однажды в гололедицу из дому, чтобы помешать глупому поединку двух друзей своих, поскользнулся на льду, упал и вывихнул себе ногу в бедре так, что был отнесен домой на носилках. Чтобы вправить вывих, пригласили двух знаменитых костоправов, сельских владетельных сеньоров, братьев Дэшан, пламенных проповедников «новой евангельской веры», по св. Августину и Янсению, чья книга «Внутреннего человека преображение», во французском переводе Сен-Сирана, основателя Пор-Руаяльской обители, была в искусных руках двух костоправов тем же для сокрушенных сердец, чем лубки и колодки для сломанных рук и ног.
Братья Дэшаны, прожив около трех месяцев в доме Паскалей, обратили Блэза в новую веру; тот обратил сначала младшую сестру свою, Жаккелину, потом – отца и, наконец, старшую сестру, Жильберту Перье, с мужем, подъехавшую как раз вовремя, в чем не преминули новообращенные увидеть «особый Промысел Божий», так же как в глупом поединке двух друзей, и в гололедице, и в счастливом падении Этьена Паскаля.[79]
Не было, впрочем, никакого действительного обращения, потому что все в доме Паскалей были верующими всегда и только в простоте сердца думали, что можно разделить жизнь на две неравных части, отдавая большую часть – миру, а меньшую – Богу. Но теперь узнали, что этого сделать нельзя и что надо отдать всю жизнь или миру или Богу. Этот-то выбор они и сделали, или им казалось только, что сделали, потому что скоро суждено им было убедиться, что Бога выбрали они больше умом, чем сердцем.[80] Что это было действительно так, видно по делу Паскаля-сына с бывшим францисканским иноком Жаком Фортолом,[81] аббатом Сэнт-Анжем. Этот детски простодушный и безобидный старик точно впал в «ересь», утверждая, что вера нужна только для слабых умов, а сильные могут постигнуть тайны Божии без помощи веры.
Новообращенный Блэз Паскаль, вместе с двумя друзьями своими, Адриеном Озу (Auzoult), юным математиком, и Раулем Галлэ (Halle), сыном важного руанского чиновника, восстали на о. Сэнт-Анжа с такою пламенною ревностью, что сам Торквемада мог бы им позавидовать. Под слишком нескромным и упорным давлением Паскаля Руанский архиепископ вынужден был трижды возобновлять это для него постылое дело, сам допрашивать бедного о. Сэнт-Анжа и заставлять его отречься от ереси, которой, может быть, меньше боялся, чем правоверия Паскаля. Три молодых и злых петушка хотели заклевать добрую, старую курочку.[82] Этот больной юноша на костылях, с прозрачно-желтым, как воск, изможденным лицом, с горбатым носом – хищным клювом – и с огромными, лихорадочно горящими глазами напугал архиепископа так, что ему казалось иногда, что Паскаль обличает в ереси не только о. Сэнт-Анжа, но и его самого.
5
«Похоть знания (libido sciendi) – ядовитейший плод грехопадения», – учит Янсений, и с ним соглашается новообращенный Паскаль, а между тем, в эти именно дни, предавался «похоти знания» с такой неутолимою жадностью, как еще никогда. Видно и по этому, что выбор между Богом и миром он сделал больше умом, чем сердцем. Пока читал Янсения или страдал от болезни – презирал науку; но только что от него отступала болезнь, как демон Знания снова к нему приступал. Что-то было в нем, грешное или святое, что не могло или не хотело умереть для мира.[83]
Осенью 1648 года, продолжая изыскания Галилея и Торичелли, Паскаль делает «великий опыт над равновесием жидкостей (Grande expérience de l'équilibre des liquides)», чтобы опровергнуть идущее от Аристотеля и принятое Декартом учение схоластиков о господствующем в природе «страхе пустоты» (horror vacui).
Шурин Паскаля, муж его сестры Жильберты, советник Судебной Палаты в Клермоне, Флорен Перье, исполнил с точностью замысел его: в присутствии многих свидетелей делал на различных высотах горы Пюи-де-Дома, близ Клермона, то при ясной погоде, то при дожде и тумане, опыты с двумя наполненными ртутью стеклянными трубками – одной у подножия горы, а другой – на вершине, чтобы знать, зависит ли подъем ртути от этих высот. Если бы уровень ее понижался при восхождении на гору, то было бы доказано, что действительная причина этого понижения не «страх пустоты», а тяжесть и давление воздуха, потому что у подножия горы это давление больше, чем на вершине, а утверждать, что природа «боится пустоты» внизу больше, чем наверху, было бы явной нелепостью.
Опытом этим были не только доказаны все гипотезы Паскаля о равновесии жидкостей, но и заложено основание всей точной науки новых времен. «Опыта не может ни заменить, ни опровергнуть никакое отвлеченное понятие». «Опыт убедительнее всех рассуждений». «Разум должен подчиниться опыту».[84]
Есть что-то в человеке выше и сильнее разума; если это понял Паскаль, то понял и то, что янсенисты не правы: знание может и не быть «суетою» (vanitas). А поняв это, он соединил бы, хотя бы только в одной точке, знание с верою – природу с Богом.
В том же году изобретает он гидравлический пресс. Если в замкнутом отовсюду и наполненном водою сосуде находятся два отверстия, одно во сто раз больше другого, и если к обоим плотно прилажены закрывающие их поршни, то сила человека, надавливающего на малый поршень, будет равна силе ста человек, толкающих тот поршень, который во сто крат больше, так что сила эта превзойдет силу девяноста девяти человек. Вот как лучезарно ясно и детски просто это новое учение о гидростатике – один из путей к бесконечному умножению власти человека над природой. Частные законы равновесия жидкостей возводит Паскаль в этом учении и к общим законам механики, доказывая, что три статики – твердых, жидких и газообразных тел – должны быть частями одной будущей науки.[85] И здесь опять предчувствует он возможное соединение знания с верою, Бога с природой. «Три начала – пространство, число и движение, – объемлющие мир», внутренне связаны, потому что «Бог все сотворил по весу, числу и мере (Deus fecit omnia in pondere, in numero et mensura», – скажет Паскаль в своих пророческих заметках «О духе геометрии» («De 1'esprit géométrique»).[86] Движущей силой всех его открытий будет и это предчувствие возможного соединения Бога с природой.
Но и здесь за бескорыстною жаждою знания скрывается у него все та же неутолимая «похоть превосходства». Опыт над равновесием жидкостей он так же спешит обнародовать, как некогда – изобретение счетной машины. «Я это делаю, – признается он, – потому что, употребив на это открытие столько времени, трудов и денег, я боюсь, чтобы кто-нибудь… не похитил его у меня».[87]
Опыт над пустотою еще больше прославил имя Паскаля, возбудив еще сильнейшую зависть в Декарте. «Это я внушил ему два года назад желание сделать этот опыт и уверил его в успехе, потому что этот опыт вполне соответствовал тому, что я предполагал, а ему самому этот опыт и в голову никогда не пришел бы, потому что он был противного мнения», – пишет друзьям своим Декарт. Это значит одно из двух: или Паскаль – вор, или Декарт – клеветник. Чтобы не делать между ними печального выбора, потомство, может, с чрезмерной легкостью оправдает обоих, объяснив все это дело «недоразумением» и «ошибкой» Декарта.[88]







