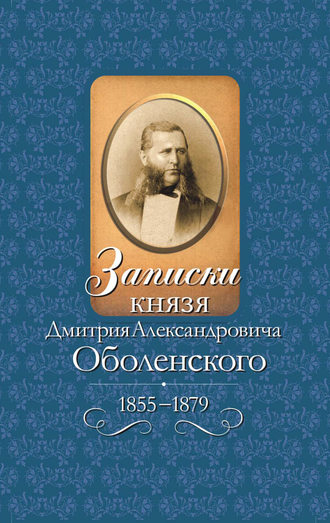
Дмитрий Оболенский
Записки князя Дмитрия Александровича Оболенского. 1855 – 1879
1855 год
Сейчас я узнал, что государь весьма болен. По словам медиков, у него воспаление в легких и подагра в груди. Государь простудился 10-го числа на свадьбе дочери Клейнмихеля, куда поехал в кавалергардской форме, в тонких сапогах, без теплых чулок. Лихорадка продолжалась три дня и была очень слаба, на четвертый день он выехал в манеж смотреть какие-то батальоны – тут он окончательно простудился и вернулся домой совершенно больной. Никто в городе не знал до сегодняшнего вечера о том, что болезнь государя опасна. Бюллетеней нет, граф Орлов сегодня настоял, чтобы с завтрашнего дня начали печатать известия о ходе болезни, чтобы приготовить народ к известию, которое может его внезапно поразить. Боясь, чтобы это не было поздно, доктор Карелль, говорят, сегодня объявил, что не ручается ни за одну минуту.
Кроме Мандта и Карелля, пригласили еще Енохина, доктора наследника, главным образом для того, чтобы в подписях под бюллетенем было хоть одно русское имя. Сегодня вечером государь приобщался – ему сделалось, по-видимому, хуже. Кажется, надежды мало. Говорят, Мандт не совсем потерял ее, впрочем, этому шарлатану верить нельзя. Никто, кроме императрицы и наследника, к государю не допускается. Великий князь Константин Николаевич не видал его уже 5 дней.
Доклад министров принимает наследник. Вчера докладывал ему великий князь. Доклад этот был весьма замечателен. На некоторые представления великого князя наследник не согласился, а в заключение сказал ему тоном совершенно необыкновенным, что он, наследник, весьма доволен всеми действиями великого князя по управлению, что ему весьма приятно слышать, что Морское министерство пользуется большим доверием общества, что это видно из того, что охотнее посылаются пожертвования в Морское министерство, чем в Военное, что он совершенно одобряет намерение великого князя действовать с некоторою публичностью, что он замечал даже князю Долгорукову, почему он не действует так же, на что получил в ответ довольно основательное оправдание, а именно то, что администрации Военного ведомства несравненно сложнее, что вообще он, наследник, очень рад, что в публике все улучшения относят к лицу великого князя.
Слова эти, сказанные положительным и твердым голосом, изумили великого князя, и он был от них в восхищении. Страшная минута наступила для России. Наследника хорошенько никто не знает, что, ежели он окажется достойным своего призвания. Помоги ему Бог. Кругом него нет никого замечательного. В настоящую минуту никто, кажется, не осмеливается выступить вперед и принять на себя необходимые распоряжения для предупреждения недоразумений и замешательств, которые могут произойти от неожиданной вести. Народ вообще не верит естественной смерти своих царей, а в настоящих обстоятельствах не один черный народ может усомниться. Манифестом об ополчении вся Россия теперь поставлена на ноги. Как-то примет она роковую весть? Вся надежда на Бога.
18-го февраля. Сегодня утром разнесли с газетами 3 бюллетеня. Я отправился в Мраморный дворец с докладами, хотя и предвидел, что великого князя, вероятно, не застану. Так и случилось. От Головнина узнал, что за великим князем еще ночью присылали и он еще до сих пор не возвращался из Зимнего дворца. Посему видно было, что дело шло к концу. Садясь в сани, я приказал кучеру ехать набережной мимо дворца, на площади увидел много экипажей и у Салтыковского подъезда народ. Я вышел. Подходя к дворцу, встретил офицера, горько плачущего. У подъезда узнал, что государь только что скончался. Это было в 12 ч. 30 м. пополудни. Во дворец войти не решился и отправился в департамент, чтобы узнать, не получены ли там какие-нибудь приказания. В департаменте долго оставаться не мог, пораженный известием, никакие дела не шли на ум. Между тем из окна[44] видел, что у дворца народу прибавляется и число экипажей увеличивается… Я пошел ко дворцу и, узнав от выходящего князя Ивана Леонтьевича Шаховского, что он уже принял присягу новому государю в числе прочих бывших во дворце, я вслед за другими вошел во дворец. Здесь увидел я статских в сюртуках и военных в мундирах. На лицах всех было написано недоумение и удивление, особенной грусти ни в ком не замечал. Вслед за другими дошел я до Большой церкви, где желающие присягали новому императору. Ни от кого нельзя было добиться толку, я подписал присяжной лист, зная, что мне придется еще присягать в департаменте. Из церкви я пошел по залам и коридорам. В комнатах у нового императора собраны были полковые командиры. Я старался от разных лиц собрать какие-нибудь сведения о последних минутах почившего, но узнал немногое.
В 12 часов ночи императрица предложила ему приобщиться, но он, не считая себя в опасности, хотел отложить до утра. Но потом призвал Мандта, спросил его – не находит ли он его опасным. Мандт отвечал положительно, и вследствие сего государь тотчас же стал с необыкновенным хладнокровием готовиться к смерти. Долго исповедовался, усердно молился и принял причастие в 2 часа ночи. С наследником долго говорил наедине и засим прощался со всеми детьми, прося их жить в мире и согласии. Говорят, все это было исполнено государем с необыкновенной твердостью и силой. Приехавший из Крыма сын князя Меншикова привез письма от великих князей Николая и Михаила. Ему хотели их прочесть, но он отказал, сказав, что не время ему помышлять о земном, приказал читать отходную и постоянно молился. Агония началась отнятием языка, но к утру опять заговорил молитвы и вновь приказал читать отходную и тихо, без больших страданий, скончался в 12 часов и 30 минут пополудни. Вот все, что я мог сегодня узнать. Многих подробностей недостает, которые я постараюсь привести в известность. Говорят про какое-то духовное завещание, и Адлерберг сделан душеприказчиком. Вечером, в 7 часов, назначена панихида в Большой церкви, но так как официального извещения о ней не было, то съехались немногие. На панихиде меня поразило то же, что и утром, а именно: отсутствие признаков глубокой скорби в лицах, которые пользовались милостями покойного. После панихиды я в числе прочих вошел в кабинет государя, где покоилось его тело. В этой комнате он и лежал больной, и в ней умер. Она так мала, что едва можно нескольким человекам в ней повернуться. Тело лежит на походной складной кровати и занимает почти всю ширину комнаты. Никогда во всю мою жизнь я не видывал – и, конечно, не увижу – такого величественного изображения смерти. Лицо покойного, покрытое легким флером, изображало такое спокойствие и такую красоту, что, конечно, самый равнодушный человек не мог бы не быть тронут таким зрелищем. В ожидании бальзамировки тело еще не одето в мундир. Я приложился к покойному с невыразимым чувством, которого определить не могу. Покойный перед смертью отдал все приказания насчет своих похорон. Согласно оным, тело будет выставлено на 8 дней в комнатах Ольги Николаевны, а потом перенесено в крепость, где также будет стоять неделю. Срок этот слишком короток, вероятно, его заменят. Из Зимнего дворца я отправился в Мраморный дворец, чтобы узнать у Головнина о здоровье великого князя. Головний сказал мне, что великий князь очень огорчен и расстроен. Завтра назначен выход.
19-го февраля. Сегодня собрались мы в департаменте и приводили чиновников к присяге. В час пополудни отправился я во дворец на выход. Сначала велено было съезжаться в полной парадной форме, а потом отменено – всем быть в черных брюках, что всем гораздо приятнее, и это обстоятельство, хотя ничтожное, но не осталось без замечания. Во дворце собралось множество лиц обоего пола, никто не знал хорошенько своих мест, отчего происходила немалая путаница. Сегодня, как и вчера, и даже более вчерашнего, поразило меня совершенное равнодушие к совершившемуся событию. Всякий толкует о своем, и, казалось точно, как будто собрались на обыкновенный выход: ни слезинки, ни вздоха, ни даже огорченного лица не видал я ни в ком из важных, которые более других отмечены были покойным. В городе, на улицах, то же равнодушие – ни одной души не было на площади, а в лавках и магазинах торговля, как будто ничего не бывало. Нет сомнения, что в Париже и в Лондоне, по получении первого известия о смерти государя, все заколышется – а здесь ровно ничего, как будто все по-старому. Это замечание делали многие. Казалось даже, что под видом равнодушия скрывалась внутренняя радость. Явление нового императора и императрицы произвело сильное на всех впечатление. Государь и особенно императрица в сильном волнении, с глазами, полными слез, приветствовали всех с достоинством. На лицах всей царской фамилии видна печаль. В церкви Панин прочел манифест, засим Баженов прочел присягу, и потом провозглашена была новая эктения и многолетие. Во все время службы государь от умиления плакал. На возвратном пути он шел бодрее, и лицо его выражало приличное спокойствие. Великий князь, проходя мимо меня, судорожно пожал мне руку, по лицу судя, он был весьма опечален и взволнован. Засим все разъехались по домам, и, казалось, ничего особенного не случилось. Вечером я нарочно поехал в клуб посмотреть, что там делается, и послушать, что там говорят. Но, к величайшему моему удивлению, никто ничего не говорит и все преспокойно играют в карты, как будто ничего не бывало. Не думаю, чтобы в Москве и вообще в России так же легко было принято известие о смерти покойного государя. Петербург – просто департамент, а жители его – чиновники. Вышел директор – поступил другой, чиновники поговорят день и перестанут в уверенности, что жалование все-таки получат.
20-го февраля. Сегодня во всех церквах читался манифест, и народ слушал его без проявления каких-либо чувств. В газетах напечатано два приказа нового императора к войску – объявлено переименование полков, назначение Редигера командующим Гвардейским и Гренадерским корпусами – вот и все. Утром я поехал к Головнину, чтобы узнать у него некоторые подробности о происходящем, дорогой заехал записаться к великой княгине Елене Павловне; Головнина я застал дома, и мы долго беседовали с ним. В словах его я заметил необыкновенную перемену. Он силился доказывать мне, что великий князь не должен ни во что вмешиваться и ограничиваться единственно званием морского министра. Все возражения мои и сомнения насчет того, что трудно будет сохранить бесстрастное положение в вопросах, не идущих и касающихся до интересов всей земли, что в жизни и в частных случаях положение его как брата императора, будет весьма неопределенным и проч., он настойчиво утверждал, что никакого другого значения и никакого другого места, кроме морского министра, великий князь иметь не должен и не хочет. Тон, которым все это было говорено, возбудил во мне, не знаю почему, сомнения в искренности выставляемых убеждений, тем более что они несогласны были с тем, что за несколько дней перед этим он мне говорил. Мне казалось, что Головний, находясь под каким-то страхом, хочет настроить меня на лад, опасаясь, чтобы я не проговаривался в другом смысле. Воротился домой в 4 часа, мне сказали, что за мной приезжал вестовой от великой княгини Елены Павловны с приглашением приехать к ней немедленно. Я надел фрак и отправился. Принят был в туалетной. Она только что возвратилась из Зимнего дворца. После нескольких слов о постигшем несчастии она мне сказала, что ночью, когда государю сделалось очень худо, она поехала во дворец, вошла к нему в комнату, и он ей сказал: «Сest très bien à vous, Madame Michel, d'être venue me voir et me dire adieu. Il paraît, que je»[45] – и при этом свистнул и показал рукой, что уходит. «Dites bien des choses de ma part à Catherine et à son mari»[46].
Великая княгиня хотела поцеловать его руку, но он не дал и поцеловал ее просто. По словам великой княгини, государь долго боролся со смертью и под конец он сильно страдал, спазмы и удушья мучили, и так, что было страшно смотреть – язык его несколько раз переворачивался, потом вдруг он успокоился, все полагали, что он скончался, но вдруг опять начались припадки и страшные мучения. Все это он переносил с чрезвычайным спокойствием и терпением. Великая княгиня говорит, что его скверно лечили. Оставленное завещание писано было в 1846-м году, в нем, кроме воззвания к детям, выражена благодарность Орлову, Киселеву, Бенкендорфу, Клейнмихелю и назначены некоторые пенсии и также подарки. Призвала она меня затем, чтобы сказать, что непременно надо действовать на великого князя и убедить его стараться войти в доверие брата и иметь влияние на дела, ибо она предвидит, что начнутся страшные интриги и государем завладеют люди неблагонадежные, глупые и шпионы. Она сказала мне, что сейчас во дворце к ней подходила великая княгиня Александра Иосифовна[47] и жаловалась на то, что Мария Николаевна[48] начинает уже забирать силу и что этому нужно помешать. Великая княгиня взяла сторону Константина Николаевича и стала говорить ему, что теперь пришло время ему воспользоваться его способностями и приобрести хорошее влияние на брата, что теперь возбуждены будут дела, которые будут требовать умного обсуждения и проч. На это великий князь отвечал, и довольно сухо, что он ничего сделать не может, что его дело – Морское министерство, что он первый слуга императора, и проч. и проч… Из всего этого великая княгиня вывела заключение, что он не оправдает вновь никаких надежд и что все это может дурно кончиться, что она помнит, как в начале царствования покойного государя он (государь) хотел советоваться по делам с Михаилом Павловичем, но что этот также уклонялся и, кроме военного, ничего знать не хотел, о чем впоследствии сам жалел, ибо отучил государя от желания говорить с ним о делах и иногда сам хотел и не знал, как быть впоследствии, но вынужденным находился иногда действовать через нее. В новом императоре она не предполагает ни характера, ни воли и убеждена, что Ростовцев и другие, под маской добродушия, любви и преданности, будут стремиться <приобрести> большое влияние. О многих вопросах, по словам ее, уже толкуют разную дребедень, как то: о возвышении дворянства, т. е. о какой-то аристократии, что эта мысль не находит большого сочувствия в новой императрице и Марии Николаевне, на которую действует Строганов, что нежность доходит до того, что всех казенных крестьян полезно было бы обратить в помещичьи и проч. и проч. Одним словом, по всему видно, что начинается каша и готовится страшная путаница. Чем все это может кончиться – право, не знаю. Сохрани Бог, если все эти бабьи сплетни правда будут иметь влияние на дела. Нет ни одной мысли, которая не смогла бы прийти в голову какой-нибудь Марии Николаевне, когда она захочет придумывать правительственные меры для блага России, на которую не может смотреть иначе, как глазами французской гризетки. Право, страшно. Я отвечал великой княгине, что я не имею решительно никакого влияния на великого князя и что мне даже ни разу не случалось говорить об общих государственных делах, что, по моему убеждению, сила вещей заставит великого князя не ограничивать деятельность свою одним кругом Морского министерства, что желательно было бы для общего спокойствия, чтобы отношения обоих братьев были определены более положительно и это было бы возможно, ежели предоставлено было великому князю место, которое вменяло бы ему в обязанность в известной мере заняться делами, как-то: председательство Государственного совета и т. п. Она просила меня передать ее слова Головнину, но я сказал ей, что вряд ли это чему-нибудь поможет, надо ожидать, чтобы время уяснило настоящее положение вещей.
Прусский король сюда не будет на похороны, а едет принц Карл и сестра императрицы. Покойный государь, умирая, продиктовал депешу прусскому королю, в которой говорит, что, умирая, напоминает ему предсмертные слова отца короля. Что для благоденствия Пруссии – жить всегда в мире с Россией. Прусский король отвечал по телеграфу, что слова отца он помнит и свято будет соблюдать. Австрийский император на телеграфическое известие о кончине покойного императора писал, что сам сильно скорбит об утрате, и в особенности потому, что покойный государь не успел убедиться в чистоте намерений его (австрийского императора). Государеву полку оставлено прежнее наименование в память постоянной дружбы и услуг, которые государь оказал Австрии в 1848-м году. Всеми этими словами, кажется, утешаются. В Берлин писал Гринвальд, в Вену – Ливен.
21-го февраля. Ничего особенного сегодня я не мог узнать. Народ допущен был во дворец для поклонения праху. При этом происходила, кажется, страшная неурядица. Из департамента я пошел посмотреть, что происходит перед дворцом, и видел толпу народа, теснившуюся у Салтыковского подъезда. Во дворец пускали понемногу, и за нарядами наблюдали два верховых жандарма и несколько городовых, которые колотили верноподданных по зубам и по чему попало страшным образом. И вся толпа безропотно повиновалась власти, отечески действующей. По рассказам людей, входивших в траурную комнату, лицо государя покрыто парчой, так что народ не видал его – это произвело, по-видимому, неприятное действие. Я сам слышал, как какой-то господин спрашивал у разных лиц, правда ли, что лицо государя закрыто, и когда ему говорили, что правда, он несколько раз прибавлял: «Зачем бы, кажется, закрывать? Еще не так давно, что государь скончался». Дело в том, что тело покойного неудачно было бальзамировано, и оно сильно стало портиться. Говорят, сегодня ночью опять хотели испытать бальзамирование, другим способом. Жаль, что народ не видал величественного лица усопшего. Сомнения в народе насчет внезапной кончины государя могут через это усилиться. Вчера новый император принял всех офицеров гвардии и говорил им, как слышно, очень хорошо; упомянув о современных обстоятельствах, он сказал, что не намерен уступать врагам. Слова его были приняты с большим одушевлением. О каких-либо новых распоряжениях еще не слыхать. Впрочем, мне не удалось сегодня никого видеть, от кого бы можно было узнать истину. Говорили о какой-то победе в Крыму. Дай Бог.
22-го февраля. Говорят, что в Москве, во время чтения манифеста и присяги, упал с Ивановской колокольни один из больших колоколов и убил 4-х человек… Странный случай этот, вероятно, возбудит какие-нибудь толки и объяснения в народе. Ничего нового не слыхать.
23, 24, 25-го февраля. Со всех сторон слышатся одобрительные отзывы о действиях нового императора – не только в речи к дворянству, но и в словах, обращенных к дипломатическому корпусу. Выразил он твердую решимость не соглашаться ни за что на какие-либо дальнейшие уступки. Все удивлены умению его говорить сильно и с воодушевлением. Рескрипт Ростовцева доказывает, что этот господин в большой милости и, вероятно, получит большое назначение. Университетам в таком случае придется плохо. Особенно распорядительных мер еще не видно. Сегодня приехала великая княгиня Ольга Николаевна, и все семейство, кажется, соединено в общем чувстве общей грусти. Приготовления выноса тела в крепость идут своим чередом. Церемониал уже издан: не понимаю, как его можно будет исполнить в точности при настоящем холоде. Приезжие из Москвы свидетельствуют, что там все исполнены надежд и никто духом не упал, даже падение колокола объясняется в хорошую сторону. Равнодушие народа к событию такое же, как и здесь. Из губерний сведений никаких не имеется. Великий князь назначен министром по званию генерал-адмирала. Вчера был первый раз с докладом, и когда прибыл к государю, то в это время докладывал военный министр и великий князь не входил в кабинет, а остановился ожидать в приемной (при прежнем государе он имел право присутствовать при всех докладах). Император, узнав, что великий князь ожидает в приемной, вышел к нему, просил войти в кабинет и сказал, что просит его входить по-старому.
5-го марта. Сегодня похоронили государя в Петропавловском соборе. Я на церемонии не был, но вчера был на последней панихиде. Страшно было смотреть на лицо покойного, так оно изменилось: из величественного образа, над которым я восхищался в день кончины, осталась какая-то безобразная маска, наштукатуренная разными ядовитыми притираниями, которыми хотели остановить его от разложения.
С каждым днем слухи о твердости, уме и решительности нового императора все более и более подтверждаются. Речь его к дипломатическому корпусу ходит по рукам, она действительно очень хороша и, говорят, говорена с большим жаром и увлечением. Вчера я был с докладом у великого князя, в это время приехал государь и, по обыкновению семейному, пошел прямо в комнату детей, куда сошел к нему великий князь, как это делалось прежде. Из Москвы получены письма от Аксакова и др., все единогласно довольны манифестом и возлагают великие надежды на будущее.
Завтра, говорят, явится послание Синода с воззванием к народу на брань. Эта мера обличает решительность, которая, без сомнения, поведет к хорошему. Одним словом, все до сих пор идет прекрасно. Помоги Бог.
6-го марта. Воззвание Синода писано было еще по воле покойного государя. Им проект был утвержден, но не успели напечатать. После кончины государя нужно было сделать перемену в редакции. Воззвание было писано здесь и, сколько можно судить, разными лицами. Не думаю, чтобы оно произвело какое-нибудь впечатление.
Говорят, Ростовцев забирает силу.
10-го марта. Невольно ожидаем каждый день каких-нибудь действий, по которым бы можно было судить, чего ожидать от нового царствования. Беспрерывные повторения приказов Ростовцева ставят всех в недоумение. Приказы эти один другого глупее и неприличнее. Плачевный тон их не скрывает отвратительной лести. Немало удивил всех также адрес Сумарокова, Веневитинова, Арбузова и Плаутина от имени гвардии Гренадерского корпуса. Сегодня я обедал у великой княгини, она нам ничего не могла сообщить особенно замечательного. По ее мнению, влияние Ростовцева будет самое вредное. Газеты полны всякими переименованиями полков и пожалованиями разных вещей в память покойного государя. Мелочей много, а дела еще нет. Сегодня ровно месяц, как царь скончался. Первый месяц царствования не ознаменовался никакими событиями ни в административном, ни в политическом отношениях. Ростовцев продолжает занимать публику своей персоной, издавая ни к селу ни к городу приказы в сентиментальном духе. По-видимому, это нравится, иначе господин этот изменил бы тон. Булгарин, у которого чутье тонкое, объявил в «Северной пчеле»[49], в фельетоне, что поступил в продажу портрет в Бозе почившего государя и генерал-адъютанта Ростовцева.
Все заняты теперь переменой формы обмундирования армии и флота. Уже приказ о новой форме вышел. Благомыслящие люди находят странным, как можно в такое время заниматься таким вздором и как можно теперь придумывать новые издержки. К Святой[50] велели офицерам быть в новой форме. Из каких доходов заплатят они портным? По-видимому, перемена формы занимает очень государя, потому что все Военное ведомство хлопочет сильно. Еще при покойном государе, незадолго до его кончины, была речь о перемене формы, и даже некоторые образцы были утверждены, но покойный никак не соглашался дать генералам красные штаны, а войску двубортные полукафтаны. Наконец отложил все дело, сказав наследнику, что желает, чтобы его похоронили в прежней форме. Предчувствуя как будто свою смерть, он потом, умирая, напомнил свои слова наследнику, сказав ему: «Ты видишь, что я был прав, сказав тебе, что недолго тебе ждать для новых мундиров». Слова эти не отсрочили перемены, и она уже теперь не только утверждена, но и к приказу есть уже дополнение. Сегодня объявили, что в будни усы и бакенбарды не фабрить[51], а в праздник – фабрить и проч… Чтобы отдавать такие приказы, надо об этих мелочах думать, а думать о мелочах можно только тогда, когда важных забот не существует. Воображаю, с какой жадностью в провинции теперь ждут почты и газет; все надеются узнать какую-нибудь важную новость и всякому первому действию, по справедливости, придают огромное значение. Не знаю, какое придадут значение этим мелочам. Меня удивил великий князь, который тоже немало тешится новыми мундирами. Эту странную любовь или почти мономанию к штанам и мундирам во всей царской фамилии можно отчасти объяснить воспитанием их и впечатлениями детства. Однажды великий князь, показывая свой музей, отворил старое бюро – там в ящиках открыл кучу изрисованной бумаги с изображениями разных фантастических мундиров и одеяний для войны. На мой вопрос, что это за рисунки, он отвечал мне, что, когда они были детьми, им задавали на задачу рисовать и сочинять разные мундиры. Тут же великий князь показал мне несколько строевых рапортов, объяснив, что в детстве у них были целые полки оловянных солдатиков, которых они строили в разном порядке и делали им смотры. Причем государь присутствовал и командовал, а они, как отдельные начальники, подавали ему строевые рапорты. Понятно, что впечатления детства сохраняются ими надолго, и вот почему, при первой возможности привести в исполнение давно задуманную перемену, забывается все, и дело ничтожное, по нашим понятиям, делается в их глазах важным.
До дел внутреннего управления юный государь[52], говорят, еще не касался. Министров внутренних дел и юстиции еще не принимал. Впрочем, преследование раскольников, кажется, остановлено, но это еще только отрицательная мера, которая, так же как крайности, может быть вредна, ибо кашу уже заварили. Сохрани Бог от каких-нибудь неудач в Крыму или в другом месте. Надежды на лучшее в будущем как-то начинают остывать во многих. Хотя теперь ни о чем нельзя верно судить, но вообще как-то сдается, что бабьи сплетни и придворные интриги будут играть важную роль.
27-го марта. Торжественный праздник Пасхи встречен был мною сегодня во дворце. По обыкновению, был выход. Пестрота мундиров была замечательная. Многие были в новой форме. Генералы – в красных панталонах. Вообще новая форма немного красивее прежней, но она до того всех занимает, что невольно спрашиваем себя: неужели нет другого, более важного интереса? На меня это одурение производит страшное впечатление. Как ни старался себе объяснить и оправдать эту пустоту и мелочность занятий, все никак не понимаешь, как можно в такую страшную для России минуту думать о пустяках и забавляться ими. Ростовцев, со своей стороны, под шумок, все лезет да лезет. Сегодня он сделан членом Государственного совета и Комитета министров. О назначении этом много говорят, но, кажется, не придают ему много значения. По-моему, оно весьма важно, потому, во-первых, что оно доказывает силу временщика и потому, вероятно, что он теперь бросит свои военно-учебные заведения и начнет заниматься другим, т. е. входить во все дела управления. Быть может, это будет к лучшему даже, кто знает? Плаксивый тон его приказов и маска сентиментальности, быть может, были ему нужны как оружие. Как деятель, он, может быть, покажет себя с хорошей стороны. Посмотрим. По случаю известий, полученных из Вены о мирных переговорах, государь призвал к себе нескольких лиц: великого князя Константина Николаевича, Орлова, Блудова, Киселева, Нессельроде и, кажется, Долгорукова. Государь присутствовал. Как кажется, переговоры в Вене останавливались на третьем пункте, касательно владычества и сил наших на Черном море. Говорят, хотят согласиться на важные уступки, и честь России отстаивают только великий князь и Блудов. Князь Горчаков в Вене, по-видимому, также действует слабо. А между тем в Севастополе с часу на час ожидают сильной бомбардировки. Последняя сильная вылазка, известие о которой привез лейтенант Бирилев, хотя была для нас блистательна, но дорого стоила. Реляция об этом деле, присланная Горчаковым, написана очень хорошо, и в ней подробно описано все дело и отдана должная справедливость мужеству наших войск. В печати реляции все это выпущено. Какая может быть причина таких поступков со стороны Военного министерства? Точно нарочно, оно как будто желает скрыть от публики все то, что может служить к славе нашего оружия. Враги наши, ежели бы им поручено было делать экстракты из реляций для напечатания, не могли бы ничего лучшего придумать, как то, что делает Военное министерство.
Наград сегодня было немного – все отложено до 17-го апреля. Впрочем, все происходило по-старому, все глохнет и все еще света не видать. Сбываются слова пророка: «Се Владыко Господь Саваофь отъимет от Иерусалима и от Иудеи крепкого, крепкую крепость хлеба и крепость воды исполнена и крепкого и человека ратника и судию и пророка, смотревшего и старца. И пятидесятин Начальника и давнего Советника и Премудрого и разумного послушателя».
28-го марта. Сегодня утром я был у военного министра князя Долгорукова, чтобы условиться с ним по делу об исполнении духовного завещания графа Протасова, в котором мы с ним и Василием Александровичем Шереметевым назначены душеприказчиками. Поговорив о деле, он вдруг перешел к настоящим событиям и наивным тоном начал выражать мнение свое о безнадежном и отчаянном нашем положении. Меня изумили сильно такие речи от Долгорукова, который вообще чрезвычайно секретничает. Видимо, он находился под влиянием разговоров и суждений, слышанных им в Комитете, в котором он участвовал и о котором он говорил вчера. «В такие страшные и плачевные времена живем мы, – говорит он мне, – Невидимо исходу нашему положению. Хорошо тем, которые ничего обстоятельно не знают, судить и рядить, и толковать о могуществе России, о том, что мы непобедимы и проч. и проч. Mais pour nous, qui sommes dans les affaires[53], ужасное положение вещей не может быть тайной. Всему есть конец, и наши средства также каждый день уменьшаются. Что делать, надо признаться, что мы вовсе неготовы к такой долгой и упорной войне. Прежнее время мы употребили не затем, чтобы укрепить себя, а напротив, мы уничтожали все силы наши, а теперь, когда пришло время действовать, не время создавать то, чего нет. Я не знаю, право, как все еще идет это и откуда берется. Мы никогда не думали, что можно содержать в Крыму лишнюю сотню казаков, а теперь там две кавалерийские дивизии, мы никогда не думали, что возможно было иметь в Крыму более 20 тысяч войска, а теперь там с лишком 100 тысяч. На всех пороховых заводах не могло выделываться более 80-ти тысяч пудов пороха, а теперь от меня требуют 400 тысяч. Селитренные заводы все уничтожены, серы также нет. Кое-как, быть может, усилив производство, я нынешний год добуду 200 тысяч пудов пороха, а потом? Все свои заведения мы в мирное время уничтожили. Для маневров, когда случилась нужда в ружьях, все выписывали из-за границы, а теперь от меня требуют вооружения. Откуда взять: государство теперь напрягает все усилия, жертвует всем, наконец и этому будет конец, всеобщее разорение. Теперь уже жалуются южные губернии, а скоро и все будут в том же положении. А между тем в обществе, в гостиных все кричат, что Россия сильна и могущественна, и эти толки и какие-нибудь записи Погодина имеют влияние на высшее правительство, cela entrave la marche du gouvernement[54], боятся общественного мнения и не решаются действовать решительно». Я прервал его, заметив, что естественно общественному мнению заблуждаться и находиться в приятном обольщении насчет славы России, тем более что это общественное мнение создано самим правительством, которое постоянно твердит нам одно: что мы непобедимы и могущественны, что у нас все есть и что все превосходно, что в особенности военная часть доведена до совершенства и что самая война произошла оттого, что все завидуют нашему могуществу. Что никто не смел и не смеет говорить противного и даже намекать на какие-либо упущения; что, наконец, и теперь статьи г. Булгарина не могут приготовить нас к этому неожиданному сюрпризу, который, по словам его, Долгорукова, скоро обнаружится. На это он возражал, что, конечно, это так, но что все-таки не следовало бы стесняться этим. «С другой стороны, – продолжал Долгоруков, – говорят о мире, но однако, есть условия, на которые невозможно соглашаться. Что делать? Надо будет защищаться и, хотя с палками, отбиваться – но все это ужасно и повлечет за собой всеобщее разорение». Слова Долгорукова очень меня поразили. Хотя много в них правды, однако тон, которым все это было говорено, выражал всю недостаточность его способностей и какое-то бабье отчаяние. Всего удивительнее казалось мне, как можно держать человека, так мало способного, для энергических и разумных действий. Уверенность его в слабости России происходит вовсе не оттого, что он действительно знает во всей подробности ее средства и настоящее положение, а оттого, что он не видит у себя под рукой в министерстве, каким обычным формальным порядком сделать или добыть то или другое. Удивителен взгляд покойного государя при выборе людей ничтожных и с ограниченными способностями. Что мог он найти в Долгоруком, выдвинув его вдруг вперед из глуши? Приличный и благообразный человек этот много-много, если способен быть хорошим и исправным начальником отделения.


