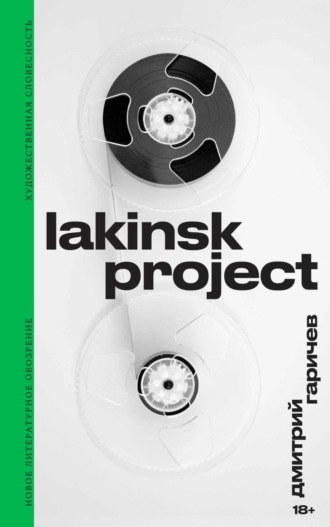
Дмитрий Гаричев
Lakinsk Project
Вершина этого противоборства оказалась тем не менее достигнута осенью две тысячи третьего года, в одну из маминых ночных смен, когда я, небывало набравшись смелости, отправился спать в свою комнату затылком к никак себя не проявившей за этот вечер картинке. Ночь прошла так же безмятежно, а под утро, в бледном свету, ко мне вдобавок забрался наш кот, обыкновенно устраивавшийся подальше от нас: я обрадовался и затащил его к себе на грудь, мне уже не спалось, и мы лежали так, слушая бабушкин свист за стеной, пока я не увидел, что кот увлеченно смотрит ровно туда, где висел нежный Иисус. Не особенно взволнованный этим, я все-таки чуть повернулся и похолодел как иголка: над глазированным саккосом в кремовых розах белела пустота, великий архиерей куда-то отпустил свою голову. Я почувствовал, как бесконечный вдох наполняет мое тело, неспособное остановить и выдохнуть это, зажмурился, стиснул кота и взглянул на стену снова: Иисусова голова была на месте, такая же, как всегда, без единого изъяна, но и в этой подчеркнутой привычности теперь скрывался едва ли не больший подвох, я остался лежать неподвижно, кое-как укротив дыхание, и когда через несколько минут мамин ключ наконец завозился в дверном замке, облегчение было так огромно, что меня будто бы подняло над постелью. Почему ко мне применяли эти фокусы с исчезающей головой – об этом, наверное, стоило бы поговорить с тобою, но мне не хватило решимости завести такой разговор; в жизни я ни разу не оказывался рядом с обезглавленным телом, ты же сам всегда снишься мне в полном порядке, ладно одетым и выбритым, и лишь однажды, всего пару лет назад, явившись к твоим старикам после неразборчивого ночного звонка, я увидел тебя другим: лицо твое было на две трети стерто, оставшийся глаз глубоко чернел из кое-как слепленных вместе костей, рот висел чуть не у самой груди, и весь череп твой превратился в какой-то раскопанный курган: тебя вернули наконец после опытов в институте, куда ты угодил из реанимации после того, как вы с товарищем разбились на его мотоцикле где-то под Муромом; ты грузно сидел на стуле посредине комнаты в растянутом в одеяло зеленом свитере, и я обошел тебя кругом, не зная, что и сказать. Старики объяснили, что ты многое помнишь, но память возвращается к тебе приливами, то короткими, то затяжными, и тогда ты негромко и складно говоришь о рыбалке или книгах, но все это просто разрозненно плавает внутри тебя; по всему, это твое состояние их огорчало, я же был почти счастлив: все эти годы таким неровным вспоминанием занимался я, и теперь ты вернулся сменить меня, я мог наконец отдохнуть.
Мыслимо ли: ты умер, не успев завести себе страницы, от тебя не осталось ни одной переписки, но это не прибавило ничего к твоей смерти, а, наоборот, отняло у нее: те друзья, кому не повезло чуть позже тебя, и сейчас в замороженном виде предстают под стеклом (я проверил, прежде чем написать), собирая поздравления на дни рождения от неотступных добряков, и в этой стеклянной подвешенности, недостойной человека, они оказываются много мертвее тебя, не бросившего здесь никакого дешевого якоря. Есть твои фотографии, но фотография вовсе не имитирует продолжение жизни, а именно что четко фиксирует ее уничтожение в момент щелчка затвора: те, кто попался, уже никуда не уйдут; фотоальбомы твоих стариков честней соцсетей: их по крайней мере можно отправить в костер. На снимке с какого-то семейного праздника ты сидишь с краю стола, в кадре еще два твоих плохо знакомых мне ровесника, никто из вас не смотрит в камеру, цвета размыты, и сам снимок сделан так неуклюже, что крайнюю правую четверть его, как раз рядом с тобой, занимает чернота того самого дверного проема, словно это кто-то четвертый, кого хотел сфотографировать тот, кто взялся за аппарат. Тебе здесь не больше двенадцати (после двенадцати ты уже так не одевался), перед тобой стоит высокий стакан с желтым соком, и эта чернота, держащаяся чуть позади тебя, словно бы стесняется своей пойманности, но в отличие от вас троих смотрит все-таки прямо в объектив. Когда нам с К. впервые показали это фото, я был, можно сказать, поражен и чуть было не спросил у твоих: вы же видите это? Твой дед, подполковник ракетных войск, читал Блаватскую и гулял по квартире со спицами вместо радаров: если и он ни на что не наткнулся в ваших комнатах, на что тогда годен я; не потому ли на самом деле я перестал навещать их, что почувствовал, что мне совсем нечего там ловить? Как-то так же меня никогда не тянуло на кладбище: я носил тебе цветы потому только, что так меня приучили, но нигде я не ощущал настолько полного отсутствия тебя, как перед твоим надгробием с неплохо, кстати, выполненным портретом; думаю, что если бы ты успел этим озаботиться, ты бы строго завещал не опускать тебя в нашу глину, а сжечь и рассыпать, наверно, с Панфиловского моста, на котором я в последний раз снял тебя на маленький «сайбершот».
Никуда не переброшенные, фотографии эти пропали потом и с карты памяти, но я заметил это исчезновение уже приличное время спустя, и хоть оно было мне и горько, и малопонятно (кроме меня, к камере никто не прикасался), я не почувствовал в нем никакой нездешней руки. Я ходил на Панфиловский мост вдвоем с К. и вместе с друзьями, приезжавшими из других городов, теперь мы гуляем там с дочерью, и всякий раз нарастающему над рекой ветру отвечает голос моей растерянности: открыв мне это место, ты напоследок советовал не приходить сюда без тебя, чтобы не пострадать в одиночку от тоже сновавших здесь недоносков с ближних казарм, и не то чтобы я и теперь жду, что меня атакуют, но, видимо, в этом месте мне приходится, пусть и на автомате, принимать каждый раз заново все, что произошло. Волей какой-то местной иллюзии наш поселок выглядел с моста так отдаленно, что его почти можно было любить: жирные швы между плитами зданий, черные крыши казарм, трубы давно оставленных фабрик, больные огромные липы, решетки и колья дач. В марте, когда зима уже ползла и проваливалась и небо висело темно и низко, вид его становился совсем сиротским, и хотелось укрыть его хотя бы газетой. Едва ли нам что-либо угрожало здесь, несмотря на все разговоры и россказни; за все наши прогулки до нас доебались единожды наши же собственные мрачные знакомые, еще чуть не при Ельцине: для них это была такая пробная охота, вчетвером против двоих, и хотя с непривычки я тогда перепугался, все закончилось безболезненно и, кажется, не слишком унизительно для нас обоих.
Вопреки тому, как меня воспитывали дома и в школе, я рано начал носиться со своей исключительностью, но справляться с этим в одиночку мне было трудно, и я счастливо разделил это бремя с тобой, мало-помалу убедив и себя, и тебя в том, что мы были лучшим, что могла произвести эта тугая, неповоротливая земля: на гребне этой уверенности, когда я записывал по стихотворению в день, а по вечерам жег с тобой за котельной деревянные ящики, принесенные с рыночной свалки, мне казалось очевидным, что она охраняет нас и не подпустит к нашему огню никого из своих неудачных детей. Сотни ящиков сожгли мы, не истратив и половины спичечного коробка, не потревоженные ни патрулем, ни досужим каким испытателем; поселок был тих, как во времена, когда эти дома еще не заселили люди и собаки и поезда на Москву отправлялись пустыми из нашего тупика. Справа от нас высоко уходила пестрая и во тьме стена глуховской бани, слева черно скалился из-под навеса бывший музей «трудовой славы», сдаваемый теперь под бродячие распродажи; все это было в одинаковой степени плотно и проходимо насквозь, как обычный воздух, обычная ночь; легкое дерево сгорало быстро, и лицо твое снова становилось цвета асфальта, и мир замыкался, отменяя будущее, которого никто из нас и не хотел; ну хорошо: это я не хотел, и я получал свое. В том, что касалось будущего, меня заботили только две вещи: избегу ли я армии и пересплю ли когда-нибудь с девочкой; и почти наверняка зная, что мне не удастся ни одно, ни другое, я боялся грядущей пропасти, должной пролечь между нами, когда ты побываешь у кого-то внутри (а в том, что тебе нарисуют диагноз для «ограниченной годности», сомневаться не приходилось вообще, и ты сам был вызывающе спокоен на этот счет, но я все равно не любил тебя меньше). Впрочем, когда (уже скоро) это действительно случилось и ты с исключительным достоинством ответил на все заданные мной вопросы, все будто бы обошлось: я был рад за тебя и благодарен за то, что ты ничего от меня не скрыл; мы гуляли в честном осеннем лесу, промытом долгим дождем, и березы его были такие же рыжие, как пизда твоей подруги; упругие капли срывались и со стуком падали в траву вокруг нас, мы шли напиться на дачный родник, убранный в бетонное кольцо, охваченное понизу черно-зеленым мхом. Этот оловянный свет, начинавшийся здесь в сентябре, шел тебе даже больше, чем желтые отблески костра; летом тебе было тяжко, ты встречал его каждый год нехотя, проживал ворча, и первое похолодание становилось твоим маленьким сосредоточенным праздником, когда вечером нужно было поднять глаза к немногочисленным звездам поселка и сказать, что они становятся выше, нам будет легче под ними.
Как это ни было удивительно, я переспал со своей подругой и оформил ограниченную годность лишь немногим позже тебя (ты был еще и на год старше) и так вопреки всему обнаружил себя в том самом будущем, что так томило меня за котельной и на мосту; то есть мы очутились в нем оба: самые страшные, казалось бы, вероятности одинаково разрешились в нашу пользу, но еще более поразительным и пугающим образом оказалось, что будущее все еще не взято до конца, оно тянется так далеко и само себя не понимает; я отсидел первый курс на русской филологии, потом поступил наново в иняз, принеся этот год на филфаке в жертву опять-таки будущему, которого я боялся теперь еще хлестче, а ты учился вечерним порядком на соцработника в соседней Электростали, в подвальном филиале мутной московской конторы, которая переживет тебя совсем ненадолго, и все еще выглядел и разговаривал так, как будто тебя совершенно не волновало, что будет дальше, сможешь ли ты заработать себе на еду и презервативы (знал бы ты, сколько они стоят теперь; и кто-то по-прежнему их покупает). Ты возвращался домой на дурной электричке: в самых поздних здесь обычно как раз спокойно, это я уже выучил сам, а вот в тех, что приходят часам к десяти, что-то регулярно идет не так, и к тебе тоже приступали, но ты умудрялся со всеми разойтись (хотя многих, наверное, мог бы убить): однажды ты рассказал, как ты ехал в тамбуре с сигаретой и мимо тебя в начало состава прошли веселые хачи, явно над тобой посмеявшись (пальто, длинные волосы, невозмутимое лицо: это ведь на самом деле довольно смешно), а ты продолжал курить, наблюдая хребты перелесков, и через полминуты вижу: бегуут, протягивал ты это «у» ровно столько, сколько нужно, подчеркивая природную естественность и словно бы заранее понятную тебе неизбежность настающей сцены: твои насмешники ломились напропалую прочь от околофутбольной команды, бившейся за чистоту пригородных поездов; и хотя теперь я уже не совсем уверен, что ты правда при этом присутствовал в своем пальто, я люблю пересказывать эту историю, потому что мне нравится видеть тебя в этой точке, в этом тамбуре с черными окнами: это единственное место, которое только может занять хоть что-то понявший об этой земле человек, где еще ему быть здесь: на встрече одноклассников? на интеллектуальной викторине? на поэтическом вечере? на народном сходе против мусорного полигона? Только в тамбуре место его, на тряской границе, одинаково равнодушно раздвигающей свои двери и сдвигающей их, и поехали дальше. Нам не нравились ни скины, ни нерусь, ни Ельцин, ни Путин, ни Союз правых сил, ни коммунисты, ни Ногинск, ни Электросталь. Мы хотели бы вечно смотреть на них в четверть глаза, лицом к темноте, проездом.
До четырнадцати ты был юный турист, вы куда-то ходили по нашим лесам и деревням, но рассказывать здесь было особенно нечего (а там, где было что вспомнить, оказывалось нечего показать), земля эта лежала ровно, как бетонная плита без особых засечек, и даже когда я в отчаянии брался в читальном зале за краеведческие сборники, напечатанные энтузиастами уже в девяностые годы, ощущение это не ослабевало: будто бы движимый той же самой тоской, ты во время одной из прогулок поведал историю о древних морозовских сомах, по сей день обретающихся в Черноголовском пруду с вживленными в лбы перстнями. Полностью понимая, что ты это только что сам сочинил (я почти видел, как разрастается сказка у тебя в голове), я не стал никак тебя разоблачать, потому что был вполне ошеломлен тем, как выдумка эта ложилась на нашу невзрачную местность, которая, казалось, только ее и ждала. То есть из нас двоих ты и это попробовал первым, а сам я, хоть и в несколько других масштабах, занялся таким уже много после: ближе к концу школы, когда мне случилось написать свои первые рассказы, я считал, что «письмо должно быть честным», и мне следует, раз уж я начал, говорить о том, как умирал мой надорвавшийся отец или как кто-то похожий на меня преследует кого-то похожего на А. из соседнего класса, не зная, как понравиться ей, и задирает каких-то еще знакомых девочек, чтобы утешить свое неудачничество. Эта убежденность продержалась еще долго, и я не очень помню, когда именно почувствовал, что все это в самом большом смысле неприлично и мне нужно вырабатывать другие повадки; но что меня к этому подтолкнуло, еще кажется восстановимо: этот неаккуратный город, населенный ненужными мне людьми, сам по себе давно не внушал мне никаких отвлеченных чувств, и вместе с тем только здесь я со все растущей частотой ощущал что-то, что можно было условно назвать оцепенением: это обычно происходило со мной в каком-то людном центральном месте, я продолжал идти куда шел или ждать кого ждал, но внутри и вокруг меня все обращалось в ноющее как под чужими пальцами стекло, один бескрайний кусок стекла, в который плоско вмерзали крыши, куртки, мобильные телефоны, автобусы, мои руки и губы. Это длилось несколько секунд и не было сродни ни блаженству, ни ужасу: это было восхитительно никак, я не то чтобы исчезал, а мелко рассеивался, и единственным, что я чувствовал в эти моменты, была тонкая горечь их ускользания, неизбежность скорого истекания их. Мир возвращался ко мне не шумней и не яростней прежнего, а таким, каким был всегда, но с каждым подобным превращением в стекло и обратно я доверял ему немного меньше; так мне показалось важным научиться задерживать это оцепенение, и поскольку добиться этого каким-то физическим усилием было невозможно (а сторонние вещества мне, как известно, запретил еще лично Шевчук), я стал пытаться делать это на бумаге: мне хотелось бы знать, что бы ты во всем этом прочел без моих объяснений, но что-то подсказывает мне, что, будь ты жив, я писал бы совсем по-другому.
Зимой после того, как тебя закопали и я остался в городе один, произошел мой единственный сколько-то значимый срыв по мотивам случившегося: рано вернувшись из Москвы, я бросил дома сумку и ушел в прилегающий к поселку лес, недалеко, на первую просеку, тянувшуюся от стадиона до пятой школы, и прометался там около часа между темных грузных деревьев, то вдаваясь глубже в сугробы, то опять рассекая прохожую часть и поминутно резко оглядываясь с тем, чтобы так уловить тебя, якобы следящего за мной из-за стволов и кустов; я порядком себя разогнал, голова скользко кружилась, но ни в одно из этих оглядываний ничего не мелькнуло ни прямо, ни побоку, ни вдалеке. Эта просека, понятно, помнила нас еще детьми и порознь, а в ноль пятом или ноль шестом, осенью, мы пришли сюда вечером после того, как во всех новостях объявили о побеге значительных московских арестантов, а ты при встрече добавил (не знаю, откуда ты вообще это взял), что часть из них двинулась в направлении Владимирской области как раз через наши леса; словом, тонкий сентябрьский воздух дополнительно натянулся над нами, и мы стояли ровно посередине дороги в шероховатых сумерках: я помню, как дергалась мышца в плече и тянуло холодным дымом с полигона, и ты рассказывал о своей позапрошлой подруге, что была нашисткой, но это тебе не мешало кататься к ней на дачу каждое воскресенье, а потом со стороны стадиона на просеке возникли две неровные тени и замерли, увидев нас впереди. Даже за двести метров в сумерках было ясно, что эти люди пьяны: ты сжалился над их ужасом и предложил отойти с дороги в лесной кустарник; я подумал, что так мы станем только вдвойне им подозрительны, но не стал с тобой спорить, полагая, что ты, в силу разных обстоятельств чаще и плотнее моего пересекавшийся с подобным сбродом, все же лучше угадываешь, как они должны себя повести. Мы отошли ближе к деревьям и встали, по грудь окруженные хлипким малинником, и ты закурил, отвернувшись, чтобы точка огня не демаскировала тебя; по твоей команде мы продолжили разговор еще тише обычного (голоса наши и так всегда были негромки), но уже скоро услышали дурные крики тех, кому мы освободили дорогу: они звали нас выйти обратно со всем, что у нас с собой было, и зарезать их здесь же; вспоминая сейчас эти стылые вопли в серой тьме, я не могу не предположить, что, внушив мне мысль о рыщущих именно в наших лесах беглых убийцах (повторюсь, не имею понятия, откуда ты взял это), ты каким-то образом внушил ее и этим двум бедолагам, теперь призывающим смерть от кривого ножа. Голоса их не приближались, но поносили они нас все убийственнее, словно уже смирившись с тем, что мы перережем им горла; в этом чокнутом рвении было что-то воистину неисцелимое: если им было так страшно идти дальше просекой, никто не мешал им вернуться от стадиона в поселок и проследовать куда было нужно по улицам, заложив некоторый крюк, но ничем не рискуя (разве что ты не устроил так, что их путь к отступлению был отрезан каким-то еще видением: стеной пламени или сворой двухголовых собак). Казалось, твой план не сработал, а мои опасения сбылись, но тогда ты скомандовал опуститься на корточки – так, чтобы малинник скрыл нас с головою; все еще не смея тебе возражать, я сделал как ты сказал, и не долее чем через минуту мы услышали рядом их растерянные шаги и сдавленные слова: давясь от восторга, я развел в стороны руки, собираясь (или нет) хлопнуть в ладоши, когда они будут совсем близко, но ты сделал мне запрещающий знак.
Насколько тот мой припадок был связан с нашим приключением вокруг чужого побега, сказать все-таки сложно: я ушел тогда искать тебя на просеку в первую очередь потому, что это было ближайшее к моему дому место, где никто не мог помешать мне метаться; но оба этих воспоминания уже порядочно руинированы, так что из них не составит труда собрать все что угодно. И все же глупо было бы совсем отмахнуться от того, как вели себя те двое, которых я никогда не смогу ни о чем расспросить: легко видеть, что ты управлял ими, как беспилотниками (этого слова еще не существовало), сперва внушив им рыхлый страх, а затем отменив его самым дешевым способом; но и в самом появлении их на вечерней тропе одновременно с нами нельзя не угадывать какой-то странной работы, словно бы ты устроил все это представление ради меня, избегая, допустим, прямых указаний на свое могущество (которое и тебе самому могло быть не вполне ясно, как знать), и все же, как это понятно мне теперь, оставляя достаточно улик, чтобы я и тогда мог о чем-то задуматься, но пока ты был жив, у меня это, кажется, так всерьез и не получилось. Кого только из поселковых мы не были сами готовы уличить в темных практиках, когда были детьми: любая самодовольная старуха и всякий одинокий сосредоточенный мужик легко казались нам магами, которых не следовало зря раздражать; а ты, брошенный отцом и, по сути говоря, матерью, воспитанный стариками, учившийся за деньги в непотребном месте, все равно всегда был для меня вечным удачником, любившим удовольствия и всегда добивавшимся их (или они сами тебя находили и брали), которому, да, мешала жить непрестанная возня с неустойчивой мамой, но уж точно не так, как мне мешали контролеры в поездах, скользкие платформы, безмозглые однокурсницы, дорогие книжные магазины, нацболки, продающие «Лимонку» на Бауманской: ты их даже не видел (и тебя, как уже было сказано, устраивали и нашистки), а я видел и знал, что никогда до них не дотянусь; понимал ли я в те шестнадцать или семнадцать лет, что моя жизнь уже движется резко не в сторону захвата администраций и свального секса, как мне бы (наверно) хотелось, – какая, в общем, теперь кому разница; что же касалось тебя, я был убежден, что твое течение ровно таково, как ты сам его направлял: не потому ли меня так ранила твоя смерть, что я улавливал в ней, может, и не прямой твой выбор, но по меньшей мере предвосхитимое последствие некой договоренности, без спроса заключенной тобой? В столовой, куда мы приехали с кладбища (почему, черт возьми, после этого предписано что-то есть, и непременно всем вместе?), была неизвестная мне одинокая девочка, без слов, с каштановыми волосами: она почти не поднимала глаз, не отнимала локтей от тела, и по мере того, как я следил за ней, тоска, окружавшая ее, все плотнела, так что постепенно начало казаться, что все мы, собранные в этом бледном зале, стянуты сюда единственно силой ее каменной скорби. То, что ей тоже нужно было как-то справляться с этим, господи, супом и чем там еще, а потом пить компот, казалось так унизительно; она бралась за приборы как за инструменты анатома и каким-то чудом удерживала их в руках не роняя. Я был, однако, сам слишком подавлен и стерт для того, чтобы подступиться к ней, а потом, на девятый день, когда ближний круг собрался у твоих стариков, ее уже не было, и твоя плывущая мать, растроганная тем, что все снова пришли, но все же дождавшись, когда с ней рядом останусь я один, полушепотом и ни на кого не ссылаясь рассказала мне, что ты жил с девочкой, и никто об этом не знал, но почему же они ждали, нужно было рожать детей; и хотя эта удивительная новость и рифмовалась с появлением на поминках каштановой несчастницы, я не стал предпринимать никаких выяснений на этот счет, все было так поздно, а мама, в конце концов, тогда могла просто нести взбредшую ей от отчаяния околесицу. Без тебя она протянула в тупом алкогольном тумане еще полтора года: как-то я провожал ее от стариков до квартиры, где на вешалке еще жило твое пальто, и она попросила меня подождать в коридоре, а сама ненадолго исчезла в дальней комнате; я ждал, что она вынесет мне какую-то внезапную твою вещь, но мама вернулась с пустыми руками и мягко спросила, почему я совсем ею не интересуюсь: у тебя же были девочки? – она успела что-то проглотить в той комнате и стремительно опьянеть; я опешил и, от ужаса впав в малоумие, переспросил, о чем она говорит, и она так же мягко сказала, что хочет заняться со мною любовью. Мелко выругавшись, я распахнул дверь и ссыпался вниз по лестнице, подгоняемый тут же хлынувшей вслед мне истерикой; говоря совсем коротко, в следующий раз я увидел твою маму только на ее отпевании. Переспать с ней в доме, где еще висела твоя одежда и стояли книги, было бы совсем древнеримским актом, схлопыванием моего главного горизонта: к двадцати ты попробовал многих и мог, хоть и мертвый, собою гордиться, но я переиграл бы тебя, побывав там, откуда ты взялся на свет.
Старики продали вашу с мамой квартиру еще до того, как мы с К. накопили на свою, но если бы мне всерьез хотелось ее купить, я бы, наверное, как-то договорился с ними (а там бы вскрыл пол, пригласил духознатца, растерзал жену): деревья обнимали балкон, и в комнатах было прекрасно темно, вы жили на втором, над кошачьей квартирой с выпростанной из окна в палисадник длинной доской для тех, кто уже не мог запрыгнуть сам; ближе к холодам под то же окно приваливали нелепые бродячие собаки (как-то полупоехавшая хозяйка и ее отягощенная зобом подруга представили нам пса по кличке Пидарас): поселок был известно полон алкоты, но почему из всех возможных здесь обстоятельств именно проживание на первом этаже практически гарантировало тяжелую зависимость – это ведь неплохая загадка для антрополога, так? За эти годы многие из них умерли или делись куда-то еще, а в жилища их вселились, за редкими исключениями в виде сорокалетних русских семей, азиатские съемщики: было бы любопытно проверить, прервется ли на них это проклятие, но сам я, конечно, хотел бы переехать отсюда и оставить пост наблюдателя кому-то другому; хотя бы и никому. Я еще как-то держусь за наш лес, хотя и в него приходится забираться все глубже, чтобы это действительно означало «побыть в лесу»; ночью в мае за последними дворами вырастает черной пузырящейся стеной лягушачий хор; зимой грузовые поезда кричат так по-птичьи, что хочется обнимать их; а в одну душную летнюю заполночь я вышел на балкон и увидел, что справа от поселка, уже где-то за Клязьмой, в совершенно пурпурном небе, сцепившись в ком, катаются белые девятихвостые молнии, не издавая ни щелчка, ни шороха: оглушенный этим беззвучным неистовством, я вспомнил твой рассказ о том, как в июне девяносто восьмого ты вылез с военным биноклем на крышу дома, чтобы следить за приближающимся ураганом. В тот вечер я не мог составить тебе компанию, так как отбывал унылую (первую и последнюю в жизни) смену в детском лагере за городом; мало того, я оказался чуть ли не единственным из всех, кто все пропустил, потому что крепко спал, и стихия, добравшаяся до нас уже после отбоя, не сумела меня разбудить даже при поддержке всех подорванных ею солагерников, почему-то, впрочем, не ставших считать меня особенным существом после того, как все улеглось. Слушая утром их все еще напуганные речи, я ни секунды не завидовал им и считал, что мне более чем повезло; но история твоей одинокой и бесстрашной вылазки произвела на меня совсем другое впечатление и еще долго потом сосала мне сердце: все так непоправимо совпало тогда – я сходил с ума в лагере, где мне было не с кем хотя бы поговорить, а ты стоял на крыше, держа в руках бинокль размером с твою собственную голову (у меня дома лежал только театральный, из имитирующей кость пластмассы). И вот в эту ночь с бесшумно беснующимися молниями мне стало так же по-детски жаль, что ты не видишь, что творится в небе за нашей рекой: что вообще успела тебе показать эта земля: я даже не знаю, водили ли вас с рюкзаками на Старопавловскую дорогу, к памятнику Герасиму Курину, в лес за Молзино, на Карабановский мост. Все это при желании установимо: можно прийти к вам на станцию юных туристов (вы говорили почти по-французски: сютур) поднять списки и фотоальбомы, но мне кажется, что такие усилия оказались бы как раз разрушительны: чем меньше я знаю наверняка, тем податливей мир, а найти тебя в выцветшей детской толпе на фотографии у памятника древнему партизану означало бы просто, что в этой точке уже ничего не возможно, точно так же, как в квартире твоих стариков или на просеке от стадиона до школы.
Первый год без тебя я провел в стыдных дрязгах со всеми, кто попадался под руку, но больше, конечно, с самим собой: мне было настолько не в чем себя винить, что это только сильнее меня распаляло; подражая тебе, я выдумал несколько песен под гитару, которые до сих пор не могу полностью позабыть, и надеюсь только, что у тех немногих, кому их довелось услышать, память хуже моей. Как-то в тогдашней тоске меня навестили сероглазая А., в которую я был влюблен в последний школьный год, и наш общий веселый сержант из Электростали: она училась на философском, он ночевал в ее комнате в Новогирееве, но я в своей святой ушибленности был уверен, что они не более чем друзья, и сыграл им свою поделку на стихи Блока: ты ушла на свиданье с любовником, я один, я прощу, я молчу; все-таки, думаю я теперь, ты распространил на меня дар смеяться над собой, пусть и вот так запоздало (если бы еще сколько-то лет спустя, когда наш сержант уже застрелился из табельного пистолета, А. не рассказала бы мне обо всем сама, я бы, наверное, так и не догадался о них). Зимой я переехал жить в Пушкино к бедной Ю., слишком на меня надеявшейся; все это с самого начала пошло не так, как нам хотелось (каждому, очевидно, по-своему), и к осени, когда мне пришел срок отправляться на семестровую стажировку, мы сказали друг другу, что нам будет лучше не съезжаться обратно, когда я вернусь. Я улетел в Женеву, два дня не отвечал на звонки и сообщения (Ю. уже передумала), но на третий сдался и тоже отыграл все назад: это не принесло мне большого облегчения, но, пока впереди еще были три месяца небрежной жизни и учебы на швейцарские деньги, я мог позволить себе не особенно думать, что делать потом. Еще по дороге в город из аэропорта я вообразил себя покойником, отпущенным погулять на Пасху: так ослепительно солнечно было на улицах и огромные ненужные цветы склонялись из каменных клумб; я еще не так легко объяснялся en français, но за четыре года учебы во мне собралось столько раздраженной усталости от заносчивых москвичей и озлобленных в поездах и метро подмосковных (почему они все были живы?), что не слышать вокруг себя русскую речь тоже было подарком (уйти от нее до конца в Женеве было все-таки трудно, и всякий раз, когда рядом со мной на улице вспыхивали русские слова, я ощущал дуновение паники и старался не смотреть в ту сторону). Тугой на все новое, в ту самую осень я стал неуклюже разбирать без меня накопившиеся этажи инди-рока и легко отыскал свое счастье на пластинках New Pornographers и The Decemberists, а еще погодя, докатившись поездом до Лозанны, пришел на площадь перед Palais de Rumine, занятую фермерской ярмаркой и туманом с озера, наплывавшим во все прибрежные города и державшимся там до обеда так плотно, что не стоило расчехлять фотоаппарат (на первые же полученные франки я купил себе новый: «сайбершот» был уже плох), и, плутая между рядов с голубыми, зелеными и оранжевыми сырными головами, тускло светящими в добром полуденном сумраке, почувствовал, что впервые со дня твоей смерти, впервые за этот год, полный тоски и кретинских обид, мне стало на время легко и свободно и я больше не ненавижу себя за то, как это все так случилось. Я понял, что связь наша выстояла и не ослабла, что она сохранится и дальше, даже если я сам однажды вдруг захочу от нее избавиться; я не то чтобы смотрел на эти сказочные ярмарочные сыры твоими глазами, нет, но я находился там и за тебя: раз уж мы больше не могли вдвоем быть посланцами наших болот и собачьих промзон ни на швейцарской, ни на какой другой неизвестной земле, мне не оставалось ничего другого, как справляться за нас обоих.




