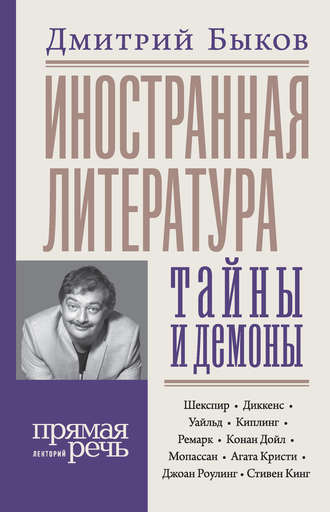
Дмитрий Быков
Иностранная литература: тайны и демоны
С другой стороны, при всех безусловных трагических коннотациях и образа Высоцкого, и всей истории, это был спектакль смешной. «Гамлет», как всякий великий текст, содержит в себе автоописание, пародию на пародию – пьесу «Мышеловка» («Но в каком смысле? В переносном», – поясняет королю Гамлет), в которой Шекспир пародирует все свои – именно свои, а не чужие – главные черты: риторику избыточную, страсти испанские… Когда актер-королева произносит свой монолог, а Гертруда насмешливо произносит: «Эта женщина слишком щедра на уверения, по-моему», Гамлет отвечает: «О, ведь она сдержит слово». Король же после слов Гамлета «Сейчас вы увидите, как убийца снискивает любовь Гонзаговой жены» не выдерживает и покидает представление. «Удалился, и ему очень не по себе», – сообщает принцу Гильденстерн. «От вина, сударь мой?» – с явной издевкой спрашивает Гамлет. Он доволен: «Что? Испугался холостого выстрела!» А потом спрашивает Горацио: «Неужто с этим, сударь мой, и с лесом перьев, – если в остальном судьба обошлась бы со мною, как турок, – да с парой прованских роз на прорезных башмаках я не получил бы места в труппе актеров, сударь мой?» Горацио скептически отвечает: «С половинным паем». «С целым, по-моему», – говорит Гамлет триумфально. Потому что теперь он знает правду: «О, дорогой Горацио, за слова призрака я поручился бы тысячью золотых». Вот на этом сложном пересечении трагедии и фарса и держится пьеса.
Еще один интересный момент в пьесе: в ней нет шута, хотя у Шекспира обычно шут есть. Но в функции шута выступают могильщики. И более того, благодаря могильщикам на сцене появляется череп шута, бедного Йорика, poor Yorick. Но зачем Шекспиру вдруг понадобился мертвый шут? Затем, что на пересечении тем шутовства и смерти построена вся пьеса. Могильщики – главные комментаторы происходящего, потому что жизнь идет в соседстве со смертью. Все происходящее пронизано смертью. Через два года Шекспиру сорок, наступает период «Отелло», «Короля Лира», «Макбета», это самое страшное его время. В нем осталась прежняя насмешливость, прежнее шутовство, но это как череп Йорика – в каком-то смысле Шекспир хоронит свой юмор. Хоронит себя, хоронит в себе шута:
Здесь были эти губы, которые я целовал сам не знаю сколько раз. Где теперь твои шутки? Твои дурачества? Твои песни? Твои вспышки веселья, от которых всякий раз хохотал весь стол? Ничего не осталось, чтобы подтрунить над собственной ужимкой?
И вот на этом постоянном контрапункте, постоянном слиянии трагического и смешного удерживается вся интонация Гамлета. Кстати, Гамлет – довольно циничный остряк. Как и Христос, он говорит притчами, а ведь и Христос выражается без особенного такта и даже, скажем, без особенного милосердия, его милосердие в другом. Вот, например, когда Мария омывает ноги Христа драгоценным миром, ученики его говорят: сколько можно было бы накормить нищих, если бы это миро продать. На что Христос отвечает блистательно: «…нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда» (Ин. 12:8). Вот эта насмешливая интонация Христа появляется у Гамлета постоянно. «Ну что же, Гамлет, где Полоний?» – спрашивает король. «За ужином», – отвечает Гамлет. «За ужином? Где?» «Не там, где он ест, а там, где его едят», – говорит Гамлет. «Где Полоний?» – настаивает король. «На небесах; пошлите туда посмотреть; если ваш посланный его там не найдет, тогда поищите его в другом месте сами. А только если вы в течение месяца его не сыщете, то вы его почуете, когда пойдете по лестнице на галерею. <…> Он вас подождет».
Тут нужно вспомнить по аналогии еще одну великую пародию – главную русскую пьесу, во всяком случае, самую знаменитую, которая травестирует, пародирует сюжет «Гамлета» до мелочей, и странно очень, что Юрий Тынянов в замечательной своей работе 1943 года о сюжете этой пьесы[18] этот смысл не учел совсем. «Горе от ума» – это русский «Гамлет». Все монологи Чацкого имеют своим прообразом монологи Гамлета. Софья-Офелия, правда, не сходит с ума, а наоборот – выставляет Гамлета безумцем и остается живехонька. У этой Офелии есть свой папа Полоний – Фамусов, который говорит теми же полониевскими словечками, а два бывших друга Чацкого, Зорич и Репетилов, – это Розенкранц и Гильденстерн. Ну и разумеется, есть Фортинбрас – полковник Скалозуб: «…и вам / Фельдфебеля в Вольтеры дам, / Он в три шеренги вас построит. / А пикнете, так мигом успокоит».
Конечно, у Грибоедова была претензия быть русским Шекспиром, но не случилось: едва начав работу над трагедией «Грузинская ночь», он гибнет, и поэтому образца трагической, драматической поэмы в России так и не было, пришлось ждать «Бориса Годунова». И как Шекспир складывается из комедий и трагедий, так и русский Шекспир складывается для нас из «Горя от ума» и «Бориса Годунова». После чего закладывать основы русского театра уже не нужно.
Последнее, на чем я хотел все-таки остановиться, это смысл пьесы, мораль ее, которая достаточно неочевидна. Главную проблему пьесы можно было бы сформулировать так: кончились времена, когда можно было победить зло. Теперь победить зло можно только ценой собственной жизни. Только погибнув на глазах Эльсинора, можно обратить людей к добру. Это объясняет и смысл жертвы Христа: если бы Христа не распяли, учения бы не было. В этом и заключается самое страшное.
В замечательном фильме Алексея Германа «Трудно быть богом» Румата, в отличие от героя романа Стругацких, не уцелел, не спасся. Румата обречен на гибель, он остается в жестоком средневековье Арканара, остается вместе с арканарцами, потому что единственное, что он может сделать, – это погибнуть у них на глазах. Тогда они поймут. А пока ты жив, ты терпишь поражение. Вот в этом заключается и главная проблема «Гамлета». Гамлет своей смертью искупает грехи Клавдия, грехи датского престола, искупает всю трагедию, которая вокруг него разыгралась. И если вам захочется после всего сказанного «Гамлета» перечитать, я буду считать, что задачу свою выполнил.
Чарльз Диккенс
Рождество английской прозы
Человек, который придумал Рождество» – такой подзаголовок к биографии Диккенса дал американский историк и писатель Лес Стендифорд в 2008 году. Но мы поговорим о Диккенсе и Рождестве, опираясь прежде всего на гениальную книгу Гилберта Честертона 1906 года[19], книгу, в которой он, почти не касаясь биографии Диккенса, разобрал главные ступени его творчества. «Великий поход Диккенса в защиту Рождества», – сказал Честертон в лучшей, на мой взгляд, девятой главе своей книги под названием «Диккенс и Рождество».
Почему самый непредсказуемый, самый обширный и самый готический, самый реалистический, вообще самый-самый – и при этом самый нечитаемый сегодня из английских писателей – Диккенс так прочно связывается для нас с рождественской темой, с Рождеством?
Когда-то Новелла Матвеева очень точно сказала, что как начатки всех искусств, всех философий присутствовали в Греции, так в Диккенсе присутствует начало практически всей современной культуры. Но самая выдающаяся особенность его творчества связана с одним обстоятельством, которое почему-то в истории мировой литературы никак не отражено, и это лишний раз доказывает мою любимую мысль о том, что история мировой литературы до сих пор еще не написана.
Мы привыкли (во всяком случае, такова была официальная коммунистическая, диалектическая схема развития литературы), что вслед за классицизмом является сентиментализм, вслед за сентиментализмом торжествуют романтики, и только после романтиков приходит то, что Михаил Успенский назвал «задержавшейся модой на реализм». Реализм – венец всего. Реализм – самое точное, самое правдивое отражение жизни, и после него дальше некуда идти.
Но жизнь часто опровергает наши представления, и на смену реализму явилось, например, фэнтези. Явилось и утвердилось прочно. И реализм никогда уже не возьмет реванша, потому что литература должна быть сказкой. Если она не будет сказкой, грош ей цена, ее никто не станет слушать. Я всегда вспоминаю слова того же Успенского про рыбаков, которые брали с собой в долгое тяжелое плавание бахаря (рассказчика), чтобы тот рассказывал им сказки, и которые немедленно скормили бы этого бахаря рыбам, если бы он начал рассказывать им, как тяжела их рыбацкая доля, в то время как деспот пирует в роскошном дворце. Это никому не интересно. Нужна сказка. Нужно подняться над реальностью.
Так вот, в прихотливой, петлистой, не вполне линейной истории мировой литературы примерно с конца 1820-х и вплоть до 1850-х годов есть странный такой извод, который поражает наше воображение, – внезапный всплеск сентиментальности. Сентиментализм в это время господствует везде, потому что мировое разочарование в романтиках было слишком сильным. С тех пор как Наполеон оказался на Святой Елене, с тех пор как человек оказался тираном, предателем или узником, с тех пор как захлебнулись великие революционные движения, в мире восторжествовали маленький человек и нота несколько брезгливого в России и несколько болезненного в Скандинавии и Германии сострадания к нему. И здесь, конечно, обращают на себя внимание прежде всего три автора: два вечных девственника, как они себя позиционировали, два гениальных фантазера, сказочника – Андерсен в Дании и Гоголь в России – и полнокровный, семейственный, пышный, многословный Диккенс в Англии. Пожалуй, еще четвертый напрашивается в эту тройку – Эдгар Аллан По, который, казалось бы, тему маленького человека нигде и никак не педалирует, но, если мы вглядимся в его тексты, например, в «Систему доктора Смоля и профессора Перро», или в «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима», или в «Вильяма Вильсона», мы увидим, до какой степени человек у Эдгара По всегда игралище стихий, до какой степени он маленький, до какой степени абсолютно беспомощен перед лицом стихии.
Глубже всех маленького человека как явление амбивалентное понял Гоголь, который сделал и своего Акакия Акакиевича, и своего капитана Копейкина страшным мстителем. Ведь, как правильно замечает Борис Михайлович Эйхенбаум, чем была бы «Шинель» без финала, – появления огромного усатого привидения, которое сдирает шинели со всех проходящих, – довольно сумрачным банальным анекдотом, житейским абсолютно[20]. Но этот маленький чиновник, жалкий, забитый, затравленный, далеко не всегда являет собою идеальный объект жалости. Если бы Акакий Акакиевич не был последним и самым забитым в своей конторе, очень возможно, что он оказался бы среди тех, кто травит последнего и самого забитого. Маленький человек, если дать ему власть, ведет себя в полном соответствии с героем известного романа Ганса Фаллады «Маленький человек, что же дальше?». Он превращается в монстра, потому что маленький человек – безусловно, явление монструозное. О том, что являет собою этот маленький, забитый человек, дорвавшийся до власти, мы в России знаем слишком хорошо. Вот только слышать об этом, думать об этом никто не хочет. Мы, как герои Венечки Ерофеева, начинаем возмущаться: «Мы мелкие козявки и подлецы, а ты Каин и Манфред…» – и начинаем ненавидеть Каина и Манфреда.
Реванш сентиментализма – это и есть наше мстительное попрание наших же былых идеалов. Первым произведением, в котором содержалось это разочарование, был, конечно, «Евгений Онегин»: «И столбик с куклою чугунной / Под шляпой с пасмурным челом, / С руками, сжатыми крестом… / Уж не пародия ли он?» Естественно, после разочарованности в байронизме, разочарованности в романтическом сверхчеловеке в литературе надолго воцарились слезы.
Настоящим мастером сочинения такой смеси сентиментальности и готики был Ганс Христиан Андерсен. Андерсен, который в 1835 году опубликовал первую порцию своих сказок, в это время гораздо влиятельнее Диккенса, не говоря о том, что он на семь лет старше.
Сам очень сентиментальный, Диккенс считал Андерсена гением детской литературы. Они познакомились в июне 1847 года, когда сорокадвухлетний Андерсен, автор знаменитых сказок, во всем мире обожаемый и переводимый, приезжает к Диккенсу, который только-только становится популярен в Европе, хотя Англия им уже бредит. (И кстати, русский переводчик Иринарх Иванович Введенский в том же 1847 году присылает Диккенсу письмо с предложением переводить появившиеся в печати куски «Домби и сына».) У Диккенса к тому времени вышли четыре из пяти «Рождественских повестей», и писал он их под сильным андерсеновским влиянием. И вот здесь мы с сожалением замечаем, как ужасно, когда больной гений влияет на здорового.
Диккенс – олицетворение душевного здоровья. Да, у Диккенса были и припадки черной меланхолии, и минуты жалости к себе, когда он рыдал и над своим несчастным детством, и тяжелым настоящим, но все-таки по природе своей он семьянин, у него страшное количество детей, беспрерывные любовницы до знаменитого последнего романа; в общем, Диккенс – человек, который любит жизнь, который при этом плодовитый писатель, успешен во всем, за что бы ни взялся, человек, который любит праздники и счастливые концы.
Совсем другое дело Андерсен. Андерсен в какой-то степени похож на нашего Гоголя с его ипохондрическими припадками, болезненной мрачностью, страшной нервностью, вечной девственностью, с такой же абсолютной любовью к Италии и нелюбовью к дорогому отечеству, где его якобы никто не понимает, – ну просто копия живая.
Андерсен – это апофеоз больного гения. Это болезненная недооценка собственной личности, собственной славы, неизменные разговоры о том, что его никто не любит, что он недооценен. (Гениальный датский скульптор Бертель Торвальдсен вспоминал, как Андерсен однажды едва не попал под фиакр, когда бежал через дорогу к нему навстречу сказать: «Меня приглашают в Италию! Эта проклятая холодная Дания не ценит меня! Меня оценит родина, только когда я умру!» И это он говорит о стране, в которой ему через десять лет поставят памятник при жизни!) Это нелюбовь к женщинам или, вернее, болезненный страх перед ними. Хотя лучшие женщины домогались его любви, Андерсен делал все возможное, чтобы не оставаться с ними наедине. Его приглашают в гости – он ссылается на недомогание. Его зовут в совместную поездку – он говорит, что у него творческие планы. Его зовут вместе ехать, наконец, в Италию с оперной певицей, которая влюблена в него, – он говорит, что в Италии не понимают его искусства, хотя Торвальдсену говорит ровно противоположное. Лишь бы не поехать никуда с любимой.
Эта женофобия есть, в сущности, боязнь жизни, панический страх перед ней. Более того, Андерсен всю жизнь одержим, и не без оснований, мыслью о собственной неуместности в мире людей, о собственной болезненной неуклюжести. И действительно, длинный нос, нос совершенно гоголевский, мешает ему, мешают длинные, нескладные конечности. Он иногда считает себя красавцем, а иногда – сущим исчадием ада. И вот из всего этого вырастает его странное, болезненное творчество.
Андерсен жесток и сентиментален, как немецкий офицер. Нет смысла пересказывать наиболее чудовищные его сказки, но вспомним хотя бы «Снежную королеву», вспомним ужасный ее финал, который только кажется прекрасным: «Розы цветут, красота, красота – / Скоро узрим мы младенца Христа!» Кай может, конечно, жить, но что это будет за жизнь после того, как он побывал в смерти? Я уж не говорю о страшной сказке «Девочка, наступившая на хлеб»; или «Красные башмачки» – о девочке, которая надела в церковный праздник красные башмачки и вынуждена была плясать в них до тех пор, пока в изнеможении не умолила палача отрубить ей ножки. Но всякий раз, как она грешила, ножки в красных башмаках появлялись перед ней и начинали плясать. Это, пожалуй, будет покруче, чем гоголевские руки мертвеца, который грызет сам себя. Я уж не говорю про страшную сказку «Ледяная дева» и уж, конечно, про «Девочку со спичками».
У Андерсена совершенно нет милосердия. Андерсен тычет нас носом в ужасное, понимая, что ребенка иначе не прошибешь. У ребенка огромный запас энергии и жизнелюбия, и для того чтобы ребенка напугать и заставить разрыдаться, ему надо рассказывать такое, от чего взрослый человек отворачивается в ужасе. У Андерсена есть, казалось бы, жизнерадостные сказки, «Цветы маленькой Иды», например, но если перечитать два тома андерсеновских «Сказок и историй» подряд, вы поразитесь, какие это мрачные вещи. Сюжет «Девочки со спичками» так мучил всю мировую литературу, что Горький даже вынужден был написать рассказ «О мальчике и девочке, которые не замерзли», где изобразил двух весьма циничных сорванцов, которые по мелочи еще и грабят ночных прохожих. Написал, чтобы просто как-то избавиться от этого страшного сюжета.
Тем не менее влияние Андерсена на мировую и в особенности на британскую литературу было огромно, и Диккенс подражал ему напрямую. Но когда мы читаем Андерсена, то знаем, что все у его героев будет плохо; мы к этому уже привыкли и заранее готовимся проливать горячие слезы, слезы животного сострадания, ведь Андерсен, если ему надо добиться успеха, сапогом будет давить на наши слезные железы. Когда же это делает Диккенс, здоровый, веселый, полнокровный Диккенс, человек гораздо более тонкий, по природе своей мечтатель, юморист, комик, тогда получаются чудовищные гибриды вроде «Рождественских повестей». Однако, как показывает опыт, именно такие чудовищные гибриды очень нравятся массовому сознанию.
Почему вообще Диккенс взялся за сентиментальные повести к Рождеству? Существуют три версии на этот счет. Согласно одной из них, в начале 1843 года к нему обратился его любимый постоянный иллюстратор с просьбой написать что-нибудь эдакое, что можно было бы хорошо проиллюстрировать. Согласно другой, к нему обратился друг, попросив написать что-нибудь в защиту бедняков; и, наконец, согласно третьей, Диккенс был должен 270 фунтов, и ему представился хороший случай быстро заработать деньги к Рождеству. Мне лично представляется самой убедительной именно третья версия. Но получилось так, что, будучи должен 270 фунтов, на первой повести он заработал всего 240, поэтому, видимо, решил, что святочные рассказы следует сделать ежегодными, с тем чтобы хоть раз как-нибудь выйти если не в прибыль, то в ноль. И следующие издания были действительно гораздо более прибыльными.
Рождественский цикл Диккенса включает пять повестей: «Рождественская песнь в прозе» (1843), «Колокола» (1844), «Сверчок за очагом» (1845), «Битва жизни» (1846) и «Одержимый, или Сделка с призраком» (1848).
«Рождественская песнь в прозе» имеет подзаголовок «Святочный рассказ с привидениями». Все радуются наступающему Рождеству, и только Эбенизер Скрудж, сквалыга и скряга, не радуется, потому что он вообще ничему не радуется. Диккенс не жалеет для него монотонных, хорошо звукооорганизованных аллитерационных эпитетов: «…он был холоден и тверд, как кремень, и еще никому ни разу в жизни не удалось высечь из его каменного сердца хоть искру сострадания. Скрытный, замкнутый, одинокий – он прятался как устрица в свою раковину»[21] (по-английски это еще красивее).
И вот Скрудж, который и своего племянника все время корит за то, что тот такой радостный, пышущий здоровьем, румяный, который и у своего бедного многодетного клерка собирается вычесть полкроны за то, что тот не явится на работу в праздничный день, – этот Скрудж поздним вечером идет домой, стучит в дверь – и вдруг (вот прием, который придумал Диккенс, а потом аккуратно украл Булгаков для своего человека в клетчатом) в дверном молотке проступает лицо Марли, компаньона Скруджа, умершего семь лет назад как раз в сочельник, а на лестнице, такой широкой, что по ней «могло бы пройти целое погребальное шествие» (традиционная диккенсовская гипербола), ему мерещатся похоронные дроги. Потом, сидя в своей угрюмой, мрачной квартире перед еле натопленным камином, Скрудж хлебает свою вечернюю порцию овсяной болтушки и внезапно слышит звон цепей, и перед ним появляется призрак – дух Марли.
Дальше, к сожалению, прием нагнетания страшного Диккенсу изменяет, и вместо страшного начинается откровенно смешное. Одна цепь Марли чего сто́ит:
Длинная цепь опоясывала его и волочилась за ним по полу на манер хвоста. Она была составлена (Скрудж отлично ее рассмотрел) из ключей, висячих замков, копилок, документов, гроссбухов и тяжелых кошельков с железными застежками. Тело призрака было совершенно прозрачно, и Скрудж, разглядывая его спереди, отчетливо видел сквозь жилетку две пуговицы сзади на сюртуке. Скруджу не раз приходилось слышать, что у Марли нет сердца, но до той минуты он никогда этому не верил.
Ребенку было бы страшно, особенно когда призрак разматывает головной платок и у него отваливается челюсть, но взрослому читателю с этого момента только смешно, потому что, лишившись челюсти, Марли продолжает разговаривать, и разговаривать еще более высокопарно. Он начинает рассказывать о том, как жестоко наказан за то, что не делал в своей жизни добра и не помогал людям. Он не хочет, чтобы та же участь постигла Скруджа, поэтому попросил трех духов помочь Скруджу измениться.
И вот к Скруджу являются три духа – Святочный Дух Прошлого, Дух Настоящего и Дух Будущего. Показывают они ему следующие картинки.
Дух Прошлого показывает ему бедного, всеми забытого маленького Скруджа, единственного, кого не забрали из школы на Святки домой, но тут вбегает его младшая прелестная сестра и увозит его домой; и Скрудж вспоминает, что он никогда ничем не помог потом ни ей, ни ее сыну, своему племяннику. При следующей картинке Скрудж вспоминает возлюбленную, которая решила вернуть ему свободу, потому что, как она ему объясняет, «новая всепобеждающая страсть, страсть к наживе, мало-помалу завладела тобой целиком!». Она стала женой другого и была счастлива, а он остался на всю жизнь один.
На второй день к Скруджу приходит второй дух, Дух Нынешних Святок. Он показывает Скруджу, как торжествуют, как ликуют все вокруг под омелой и остролистом – главными символами английского Рождества. Даже в бедной семье его несчастного клерка царят веселье и ликование, хотя его сын, малютка Тим, не по годам умный ребенок, – калека. И Скруджа охватывает сочувствие и раскаяние, «которого он никогда прежде не испытывал».
Наконец появляется Дух Будущих Святок, и в этом будущем Скрудж уже покойник. Никто не прольет над ним слезы, понимает Скрудж, и решает: «Я искуплю свое Прошлое Настоящим и Будущим!» Скрудж совершенно перерождается. Он примиряется с племянником, повышает жалованье своему клерку, малютка Тим не умирает. Скрудж становится самым добрым и щедрым человеком в городе и пользуется всеобщей любовью и уважением.
Если бы это был Андерсен, все окончилось бы погребением Скруджа, и обязательно умер бы малютка Тим со своей золотой головой и своими несчастными костылями. Мало того, что он умер бы от болезни, он, скорее всего, замерз бы под окнами богатого дома, потому что отец его после смерти Скруджа лишился бы единственной работы, которая у него была. И торжествующий Андерсен вбил бы еще несколько прощальных гвоздей в нашу читательскую голову, просто чтобы мы знали, какие мы все сволочи и как много рядом с нами несчастных.
Не знаю, что более благотворно, что сильнее на нас действует – проповедь ли добра, которую мы слышим у Андерсена, или проповедь счастья, которую мы слышим у Диккенса. Это вечный вопрос, который я задавал своим великим собеседникам: действительно ли горе может стать воспитателем? Чингиз Айтматов, помнится, ответил, что горе никогда воспитателем стать не может, но у нас есть литература, чтобы этот опыт пережить теоретически. Литература и существует для того, чтобы опосредованно преподносить нам отчаяние. Вот это поистине по-азиатски умный ответ.
Вечно решает этот вопрос для себя русская литература, которая пытается вроде бы впасть в диккенсовскую сентиментальность, но получается все время Достоевский, получается все время «Бобок» или «Мальчик у Христа на елке». Русская литература всегда воспитывает ударами под дых, достаточно вспомнить сказки Людмилы Петрушевской. Но у меня есть ощущение, что школа Андерсена как-то возвышенней, как-то успешней, потому что, читая Андерсена, ты понимаешь, что он болен, и ты жалеешь не только мир, изображенный им, но и его, живущего в этом аду. Когда же читаешь Диккенса, мало веришь в то, что Скрудж может преобразиться. Скрудж уже патологический скряга, сутяжник, патологический холостяк, не могущий ладить с людьми. Это деградация, а не болезнь, вылечить Скруджа нельзя, но нет Рождества без чуда, и Диккенс исцеляет Скруджа.
В этой святочной истории Диккенса есть по крайней мере две очень серьезные находки. Во-первых, это триада чуда. Прошлое, настоящее и будущее подвергают человека трем в высшей степени христианским испытаниям: это раскаяние, это счастье (в данном случае чужое счастье), это мысль о смерти – три способа воздействия, к которым чаще всего прибегает христианство. И второй момент здесь принципиально важный, момент, который очень точно проясняет всю психологию Рождества. У Диккенса есть одна не слишком известная, но очень важная статья-очерк 1852 года, которая называется «Чем становится для нас Рождество, когда мы взрослеем». Когда мы перестаем праздновать Рождество как чудо, пишет он, когда мы перестаем ждать, что нам под елку положат подарки, мы задумываемся: что же тогда для нас Рождество? И если чудо исчезло, мы сами должны сделать несколько чудес: мы должны одарить бедного, мы должны простить обиженного, мы должны сами хоть на короткое время немножечко стать людьми. Если мы не верим больше в чудеса божественного происхождения, мы должны сами стать чудом. И это очень точная мысль, мысль очень христианская, потому что и Христос отвергает чудеса, он хочет, чтобы верили не в чудеса, а в Него.
Христианство – это не нравственная проповедь, иначе это было бы слишком примитивно. Христианство – это проповедь чуда: сделай чудо. В этом смысле самое, конечно, христианское произведение – «Алые паруса» Александра Грина. Грин – прямой ученик и Диккенса, и Гоголя, и Гофмана, и Андерсена. «Если душа человека жаждет чуда – сделай ему это чудо. Новая душа будет у него и новая – у тебя», – говорит Грин устами своего героя.
Но чудо – вещь жестокая, как сказано в стихотворении Бориса Пастернака «Чудо» о бесплодной смоковнице:
Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог.
Когда мы в смятеньи, тогда средь разброда
Оно настигает мгновенно, врасплох.
Чудо – это вещь, которая в категориях морали не интерпретируется. Вспомните слова героя романа Станислава Лема «Солярис»: «Какие свершения, насмешки, муки мне еще предстояли? Я ничего не знал, но по-прежнему верил, что еще не кончилось время жестоких чудес»[22]. Чудо по своему воздействию бывает страшно. Чудо с испепеленной смоковницей – это не то чудо, которого мы ждем от доброго Христа, от уютного Христа, от плюшевого христианства. Но христианство не бывает плюшевым. Христианство – это бросание себя в чужое жерло, бросание своей жизни как главного аргумента в лицо врагу, как перчатку, – вот это очень точно.
Время жестоких чудес – это и есть ощущение жестокого чуда в диккенсовской сказке. Душа Скруджа подвергается жестоким испытаниям – без этого возрождения не получится. Конечно, ко всему этому приделан бантик в виде счастливого конца, в виде волшебного диккенсовского многословия, но мы-то с вами понимаем причину этого: человеку нужны 270 фунтов.
Многословие Диккенса жутко утомляет, но у гения всё в плюс. За счет этого многословия возникает ощущение волшебной недостоверности. Мы начинаем всему верить, потому что все призрачно, все таинственно. Как сказал Честертон, «таинственность потрясает нас, тайна банальна. Внешность событий страшнее, чем их суть».
И вторая мысль Честертона. В повестях Диккенса, в «Рождественской песни» особенно, много дождя, снега, тумана и счастья не только потому, что туманно и холодно английское Рождество, а потому, что в тумане возможны чудеса. Туман опускается как завеса, в которой совершается чудо. Диккенс – поэт тумана: «Природа <…> варит себе пиво к празднику», туман – это гигантская пивоварня. И прав Честертон, когда говорит о Диккенсе: «Наверное, он мечтал о невозможном счастье – отыскать огромный чан и выпить великаньего пива».
Вот у Андерсена совершенно нет этой страсти к деталям. Гусь рождественский у него просто гусь, но рождественский гусь у Диккенса нафарширован луком и шалфеем, а сами луковицы «румяные, смуглолицые толстопузые испанские луковицы, гладкие и блестящие, словно лоснящиеся от жира щеки испанских монахов», и миндаль ослепительно бел, и цукаты рядом лежат, облитые глазурью… Через страницу таких упоительных приключений у читателя начинает такая слюна уже хлестать, что он как-то примиряется с миром, с образом жестокого чуда, так соприродного жестокой легенде Рождества. От этого и сама «Рождественская песнь», которая является синтезом прозы и стиха, которая строфична, ритмична, в которой есть прямые стиховые вставки и которая, в общем, довольно дурновкусное произведение, становится ужасно убедительной.
Довольно часты высказывания, что диккенсовские «Рождественские повести» мало связаны с Библией. Это не так. Тексты повестей нашпигованы, как рождественский гусь, набиты библейскими цитатами, отсылками. Самое известное, конечно, в «Колоколах», когда герой-бунтарь говорит: «Куда ты пойдешь, туда я не пойду; где ты будешь жить, там я не буду жить; народ твой – не мой народ, и твой бог – не мой бог!» Это знаменитая отсылка к «Книге Руфи»: «…и куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить; народ твой будет моим народом, и твой Бог – моим Богом». Но в том-то и дело, что Диккенс, не апеллируя напрямую к реалиям Рождества: к избиению младенца, к бегству в Египет, к Вифлеемской звезде, – сохраняет дух Рождества.
«Колокола. Рассказ о Духах церковных часов» – вторая вещь цикла. Как и “Песнь”, – пишет Честертон, – “Колокола” призывают к жалости и веселью, но сурово и воинственно. Это не рождественская песня, а рождественский боевой гимн». Эта повесть оказала наибольшее влияние на последователей Диккенса, потому что в ней Диккенс разделывается с благотворительностью. Великолепную формулировку английской благотворительности дал тот же Честертон: холодное отталкивающее благородство, холодное отталкивающее добро.
Это холодное милосердие олицетворяет в «Колоколах» олдермен Кьют. Грех не процитировать разговор Кьюта с дочерью рассыльного Тоби Вэка по прозвищу Трухти Вэк, а прозвище свое Тоби получил потому, что всю жизнь бегал трусцой. Дочь Тоби, красавица Мэг, собирается выйти замуж за кузнеца.






