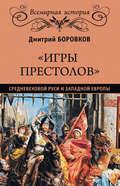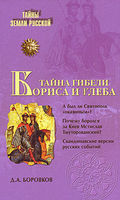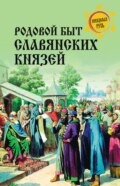Дмитрий Боровков
Владимир Мономах. Между историей и легендой
Следует обратить внимание на то, что в статье 1073 г. говорится сначала о вокняжении двух братьев в Берестове, а затем о вокняжении в Киеве одного Святослава. Из этого можно сделать вывод, что, вокняжившись в Берестове, Святослав и Всеволод образовали нечто вроде временного правительства, принявшего на себя управление городом, которое в работах М. С. Грушевского и В. Г. Ляскоронского получило название «дуумвират»[77]. Видимо, в этот период власть могла находиться в руках двух князей одновременно, поскольку между уходом Изяслава из Киева и его окончательным изгнанием с территории Руси прошло некоторое время. Не исключено, что изначально Святослав и Всеволод добивались не изгнания Изяслава, а разрыва его отношений с Всеславом, как гарантии сохранения политической стабильности.
Из «Жития» Феодосия Печерского, составленного Нестором после «Чтения о житии и погублении Бориса и Глеба», известно, что сначала братья изгнали Изяслава из стольного города, а затем и «из той области»[78], после чего, вероятно, и состоялось единоличное вокняжение Святослава в Киеве. Трудно сказать, существовали ли между младшими Ярославичами какие-нибудь договоренности. Скорее всего, Святослав занял место Изяслава по праву сильнейшего, а Всеволод за участие в перевороте 1073 г., как полагают исследователи, получил от Святослава территориальную компенсацию.
Вопрос о сущности этой компенсации является предметом споров. В. Н. Татищев во второй редакции «Истории Российской» утверждал, что Святослав уступил Всеволоду черниговскую волость, а место Всеволода в Переяславле занял переведенный из Новгорода Глеб, которого сменил на новгородском столе брат Давыд[79]. В различных модификациях эта гипотеза получила развитие у его последователей, начиная с C. М. Соловьева[80], став иллюстрацией к тезису о «лествичном восхождении» князей по иерархии стольных городов в соответствии с порядком старшинства, который являлся одним из столпов родовой теории.
Сторонники альтернативной гипотезы, восходящей к Н. М. Карамзину[81], напротив, предполагали, что черниговский стол остался за Святославом[82]. «Повесть временных лет», сообщая в конце статьи 1073 г. о том, что Святослав вокняжился в Киеве, ничего не говорит о судьбе черниговского стола. «Житие» Феодосия свидетельствует, что после мартовских событий 1073 г. Всеволод вернулся в «область свою», то есть в Переяславль. В «Киево-Печерском патерике» сообщается, что вскоре после вокняжения Святослава в Киеве Всеволод посетил Печерский монастырь, приехав вместе с Владимиром Мономахом из Переяславля[83]. В пользу того, что Всеволод Ярославич остался на княжении в том городе, который был получен им от отца, говорит и летописная статья 1093 г., где в некрологе почившему князю говорится, что он княжил в Чернигове «лето» (имеется в виду 1077/78 г.)[84]. Нет никаких данных для того, чтобы предполагать замену в Новгороде Глеба Святославича, якобы перешедшего в Переяславль, Давыдом Святославичем, который, согласно летописному списку «А се князи Великого Новагорода» в Новгородской I летописи младшего извода, занял новгородский стол лишь в середине 1090-х гг.[85]
Таким образом, ни один из элементов гипотезы, предложенной В. Н. Татищевым, не подкреплен документальными фактами и противоречит источникам. Все это свидетельствует в пользу того, что в 1073–1076 гг. существовала «уния» киевского и черниговского столов, воплотившаяся в лице Святослава, который, по всей видимости, продолжал управлять старой столицей через посадника. В таком случае с еще большей остротой возникает вопрос о том, какую выгоду от своего участия в перевороте 1073 г. мог получить Всеволод Ярославич?
А. В. Назаренко, пытаясь решить эту задачу, предложил оригинальную гипотезу, предполагающую, что Всеволод мог получить от Святослава часть Черниговской земли без Чернигова, однако с источниковедческой точки зрения более аргументированным представляется другое предположение исследователя, допускающее, что Святослав мог передать под контроль Всеволода Туров[86], где в 1076 г. мы встречаем Владимира Мономаха. В автобиографической части «Поучения» Мономах рассказывает следующее: «…Послал меня Святослав в Польшу, ходил я за Глогов, до Чешского леса, ходил в земле их 4 месяца. И в тот же год родился мой старший сын, новгородский. Оттуда пошел я к Турову, а на весну – к Переяславлю, а потом к Турову»[87].
Трудно не согласиться с О. М. Раповым, что, «когда в «Поучении» Владимир Мономах говорит о походах на Волынь и в Туровскую землю, из текста невозможно понять, в каком качестве он там выступал: как временный владетель указанных областей или просто как участник (а возможно, и руководитель) военных предприятий»[88], но вряд ли на протяжении одной и той же весны Мономах стал бы совершать два похода к одному и тому же городу, если бы не имел в нем постоянного местопребывания: в 1069 г. такой резиденцией для него оказался Владимир-Волынский, а в 1076 г. – Туров.
В то же время вряд ли можно принять точку зрения тех исследователей, которые на основании процитированного выше фрагмента полагают, что в 1076 г. Мономах мог быть некоторое время князем в Переяславле[89], так как здесь, вероятно, следует подразумевать поездку сына к отцу, аналогичную той, которая была предпринята в промежутке между пребыванием Мономаха в Берестье и Владимире весной 1069 г. Иное дело Туров, который принадлежал Изяславу Ярославичу, а после его изгнания, видимо, был уступлен Всеволоду Святославом, в то время как Мономах вместе со своим двоюродным братом совершал поход в Польшу. По свидетельству «Повести временных лет» под 6584 (1076) г.: «Ходил Владимир, сын Всеволода, и Олег, сын Святослава, в помощь полякам против чехов»[90].
Так они стали участниками большой европейской политики, которую проводил в жизнь новый киевский князь, сумевший не только отговорить своего польского родственника Болеслава II от поддержки Изяслава, но и заключить с ним стратегический союз, следствием которого стала экспедиция Владимира и Олега. Как раз в этот период Центральная Европа оказалась расколота в результате противостояния двух крупнейших политических сил – Священной Римской империи и папства – высшей светской и церковной власти, оспаривавшей право вмешательства в дела друг друга. В борьбе, которая приведет Германию и Италию к гражданской войне, а католический мир к церковной схизме, Болеслав II поддерживал папу Григория VII (1073–1085) и потому находился во вражде с вассалом Генриха IV – чешским князем Вратиславом II (1061–1092), против которого ему потребовалась русская помощь.
Согласно хронологическим расчетам В. А. Кучкина, конкретизировавшим летописную датировку путем сопоставления летописного известия с данными «Поучения», поход Владимира и Олега должен был начаться примерно в сентябре 1075 г. и закончиться к началу 1076 г., когда у Мономаха родился старший сын Мстислав. Так как он был назван в крещении Федором (как предполагается, в честь святого Федора Тирона, день памяти которого отмечается 17 февраля и в субботу первой недели Великого поста), по всей видимости, его рождение имело место ранней весной 1076 г., то есть на исходе 6583 мартовского года, к которому, согласно «Поучению», и относился поход Мономаха[91].
Чуть ранее датирует начало этой кампании А. Б. Головко, предполагающий, что она могла начаться во второй половине июля или первой половине августа 1075 г., заставив Генриха IV отказаться от карательных мероприятий в мятежной Саксонии и уйти в Чехию[92]. Между тем известие Ламперта Херсфельдского о том, что в разгар военной кампании против саксов Генрих IV под нажимом своих людей, испугавшихся столкновения с превосходящими силами противника, «столь быстро, сколь было можно, вернулся назад в Чехию, откуда пришел», на которое ссылается исследователь, относится к сентябрю 1075 г., что свидетельствует скорее в пользу датировки В. А. Кучкина.
Участвовал ли русский «экспедиционный корпус» в военных действиях или выполнял иные стратегические задачи на польско-чешской границе, ни летописи, ни хроники не сообщают[93]. Однако с геополитической точки зрения подобная военная демонстрация оказалась своевременной: не сумев разыграть «польскую карту», Изяслав Ярославич принял решение попытать счастья в имперском лагере.
Как рассказывает Ламперт Герсфельдский, в начале 1075 г. к германскому королю в Майнц явился «король Руси по имени Димитрий (крестильное имя Изяслава. – Д. Б.), привез ему неисчислимые сокровища – золотые и серебряные сосуды и чрезвычайно дорогие одежды – и просил помощи против своего брата, который силою изгнал его из королевства и сам, как свирепый тиран, завладел королевской властью. Для переговоров с тем о беззаконии, которое он совершил в отношении брата, и для того, чтобы убедить его впредь оставить незаконно захваченную власть, иначе ему вскоре придется испытать на себе власть и силу Германского королевства, король немедленно отправил Бурхарда, настоятеля Трирской церкви. Бурхард потому представлялся подходящим для такого посольства, что тот, к кому посылали, был женат на его сестре, да и сам Бурхард по этой причине настоятельнейшими просьбами добивался от короля пока не предпринимать в отношении того никакого более сурового решения»[94].
Эта дипломатическая миссия была зафиксирована не только хроникой Ламперта, но и «Повестью временных лет», в которой сообщается под 1075 г.: «В тот же год пришли послы от немцев к Святославу; Святослав же, гордясь, показал им богатство свое. Они же, увидев бесчисленное множество золота, серебра и шелковых тканей, сказали: «Это ничего не стоит, ведь это лежит мертво. Лучше этого воины. Ведь мужи добудут и больше того»[95]. Факт прибытия посольства Генриха IV использован для критики в адрес Святослава, тогда как о цели посольства летописец умалчивает, хотя она, несомненно, имела отношение к между-княжескому конфликту (что вряд ли было возможно в том случае, если бы весь текст принадлежал современнику события).
Впрочем, наличие исторической достоверности в летописном рассказе косвенно подтверждает Ламперт Герсфельдский, рассказывающий о том, что Бурхард летом 1075 г. привез королю Генриху из Руси «столько золота, серебра и драгоценных камней, что и не припомнить, чтобы такое множество когда-либо прежде разом привозилось в Германское королевство» и что «такой ценой король Руси хотел купить одно – чтобы король не оказывал против него помощи его брату, изгнанному им из королевства», хотя, добавляет хронист, он вполне мог получить это и даром, ибо Генрих, «занятый внутренними домашними войнами, не имел возможности вести войны с народами столь далекими». На рубеже XI–XII вв. Сигеберт из Жамблу, несколько сгущая краски, писал, что «двое братьев, королей Руси, вступили в борьбу за королевство, один из них, лишенный участия в королевской власти, обратился к императору Генриху, которому [обещал] подчиниться сам и подчинить свое королевство, если с его помощью вновь станет королем», но все было напрасно, поскольку «тяжелейшая смута в Римской империи заставляла его больше заботиться о своем, чем добывать чужое», ибо жители Саксонии, «возмущенные многими великими несправедливостями и беззакониями со стороны императора, восстали против него»[96].
Вероятно, исход демарша Генриха IV был еще неизвестен, когда сын Изяслава Ярополк, сопровождавший его в скитаниях по Европе, посетил Рим, где нанес визит папе Григорию VII. Результатом этого посещения стало послание от 17 апреля 1075 г., адресованное «королю Руси» Димитрию и «королеве, его супруге» (Гертруде, дочери польского короля Мешко II и тетке Болеслава II), которое гласило: «Сын ваш, посетив гробницы апостолов, явился к нам со смиренными мольбами, желая получить названное королевство из наших рук в качестве дара святого Петра и изъявив поименованному блаженному Петру, князю апостолов, надлежащую верность. Он уверил нас, что вы, без сомнения, согласитесь и одобрите эту его просьбу и не отмените ее, если дарение апостолической властью [обеспечит] вам благосклонность и защиту. В конце концов мы пошли навстречу этим обетам и просьбам, которые кажутся нам справедливыми, и, учитывая как ваше согласие, так и благочестие просившего, от имени блаженного Петра передали ему бразды правления вашим королевством, движимые тем намерением и милосердным желанием, дабы блаженный Петр охранил вас, ваше королевство и все ваше имение своим заступничеством перед Богом, сподобил вас мирно, всечестно и славно владеть названным королевством до конца вашей жизни…» Несмотря на громкие заявления, роль папы в разрешении междукняжеского конфликта на Руси была более чем скромной. Григорий VII, крупнейший представитель реформаторского крыла католической церкви во второй половине XI столетия, пытался претворить в жизнь концепцию примата церкви над светскими государями (нашедшую отражение в знаменитом «Диктате папы»), которая привела его к столкновению с Генрихом IV. Но, обладая огромным моральным авторитетом в качестве наместника святого Петра, Григорий VII даже для того, чтобы противостоять Генриху IV, был вынужден прибегать к помощи наемников-норманнов, а потому мог оказать изгнанному князю только дипломатическую поддержку. Эта поддержка нашла выражение в послании Григория VII к Болеславу II от 20 апреля 1075 г., где папа «просил и убеждал» польского князя «ради любви к Богу и святому Петру» вернуть деньги, отнятые «у короля Руси», поскольку «те, кто неправедно отнимает чужое добро, если не исправятся, когда могут исправиться, ни в коем случае, как мы веруем, не будут иметь части в Царствии Христовом и Божием»[97].
Масштабы экспроприации княжеского имущества, вероятно, были преувеличены, если обратить внимание на то, что, прибыв из Польши ко двору Генриха IV, Изяслав, как сообщает Ламперт, привез ему «неисчислимые сокровища». Скорее всего, во время пребывания у поляков князь лишился не «всего имения», а лишь какой-то его части. Как считает А. В. Назаренко, едва ли подлежит сомнению, что сведения о «зарубежных мытарствах» Изяслава Ярославича, зафиксированные летописью, восходят к его собственным рассказам, в которых князь мог несколько сгущать краски, как и в том случае, когда «миф об отобранных сокровищах» был изложен его сыном на другом конце Европы Григорию VII[98]. Трудно сказать, подействовали ли увещевания понтифика на Болеслава II, которому он угрожал такой карой, как утрата «Царства Божия», ибо в сфере «реальной политики» как раз на этот период приходится сотрудничество польского князя со Святославом, в котором оказались задействованы «младшие» князья.
По возвращении Мономаха из похода новым местом его княжения становится Туров – здесь он остается до тех пор, пока внезапная кончина киевского князя в результате неудачной операции («резанья желве») 27 декабря 1076 г. не приводит к новому перераспределению «стольных городов». 1 января 1077 г. Святослава, которого писец Иоанн, составитель одной из сохранившихся древнерусских книг – так называемого Изборника 1073 г., – называл «великим в князьях», сменил менее энергичный Всеволод.
Для Мономаха наступает пора активной деятельности. В «Поучении» говорится: «И Святослав умер, а я потом пошел к Смоленску, а из Смоленска той же зимой – в Новгород, весной Глебу в помощь, а летом с отцом под Полоцк…»[99] Эта информация позволяет говорить о начале нового витка противостояния, обусловленного экспансией Всеслава, для отпора которому потребовалось присутствие Мономаха сначала в Смоленске, а затем в Новгороде, где Глеб Святославич уже не мог в одиночку противостоять противнику.
Тем временем ситуация стремительно ухудшалась, благодаря событиям, о которых Владимир Мономах в «Поучении» не упомянул. 4 мая 1077 г. власть в Чернигове захватил племянник Всеволода, молодой князь Борис Вячеславич, который после смерти отца был обделен волостью и жил в Чернигове (за такими представителями княжеского рода в исторической литературе закрепилось название «князей-изгоев»). Княжение Бориса продолжалось всего 8 дней, после чего он бежал в Тмутаракань, которая подчинялась Роману – одному из сыновей Святослава Ярославича.
Эта политическая интермедия имела далекоидущие последствия. Она продемонстрировала шаткость позиций Всеволода Ярославича, которая стала еще более очевидной после того, как на Русь летом 1077 г. в сопровождении польских войск вернулся Изяслав, которому Болеслав II, только что принявший королевский титул, решил оказать поддержку после смерти Святослава.
«Повесть временных лет» сообщает об этих событиях лаконично: Всеволод выступил против брата на Волынь, где они «сотворили мир», вследствие чего Изяслав «сел в Киеве, месяца июля в 15-й день». Ряд исследователей, начиная с В. И. Сергеевича, предполагали, что отношения между Изяславом и Всеволодом были урегулированы на основании договора[100], что представляется весьма вероятным, учитывая тот факт, что оба князя находились в шаге от открытия военных действий. Конечно, это был не первый случай междукняжеского соглашения на Руси, однако от предыдущего прецедента – Городецкого соглашения 1026 г. между Ярославом и его братом Мстиславом – он отличался тем, что был достигнут бескровным путем. По сути дела, это был уникальный политический компромисс, когда младший брат без сопротивления уступил место старшему, что привело к оформлению такого принципа, как приоритет «брата старейшего».
В историографии этот принцип связывается с последней волей Ярослава, с чем нельзя согласиться хотя бы потому, что воплощение в политической практике он получил почти через четверть века после его кончины, тем более после того, как эта последняя воля была нарушена и Святославом, и Всеволодом. Поэтому вероятнее другое: представление о приоритете «брата старейшего» начало формироваться в Киево-Печерском монастыре после того, как в 1073 г. Изяслав был изгнан братьями. Из «Жития» Феодосия известно, что настоятель монастыря публично осуждал изгнание Изяслава и долго отказывался от контактов с его преемником Святославом, настаивая на том, чтобы он вернул киевский стол старшему брату. Известно, что Всеволод Ярославич также посещал в этот период Печерский монастырь, и весьма вероятно, в конце концов, монахи сумели повлиять на него в духе идей Феодосия, тем самым подготовив почву для мирного урегулирования отношений между братьями. Тем более у старшего и младшего Ярославича в этот момент имелись общие стратегические интересы – борьба с Всеславом Полоцким, о чем свидетельствует утверждение самого Мономаха о том, что он ходил на Полоцк летом 1077 г. с отцом и зимой 1077/78 г. с двоюродным братом Святополком Изяславичем, вместе с которым они «выжгли Полоцк». Все это способствовало тому, что Всеволод Ярославич добровольно сменил киевский стол на черниговский.
После «Волынского компромисса» он сохранил в подчинении левобережье Днепра, составлявшее единый территориальный комплекс (Северскую землю), раздробленный в 1054 г. по «ряду» Ярослава. За Мономахом старшие Ярославичи, по-видимому, оставили Смоленск, где он находился весной 1078 г. после возвращения из похода на Полоцк. В Киевской земле фактически установилось двоевластие. Изяслав Ярославич посадил на княжение в Вышгороде своего сына Ярополка, но для упрочения своего положения и поддержания стратегического баланса сил киевскому князю было необходимо вернуть под контроль те городские центры, где на княжении находились Святославичи.
Вскоре после возвращения Изяслава в Киев подозрительную строптивость по отношению к Глебу Святославичу проявили новгородцы, которые, по свидетельству составителя списка «А се князи Великого Новагорода», выгнали его из города[101]. Судя по «Повести временных лет», взаимоотношения его с новгородской общиной и до этого момента были достаточно сложными. Под 1071 г. в тексте летописи говорится, что в Новгороде объявился волхв и «говорил людям, притворяясь богом, и многих обманул, чуть не весь город, говорил ведь: «Предвижу все» и, хуля веру христианскую, уверял, что «перейду по Волхову перед всем народом». И была смута в городе, и все поверили ему и хотели погубить епископа. Епископ же взял крест в руки и надел облачение, встал и сказал: «Кто хочет верить волхву, пусть идет за ним, кто же верует Богу, пусть ко кресту идет». И разделились люди надвое: князь Глеб и дружина его пошли и стали около епископа, а люди все пошли к волхву. И началась смута великая между ними. Глеб же взял топор под плащ, подошел к волхву и спросил: «Знаешь ли, что завтра случится и что сегодня до вечера?» Тот ответил: «Знаю все». И сказал Глеб: «А знаешь ли, что будет с тобою сегодня?» – «Чудеса великие сотворю», – сказал. Глеб же, вынув топор, разрубил волхва, и пал он мертв, и люди разошлись». Этот летописный рассказ показателен для понимания того, сколь ненадежными были отношения князя с местным населением, которое легко мог увлечь за собою любой демагог. При жизни отца Глеб справлялся со строптивостью горожан, но после его смерти положение ухудшилось, а в 1077 г. от укуса собственного пса внезапно скончался епископ Феодор[102], которого князь спас от расправы, так что свергнуть неугодного правителя, лишенного серьезной поддержки, не составляло труда. Глеб бежал за Волок, где вскоре был убит. Новгородский стол оказался вакантным, видимо, в начале 1078 г., поскольку в «Поучении» Мономах сообщает, что после того, как они с двоюродным братом «выжгли Полоцк», Святополк пошел к Новгороду, «а я, с половцами воюя, на Одрск, а потом в Чернигов»[103]. Судя по дальнейшему изложению событий, затем Мономах ненадолго отправился в Смоленск, откуда вновь вернулся в Чернигов.
Тем временем наступление Изяслава Ярославича на позиции клана Святославичей продолжалось. Вслед за Глебом волости лишился его брат Олег – недавний соратник Мономаха, ставший крестным отцом его старших сыновей – Мстислава и Изяслава. Как справедливо отмечает Д. Оболенский, «отношения обоих князей были исполнены глубины и драматизма, иногда их объединяли родственные узы, но чаще династическое соперничество и непримиримые притязания делали их соперниками»[104]. Впервые такая конфликтная ситуация возникла весной 1078 г., когда у Олега был отнят стол во Владимире-Волынском, а сам он оказался в Чернигове.
Трудно сказать, получил ли Олег Волынь еще при жизни своего отца Святослава, как считают некоторые исследователи (при этом полагая, что это могло произойти в 1073 г. и не учитывая того, что, по «Поучению», Мономах оставался во Владимире-Волынском примерно до середины 1075 г., так что сделаться волынским князем Олег мог не раньше того, как вернулся из похода вместе с Мономахом)[105], или эту волость дал ему Всеволод после того, как стал киевским князем в 1077 г. Сторонники первой точки зрения считают, что решение подобного рода могло быть мотивировано необходимостью контроля действий Изяслава. Но в это время Изяслав находился у Генриха IV, а не у Болеслава II, с которым Святослав Ярославич сумел установить союзнические отношения, и, следовательно, гипотеза о стремлении Святослава к установлению контроля над польской границей в связи с возможным выступлением в поддержку Изяслава отпадает. Если ситуация на западных рубежах была стабильной, поскольку Болеслав был занят то войной с чехами, то подготовкой коронации в качестве короля, которая состоялась в конце 1076 г., не ясен смысл передачи Волыни Олегу Святославичу. Поэтому нам ближе мнение М. С. Грушевского, который допускал, что Олег получил Владимир в 1077 г. от Всеволода Ярославича[106]. Оно позволяет объяснить то, что оборона западных границ вновь стала актуальной после того, как Владимир Мономах оказался занят борьбой с Полоцком, а Болеслав II решил оказать поддержку Изяславу Ярославичу.
Таким образом, в первой половине 1077 г. эта волость внезапно приобрела стратегическое значение, так как встреча Всеволода с Изяславом летом того же года произошла именно на Волыни, которая при менее благоприятном развитии событий могла бы легко превратиться в театр военных действий. Некоторое время Олег мог княжить на Волыни и по возвращении Изяслава, пока весной 1078 г. не был «выведен» из Владимира в Чернигов.
Источники не сообщают, было ли это единоличное решение Изяслава, или оно было принято совместно с Всеволодом, – факт заключается в том, что это спровоцировало «конфликт поколений» между «старшими» и «младшими» князьями. По мнению М. П. Погодина, Изяслав и Всеволод решили лишить Святославичей прав на владение волостями из-за выступления их отца против старшего брата в 1073 г.[107] В любом случае дискриминационное отношение к Святославичам налицо с 1078 г. Некоторые детали, предшествующие эскалации конфликта, известны из «Поучения» Мономаха, который сообщает: «…И потом пришел я из Смоленска к отцу в Чернигов, и пришел Олег, который из Владимира был выведен, и позвал я его к себе на обед с отцом в Чернигове, на Красном дворе, и дал отцу 300 гривен золота»[108]. Под этой суммой обычно подразумевают дань, причитавшуюся Всеволоду Ярославичу, со Смоленской волости[109], хотя высказывалось предположение, что это могла быть компенсация Олегу Святославичу за утраченный стол на Волыни[110], которое, однако, не кажется убедительным, поскольку сам Мономах уточняет, что эту сумму он передал отцу, а не двоюродному брату.
Не без умысла Мономах упомянул и об обеде на «Красном дворе» (по предположению И. М. Ивакина, он состоялся в день Пасхи 8 апреля 1078 г.)[111], целью которого, можно думать, являлись переговоры между Олегом и Всеволодом, где он, вероятно, выступал посредником. По всей видимости, это посредничество закончилось неудачей, поскольку в «Повести временных лет» имеется известие о том, что 10 апреля 1078 г. Олег бежал от Всеволода в Тмутаракань. Этот шаг означал разрыв отношений, последствия которого не замедлили сказаться через несколько месяцев. В Тмутаракани, где сформировалась междукняжеская коалиция, опиравшаяся на степных кочевников, Святославичи и их двоюродный брат Борис Вячеславич стали готовить ответный удар.
По свидетельству «Повести временных лет», в конце лета 1078 г. «привели Олег и Борис поганых на Русскую землю и пошли на Всеволода с половцами. Всеволод же вышел против них на Сожицу, и победили половцы русь, и многие убиты были тут: убит был Иван Жирославич и Тукы, Чудинов брат, и Порей, и иные многие, месяца августа в 25-й день. Олег же и Борис пришли в Чернигов, думая, что победили, а на самом деле земле Русской великое зло причинили»[112].
Об этом нашествии, которое было крупнейшим половецким вторжением на Русь с 1068 г., Мономах в «Поучении» пишет: «Из Смоленска придя, я прошел, сражаясь, сквозь половецкие полки, до Переяславля, и нашел отца, пришедшего из похода»[113]. По всей видимости, это случилось уже после того, как русские войска были разгромлены в битве при Сожице, в которой дружина Мономаха не успела принять участие. Однако оба они вряд ли могли противостоять половцам, поэтому Всеволод обратился за помощью к Изяславу. В летописи рассказывается, как Всеволод пришел к брату, они поздоровались и сели, после чего Всеволод стал рассказывать о своих злоключениях. «И сказал ему Изяслав: «Брат, не тужи. Видишь ли, сколько всего со мной приключилось: не выгнали ли меня сначала и не разграбили ли мое имущество? А затем, в чем провинился я во второй раз? Не был ли я изгнан вами, братьями моими? Не скитался ли я по чужим землям, лишенный имения, не сделав никакого зла? И ныне, брат, не будем тужить. Если будет нам удел в Русской земле, то обоим; если будем лишены его, то оба. Я сложу голову свою за тебя». И, так сказав, утешил Всеволода, и повелел собирать воинов от мала до велика». Таким образом, сложилась коалиция соправителей Русской земли против «князей-изгоев»: «Изяслав с Ярополком, сыном своим, и Всеволод с Владимиром, сыном своим» устроили экспедицию против Чернигова.
Под стенами города «старших» князей ждала неудача: несмотря на отсутствие Олега и Бориса, горожане отказались открыть ворота. Всеволод Ярославич за четырнадцать месяцев своего княжения не сумел снискать симпатий местного населения, которое предпочло поддержать Олега Святославича. Этот инцидент был первым проявлением сепаратизма в Русской земле, обусловленным политическими симпатиями городской общины. Князья не привыкли к такому развитию событий, и им оставалось подвергнуть город осаде. Осаждающим удалось добиться некоторых успехов. Мономах, захватив восточные ворота, сжег посад, заставив защитников укрыться во внутреннем городе. Довести до конца осаду не удалось, так как стало известно о приближении Олега и Бориса, которые, видимо, набрали войско на территории Черниговской земли, поэтому «старшие» князья были вынуждены выступить им навстречу.
По свидетельству летописи, перед началом сражения Олег Святославич предлагал начать мирные переговоры, говоря своему союзнику: «Не пойдем против них, не можем мы противостоять четырем князьям, но пошлем со смирением к дядьям своим». Борис Вячеславич отверг это предложение со словами: «Смотри, я готов и стану против всех». В этом летописном фрагменте показательно стремление оправдать одного из мятежных князей и возложить всю ответственность за принятое решение на другого, хотя отношение к Олегу Святославичу в «Повести временных лет» балансирует на грани положительной и отрицательной характеристики. Тем не менее Олег Святославич в дальнейшем играл весьма заметную роль в междукняжеских отношениях и стал родоначальником княжеской ветви («Ольговичей»). А вот Борис Вячеславич потомства не оставил, поэтому составителю или редактору летописного рассказа было удобнее возложить всю ответственность за дальнейшие события на этого князя.
Немало размышлений порождает и вопрос о том, каков мог быть мотив бескомпромиссной позиции Бориса? Предполагается, что он не имел владетельных прав, поскольку мог появиться на свет после смерти своего отца (подобные лица стали допускаться к наследованию только в середине XIV в.), даже если это было не так и после смерти отца в 1057 г. Борис остался малолетним, это не слишком увеличивало шансы на приобщение к власти. Ярославичи не позаботились об этом, что и вынудило его захватить власть в Чернигове, где его княжение было рекордно коротким. Борис вряд ли пользовался поддержкой черниговцев и рассчитывал занять черниговский стол, наследственные («отчинные») права на который принадлежали Олегу Святославичу. Скорее всего, Борис был заинтересован в возвращении «отчинного» стола в Смоленске, занимаемом Владимиром Мономахом. Если «младшие» князья в 1078 г. имели в виду реализацию «отчинных» прав, компромисс со «старшими» князьями был вряд ли возможен.