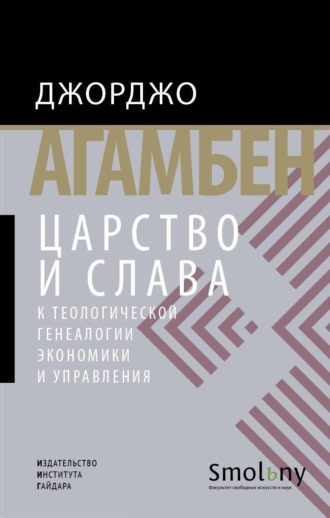
Джорджо Агамбен
Царство и Слава. К теологической генеалогии экономики и управления
Лишь у Филона впервые отчетливо появляется нечто похожее на политическую теологию в форме теократии. Анализируя язык Филона, Петерсон показывает, что политическая теология является чисто иудаистским творением. Теолого-политическая проблема стоит перед Филоном «в конкретной реальности его положения как еврея» (P. 30).
Израиль является теократией, его единым народом управляет единый божественный монарх. Единый народ, единый Бог. […] Но так как единый Бог является не только монархом Израиля, но и повелителем всей вселенной, по этой причине тот самый единый народ – «народ, наиболее любимый Богом» – под властью этого вселенского монарха становится служителем и пророком для всего человечества [P. 28–29].
После Филона понятие божественной монархии перенимают христианские апологеты, которые используют его в целях защиты христианской веры. В кратком обзоре Петерсон прочитывает в этой перспективе Иустина, Taциана, Феофила, Иринея, Ипполита, Тертуллиана, Оригена. Но именно у Евсевия, придворного теолога – или, согласно едкому и остроумному определению Овербека, фрезëра богословского парика императора Константина, – христианская политическая теология обретает свое полное выражение. Евсевий устанавливает соответствие между пришествием Христа на землю как спасителя всех народов и учреждением со стороны Августа единой и повсеместной императорской власти. До Августа люди жили в полиархии, в условиях множественности тиранов и демократий, но «когда явился Господь и Спаситель и в то же время Август, первый среди римлян, cтал повелителем народов – исчезла плюралистическая полиархия и на всей земле воцарился мир» (Eus. Ps. 71). Петерсон показывает, каким образом, по мысли Евсевия, процесс, который имел началом воцарение Августа, c Константином достигает своего апогея. «После поражения, нанесенного Лицинию Константином, была восстановлена политическая монархия – а вместе с ней была укреплена и божественная монархия […], единому царю на земле соответствует единый царь на небе и единый высший nomos и Logos» (Peterson 1. P. 50).
Петерсон прослеживает присутствие наследия Евсевия в писаниях Иоанна Златоуста, Пруденция, Амвросия и Иеронима вплоть до Орозия, для которого параллелизм между единством всемирной империи и явлением человеку единого Бога становится ключом к толкованию истории:
В тот же год Цезарь, Господом предназначенный на многие таинства, повелел провести перепись населения в отдельных провинциях империи. Тогда и Бог явил себя в образе человека, и он захотел стать человеком. В то время родился Христос, который тут же был зарегистрирован во время переписи населения Римской империи. […] Единого Бога, который в тот момент, когда он пожелал явить себя миру, установил это единство царства, все любят и страшатся: повсюду действуют те же законы, которым следует тот, кто подчиняется единому Богу. [Ibid. Р. 55]
Далее, совершая инверсионный скачок, Петерсон пытается показать, каким образом в период споров об арианстве теолого-политическая парадигма божественной монархии входит в противоречие с развитием тринитарной теологии. Провозглашение догмата о троице знаменует в этой перспективе закат «монотеизма как политической проблемы». Всего лишь на двух страницах политическая теология, реконструкции которой была посвящена вся книга, полностью разрушается.
Доктрина божественной монархии должна была потерпеть крах перед лицом тринитарного догмата, а толкование pax augusta – перед утверждением христианской эсхатологии. Таким образом, не только теологически упразднен монотеизм как политическая проблема, а христианская вера освобождена от своей связи с римской империей, но и осуществлен разрыв со всякой «политической теологией». Лишь на почве иудаизма и язычества может существовать нечто вроде «политической теологии». [P. 58–59.]
Примечание к этому отрывку, которым завершается книга (но можно было бы сказать, что весь трактат был написан в предвкушении этого примечания), гласит:
Понятие «политическая теология» было введено в литературу, насколько мне известно, Карлом Шмиттом, «Politische theologie», Mюнхен, 1922 год. Его тогдашние краткие соображения не были системно изложены. Здесь на конкретном примере мы попытались показать теологическую невозможность «политической теологии». [P. 81.]
ℵ Тезисы Евсевия, утверждающие соответствие между установлением единой светской власти, концом полиархии и торжеством единого истинного бога, обнаруживают ряд сходств с тезисом Негри – Хардта, согласно которому преодоление национальных Государств в единой глобальной капиталистической империи открывает путь к торжеству коммунизма. Однако если доктрина теологического парикмахера Константина имела явное тактическое значение и действовала не против, а в пользу заключения союза между всеобщей властью Константина и Церковью, тезис Негри – Хардта не может трактоваться cхожим образом и поэтому остается по меньшей мере загадочным.
1.6. В аргументации Петерсона ключевая стратегическая роль отведена одному положению каппадокийского теолога IV века Григория Назианзина. Согласно грубому компендиуму, в котором Петерсон передает его мысль, Григорий наделяет тринитарный догмат «предельной теологической глубиной», противопоставляя «монархии единой личности» «монархию триединого Бога»:
Христиане […] признают себя в монархии Бога; речь, безусловно, идет не о монархии единой личности в божестве, ибо она несет в себе зерно внутреннего раскола [Zwiespalt], но о монархии триединого Бога. Этот принцип единства не имеет аналога в человеческой природе. При таком положении дел монотеизм как политическая проблема оказывается теологически устранен. [Р. 57–58].
Любопытно, однако, что в своем запоздалом возражении Шмитт прибегает к тому же отрывку, который проанализировал Петерсон, – но для того, чтобы сделать во многом противоположные выводы. По мысли правоведа, Григорий Назианзин ввел своего рода теорию гражданской войны («подлинную теолого-политическую стасиологию») в сердце учения о триединстве (Schmitt 2. Р. 92): таким образом, можно сказать, что он все еще применял теолого-политическую парадигму, отсылающую к оппозиции друг/враг.
Впрочем, мысль о том, что разработка тринитарной теологии сама по себе представляет собой достаточное условие для устранения любой теолого-политической концепции божественной монархии, вовсе не является очевидной. Петерсон сам вспоминает в контексте разговора о Тертуллиане попытки христианских апологетов примирить тринитарную теологию с образом единого императора, который отправляет свою единую власть через наместников и министров. Но даже отрывок из речи Григория Назианзина, смысл которого Петерсон передает довольно небрежно, в качестве аргумента теряет свою убедительность, будучи представлен в своем изначальном контекстe.
Текст является частью корпуса из пяти речей, которые обычно определяют как «теологические», так как в совокупности они составляют настоящий трактат о Троице. Теология каппадокийцев, главным представителем которых наряду с Василием Кесарийским и Григорием Нисским является Григорий Назианзин, направлена на устранение остатков сопротивления ариан и сторонников учения о единосущии[26] и на разработку доктрины единой сущности в трех различных ипостасях, которая окончательно будет утверждена в 381 году на Константинопольском соборе. Таким образом, речь шла о том, чтобы рационально совместить осмысление божества в монархическом ключе, внутренне присущее понятию homoousia, и утверждение трех ипостасей (Отца, Сына и Святого Духа). Трудность и парадоксальность такого совмещения во всей своей полноте явствует из вышеупомянутого текста Григория, озаглавленного «Peri Yiou», «О Сыне». Именно в этом контексте следует толковать отрывок, процитированный Петерсоном:
Существуют три древнейших мнения относительно Бога: анархия, полиархия и монархия. С первыми двумя играют дети греков – и пусть играют себе в волю. Анархия, в самом деле, есть отсутствие порядка; полиархия есть гражданская война [stasiōdes], в этом смысле анархичная и беспорядочная. Обе они ведут к одному и тому же исходу – беспорядку, влекущему за собой распад. Беспорядок действительно предваряет распад. Мы же почитаем монархию; но не ту монархию, которую определяет одна-единственная личность, – ибо даже единственная личность, если она войдет в состояние гражданской войны [stasiazon pros heauto] с самой собой, порождает множественность, – но ту монархию, которая строится на равенстве природного достоинства, на единении ума, на тождестве движения, на стремлении ее элементов к единству и схождении в нем: все это недоступно природе сотворенного. Таким образом, даже если она различается численно, в сущности своей она неделима. Поэтому монада, которая изначально стремилась к диаде, обрела покой в триаде. Это и есть для нас Отец, Сын и Святой Дух; первый производитель [gennētōr] и источник [proboleus], безусловно, свободный от страстей, вне времени и бестелесный… [Greg. Naz. Or., XXIX, 2. Р. 694].
Очевидно, что замысел Григория состоит здесь в том, чтобы совместить метафизическую терминологию единства божественной сущности с более конкретным и почти телесным лексиконом, связанным с Троицей (особенно в том, что касается проблемы рождения Сына в контексте постулата о несотворенном характере божества, ставшей поводом для особенно жарких споров между арианами и монархианами). С этой целью он прибегает к метафорическому регистру, который сложно не определить, c позволения Петерсона, как политический (или теолого-политический): речь, в самом деле, идет о том, чтобы помыслить триединое сочетание ипостасей без того, чтобы вводить Бога в stasis, состояние междоусобной войны. Поэтому он, свободно пользуясь стоической терминологией, рассматривает три ипостаси не как сущности, но как образы бытия или отношения (pros ti, pōs echon) в единой сущности (Ibid. 16. P. 712). И тем не менее он настолько отчетливо осознает неадекватность этой своей попытки и недостаточность любого словесного выражения тайны, что завершает свою речь удивительным tour de force, представляя Сына посредством длинного перечня антиномически противопоставленных друг другу образов. Перед самым заключением Григорий все же дает ключ к прочтению всей речи: следуя сложившейся к его времени терминологической традиции, он утверждает, что правильно понять ее может лишь тот, кто научился различать в Боге «рассуждение о природе и рассуждение об экономике [tis men physeōs logos, tis de logos oikonomias]» (Ibid. 18. P. 714). Это означает, что и отрывок, процитированный Петерсоном, можно трактовать лишь в свете этого различия. Тем большее удивление вызывает то, что Петерсон никоим образом этого не упоминает.
ℵ То есть логос «экономики» у Григория имеет особую функцию, состоящую в избежании того, чтобы через троицу в фигуру Бога вводился стасиологический, то есть политический, разрыв. Поскольку монархия также может дать повод к гражданской войне, к внутреннему stasis, лишь сдвиг от политической рациональности к рациональности «экономической» (в смысле, который мы постараемся прояснить) может предотвратить эту опасность.
1.7. Изучение авторов, на которых Петерсон ранее ссылался в своей генеалогии теолого-политической парадигмы божественной монархии, свидетельствует о том, что как в текстуальном, так и в концептуальном плане «рассуждение об экономике» настолько тесно переплетено с рассуждением о монархии, что его отсутствие у Петерсона заставляет сделать вывод о своего рода сознательном вытеснении. Наглядным примером в этом отношении является Тертуллиан (но то же самое, как мы убедимся, можно было бы сказать об Иустине, Тациане, Ипполите, Иринее и проч.). Возьмем цитату из cочинения «Adversus Praxean», которой Петерсон открывает свой анализ попытки апологетов примирить традиционную доктрину божественной монархии и Троицу:
Мы поддерживаем монархию, говорят они, и даже латиняне произносят это слово так звучно и назидательно, что можно было бы подумать, будто они понимают суть монархии так же отчетливо, как они произносят ее [Tert. Adv. Prax, 3, 2].
Здесь цитата прерывается; но в тексте Тертуллиана мысль продолжается:
Латиняне стремятся повторять слово «монархия», но слово «экономика» не хотят понимать даже греки [sed monarchiam sonare student Latini, oikonomian intellegere nolunt etiam Graeci]. [Ibid]
А несколькими строками раньше Тертуллиан утверждает, что
простые люди – дабы не назвать их легкомысленными и невежественными […] – не разумеют, что необходимо верить в единого Бога, но верить в него вместе с его ойкономией [unicum quidem (deum) sed cum sua oeconomia]; и пугаются, ибо думают, что экономика и диспозиция троицы есть разделение единства. [Ibid. 3, 1]
Понимание тринитарного догмата, на котором Петерсон строит свое рассуждение, предполагает таким образом предварительное понимание «языка экономики». Лишь после того, как мы исследуем этот логос во всех его связях, мы сможем определить, какова истинная ставка в споре о политической теологии между двумя друзьями-противниками.
Порог
Отношения между этими двумя авторами, Шмиттом и Петерсоном, более запутанны и неоднозначны, чем они сами хотели бы показать. В первый раз Шмитт упоминает имя Петерсона в своем очерке 1927 года «Народный референдум и предложение о законе по народной инициативе», ссылаясь на его докторскую диссертацию, посвященную церемониалу в первые века христианской литургии, которую он расценивает как «фундаментальный труд». Но даже здесь то, что объединяет двух авторов, содержит, как мы увидим, зачатки их последующего расхождения.
В лаконичном, ничем не примечательном предисловии к книге о монотеизме 1935 года кратко излагаются истоки родства, связывающего двух авторов, а также моменты, послужившие отправной точкой в их разногласиях. Сведéние христианской веры к монотеизму представлено как результат Просвещения, против которого выступает Петерсон, напоминая, что «для христиан политическое действие может основываться исключительно на предпосылке веры в триединого Бога», которого следует полагать как за пределами иудаизма и язычества, так и за пределами монотеизма и политеизма. Далее в предисловии в более сдержанных тонах следует предварение финального тезиса книги о «теологической невозможности» христианской политической теологии: «Здесь на историческом примере будет показана внутренняя проблематичность политической теологии, ориентирующейся на монотеизм» (Peterson 1. Р. 24).
Гораздо более значимым, чем критика шмиттианской парадигмы, здесь видится изложение тезиса, согласно которому тринитарная доктрина представляет собой единственно возможное основание христианской политики. Оба автора хотят основать политику на христианской вере; но если для Шмитта политическая теология учреждает политику в светском смысле, то «политическим действием», находящимся в центре внимания Петерсона, является, как мы увидим, литургия (восстановленная в своем этимологическом значении как общественная практика).
Положение о том, что настоящая христианская политика есть литургия, что тринитарная доктрина лежит в основе политики, определяемой как участие в культе прославления ангелов и святых, может вызвать удивление. Тем не менее, именно здесь проходит водораздел, пролегающий между шмиттианской «политической теологией» и христианским «политическим действием» Петерсона. По Шмитту, политическая теология учреждает политику как таковую, а также светскую силу христианской империи, которая действует как катехон; напротив, политика как литургическое действие у Петерсона исключает (обращение к Августину, «который напоминает о себе в момент всякого духовного или политического перелома на Западе», служит этому подтверждением) любую возможность отождествления с земным градом: последний есть не что иное, как культовое предвосхищение эсхатологической славы. Действие светских сил в этом смысле для теолога эсхатологически абсолютно нерелевантно: в качестве катехона действует не политическая власть, а лишь отказ евреев принять христианство. Это означает, что для Петерсона (в этом его взгляды совпадают с позицией значительной части Церкви) исторические события, свидетелем которых он был – мировые войны, тоталитаризм, технологическая революция, изобретение атомной бомбы, – не являются теологически значимыми. Все, кроме одного – истребления евреев.
Если эсхатологическое наступление Царства станет конкретным и реальным, лишь когда евреи примут христианство, то уничтожение евреев не может не иметь значения для судьбы Церкви. Петерсон, по всей вероятности, находился в Риме, когда 16 октября 1943 года с молчаливого согласия Пия XII в концентрационные лагеря было депортировано около тысячи римских евреев. Правомерен вопрос: отдавал ли он себе в этот момент отчет об ужасающей двусмысленности теологического тезиса, который связывал как существование, так и свершение Церкви с выживанием или исчезновением евреев? Возможно, эта двусмысленность может быть преодолена лишь в том случае, если катехон – власть, которая, откладывая конец истории, открывает пространство для светской политики, – будет восстановлен в его изначальной связи с божественной ойкономией и с ее Славой.
2. Тайна экономики
2.1. Ойкономия означает «управление домом». В аристотелевском (или псевдоаристотелевском) трактате по экономике говорится о том, что technē oikonomikē отличается от политики так же, как дом (oikia) отличается от города (polis). Это различие вновь утверждается в «Политике», где политик и царь, которые принадлежат сфере полиса, качественно противопоставлены oikonomos и despotēs, которые представляют сферу дома и семьи. Даже у Ксенофонта (у которого оппозиция дома и города гораздо менее четко очерчена, чем у Аристотеля) ergon экономики есть «хорошее управление домом [eu oikein ton… oikon]» (Xen. Oec., I, 2). Не следует, однако, забывать, что oikos не является ни домом нуклеарной семьи в современном понимании слова, ни расширенной семьей: это сложный организм, в котором переплетаются разнородные связи, которые Аристотель (Pol., 1253b) разделяет на три группы: деспотические отношения хозяина и рабов (которые обычно включают в себя управление сельскохозяйственным предприятием крупных размеров), «отеческие» отношения отца и детей, «брачные» отношения мужа и жены. Эти «экономические» отношения (различия между которыми выделяет Аристотель: ibid., 1259a – b) связывает парадигма, которую можно было бы определить как относящуюся к сфере «руководства», а не познания: то есть речь идет о деятельности, которая не связана системой норм и не образует собой науки в собственном смысле слова («Термин „глава семьи“ [despotēs], – пишет Аристотель, – не указывает на знание [epistēmēn], но обозначает определенный способ бытия: ibid., 1255b). Эта деятельность скорее предполагает принятие решений и распоряжений, которые служат ответом на конкретные, всякий раз разные проблемы, касающиеся функционального порядка (taxis) различных частей ойкоса. В одном отрывке Ксенофонта дается точное определение этой „управленческой“[27] природы ойкономии: она связана не только с потребностью в предметах и их использованием, но прежде всего с их упорядоченным расположением (peri… taxeōs skeuōn: Xen., Oec., 8, 23; термин skeuos означает „орудие, инструмент, служащий для определенной деятельности“»). Дом в этой перспективе сначала уподобляется войску, а затем кораблю:
Превосходный, в высшей степени аккуратный порядок видел я однажды при осмотре большого финикийского судна: масса корабельных снастей, положенных каждая отдельно, увидел я, находилась в очень маленьком вместилище. […] И все предметы, как я заметил, лежат так, что не мешают один другому, нет надобности их разыскивать, все они в готовом для употребления виде, нетрудно их распаковать, так что не нужно тратить времени, когда вещь наскоро понадобится. А помощник [diakonon] кормчего […], оказалось, так знает каждое место, что даже заглазно может сказать, где что лежит и сколько чего […]. Я видел также, – продолжал Исхомах, – как он в свободное время проверял все, что бывает нужно в пути[28]. [Ibid. 8, 11–15]
Эта практика упорядоченного руководства определяется Ксенофонтом как «проверка»[29] (episkepsis, откуда episkopos, «заведующий», а позднее – vescovo[30]):
Я удивился такой проверке его и спросил, что он делает. «Проверяю [episcopō]», – отвечал он. [Ibid., 8, 15].
Так, хорошо устроенный дом[31] сравнивается у Ксенофонта с танцем:
Все снасти напоминают хор вещей, да и пространство в середине между ними кажется красивым, потому что каждая вещь лежит вне его. Подобным образом не только хор, в танце образующий круг, сам представляет красивое зрелище, но и пространство внутри его кажется красивым и чистым. [Ibid. 8, 21]
Ойкономия выступает здесь как функциональная организация, как управленческая деятельность, которая подчиняется правилам, связанным исключительно с упорядоченным функционированием дома (или конкретного предприятия).
Именно эта «руководственная» парадигма определяет семантическую сферу термина ойкономия (а также глагола oikomein и существительного oikonomos) и обусловливает прогрессивное аналогическое расширение этой сферы за ее изначальные пределы. Так, уже в «Corpus Hippocraticum» (Epid., 6, 2, 24) hē peri ton noseonta oikonomiē обозначает совокупность практик и предписаний, которые врач должен произвести в отношении больного. В области философии, когда стоикам понадобится выразить идею силы, которая изнутри все упорядочивает и всем управляет, они прибегнут именно к «экономической» метафоре (tēs tōn holōn oikonomias: Chrysip., fr. 937, SVF, II, 269; hē physis epi tōn phytōn kai epi tōn zōōn… oikonomei: Chrysip., fr. 178, SVF, III, 43). В этом широком смысле «управления, заведования чем-либо» глагол oikonomein обретает значение «удовлетворять жизненные потребности, кормить» (так, в «Деяниях Фомы» выражение «ваш Отец небесный их кормит» из притчи Матфея о небесных птицах (Мф. 6:26) передано с помощью парафразы ho theos oikonomei auta, где глагол по значению соответствует итальянскому «governare le bestie»[32]).
В одном месте «Размышлений» Марка Аврелия, написание которых совпало по времени с деятельностью первых христианских апологетов, этот термин обретает уже более отчетливое звучание в значении, связанном с руководством. Рассуждая о неуместности поспешных суждений о чужих поступках, он пишет:
Того, погрешают ли они, ты не постиг, потому что многое делается по некоему раскладу[33] [kat' oikonomian ginetai]. И вообще многое надо узнать, прежде чем как-либо объявить, будто ты постиг чужое действие [11, 18, 3].
Здесь, в соответствии с семантической модуляцией, которая станет неотделимой от этого термина, ойкономия означает практику и знание, не имеющие эпистемического характера[34]: даже если эта практика и знание сами по себе не согласуются с идеей блага, они должны оцениваться исключительно в отношении их целесообразности.
Особый интерес вызывает техническое использование термина ойкономия в области риторики для обозначения упорядоченного расположения материала в речи или трактате («Hermagoras iudicium partitionem ordinem quaeque sunt elocutionis subicit oeconomiae, quae Graece appellata ex cura rerum domesticarum et hic per abusionem posita nomine Latino caret»[35]: Quint., 3, 3, 9; Цицерон переводит этот термин как dispositio, то есть «rerum inventarum in ordinem distributio»[36]: Inv., I, 9). И все же экономика есть нечто большее, чем простое расположение, ибо помимо последовательного изложения тем (taxis) она предполагает выбор (diairesis) и анализ (exergasia) аргументов. В этом плане термин ойкономия появляется у Псевдо-Лонгина именно в противопоставлении понятию «возвышенное»:
Процессуальный аспект замысла, способ упорядочения фактов и их ойкономия не проявляются в одном или нескольких местах текста: мы видим, как они постепенно проступают из всей структуры сочинения, тогда как возвышенное, прорываясь в должный момент, взрывает эту цельность. [1, 4]
Однако, как явствует из наблюдения Квинтилиана («oeconomiae, quae Graece appellata ex cura rerum domesticarum et hic per abusionem posita»[37]), при этом прогрессивном аналогическом расширении семантической сферы понятия ойкономии так и не было утрачено осознание его изначального значения, связанного с областью «домашнего». Показателен в этом отношении отрывок из Диодора Сикульского, в котором одно и то же семантическое ядро активизируется и в риторическом смысле, и в значении «управления домом»:
Когда историки пишут свои труды, им прежде всего следовало бы обращать внимание на расположение согласно частям [tēs kata meros oikonomias]. Это упорядочение не только служит важным подспорьем в делах частной жизни [en tois idiōtikois biois], но и является полезным при написании исторических трудов. [5, 1, 1.]
Именно на этом основании в эру христианства термин ойкономия переносится в область теологии, где, согласно общему мнению, он обретает значение «божественного плана спасения» (в частности, в том, что касается воплощения Христа). Поскольку, как мы увидели, основательное лексическое исследование еще ждет своего часа, гипотеза о таком теологическом значении термина ойкономия – которая, как правило, признается несомненной в своей достоверности – в первую очередь должна быть подвержена проверке.
ℵ Для понимания исторической семантики термина ойкономия важно не упускать из виду, что с точки зрения лингвистики то, с чем мы имеем дело, является не столько изменением смысла (Sinn) слова, сколько прогрессивным аналогическим расширением его значения (Bedeutung). Хотя в словарях в подобных случаях обычно различаются и перечисляются один за другим разные значения термина, лингвисты прекрасно знают, что на самом деле семантическое ядро (der Sinn) остается в определенных границах и до определенного момента неизменнным, и именно это постоянство дает возможность расширения в сторону новых и различных значений. С термином ойкономия происходит нечто подобное тому, что произошло в наши дни с термином «предприятие»[38], который с более или менее осознанного согласия заинтересованных сторон расширил сферу своего значения вплоть до распространения на такие области, как университет, который традиционно не имеет к этой сфере никакого отношения.
Когда в отношении теологического употребления этого термина ученые (как поступает Муант, говоря об Ипполите, – Moingt. P. 903, – или же Маркус – Marcus I. P. 99) ссылаются на так называемое «традиционное» значение ойкономии в языке христианства (то есть ойкономия как «божественный промысел»), они лишь проецируют в область смысла то, что попросту является расширением значения до области теологии. Даже Рихтер, все же отрицающий существование единого теологического значения этого термина, которое якобы легко усмотреть в разных контекстах (Richter. Р. 2), кажется, не проводит должного различия между смыслом и значением. На самом деле, у этого термина не существует никакого «теологического» смысла: есть лишь сдвиг его значения в область теологии, который постепенно стал ошибочно истолковываться и восприниматься как новое значение.
На последующих страницах мы будем придерживаться принципа, согласно которому предположение о теологическом смысле этого термина не может быть принято за некую данность, но всякий раз должно подвергаться строгому пересмотру.
ℵ Как известно, у Платона разграничение между oikos и polis не обретает, как это происходит у Аристотеля, характера оппозиции. В этом плане Аристотель может критиковать платоновскую концепцию полиса и ставить своему учителю в укор то, что тот излишне настаивал на унитарном характере города, рискуя превратить его таким образом в домашнее хозяйство:
Очевидно, что, если процесс унификации выйдет за определенные границы, больше не будет никакого города. Город по своей природе есть нечто многообразное, и если он станет слишком единообразным, то он будет скорее походить на дом [oikia], чем на город [Pol., 1261a].
2.2. Распространено мнение (Gass. Р. 469; Moingt. Р. 903), что Павел первым наделил термин ойкономия теологическим значением. Но внимательное прочтение соответствующих выдержек не говорит в пользу этого предположения. Возьмем Первое послание к Коринфянам 9:16–17:
Если я благовествую [euangelizōmai], то нечем мне хвалиться: это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую! Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду; а если недобровольно, то осуществляю только вверенную мне ойкономию[39] [oikonomian pepisteumai].
Смысл «ойкономии» в данном случае прозрачен, а конструкция с использованием pisteuō не оставляет никаких сомнений: ойкономия есть поручение (как в Септуагинте Ис. 22:21), данное Богом Павлу, который в этой связи действует не свободно, как в negotiorum gestio[40], а согласно обязательству, основанному на доверии (pistis) в качестве apostolos («посланника») и oikonomos («уполномоченного управляющего»). Ойкономия в этом случае есть нечто такое, что вверяется: значит, это есть деятельность и поручение, а не «план спасения», исходящий из божественного разума или воли. В том же смысле следует понимать и отрывок из Первого послания к Тимофею 1:3–4:
Я просил тебя пребыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божья ойкономия[41] в вере [oikonomian theou tēn en pistei, деятельность управления, которая была мне вверена Богом].
Но это значение остается неизменным даже в тех отрывках, где соседство ойкономии с термином mystērion дало комментаторам повод усмотреть в нем теологический смысл, в котором сам текст не выказывает никакой необходимости. Так, в Послании к Колоссянам 1:24–25 говорится следующее:
Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых по домостроительству Божиему[42], вверенному мне [dotheisan], чтобы исполнить слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его…
Было замечено, что хотя понятие ойкономии здесь, как и в Первом послании к Коринфянам, несет смысл «основанного на доверии поручения»[43] («anvertrauete Amt»), у апостола оно будто бы обретает иной, более специфический смысл «божественного решения о спасении» (Gass. Р. 470). Но в тексте нет ничего такого, что позволяло бы перенести на ойкономию значение, которое может быть присуще лишь понятию mystērion. И снова конструкция с didōmi не оставляет двусмысленности: Павлу было дано поручение возвестить о пришествии Мессии, и это благовещение явилось исполнением слова Божьего, чей обет спасения, до сих пор сокрытый, теперь открылся человеческому знанию. Ничто не дает повод связывать ойкономию с mystērion: последний термин с грамматической точки зрения выступает в качестве приложения к logon tou theou, а не к oikonomian.







