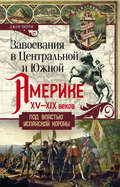Джон Перри
Эра великих географических открытий. История европейских морских экспедиций к неизведанным континентам в XV—XVII веках
«География» Птолемея оказала сильное воздействие на Европу гораздо позже и совершенно иным образом. Любопытно, что такая знаменитая книга так долго оставалась неизвестной. Талантливый мавр из Сеуты по имени ал-Идриси, который на протяжении многих лет работал при дворе Роже-ра II Сицилийского, очень часто ссылался на Птолемея при составлении своей собственной «Географии» – знаменитой «Книги Рожера». Но влияние Идриси было меньше, чем заслуживали достоинства его книги, и ни один европейский ученый не попытался разузнать об источниках, которыми тот пользовался. «География» Птолемея сначала была переведена на латынь не с арабской рукописи, а с греческой, привезенной из Константинополя. Перевод делал Якоб Ангелус – ученик прославленного Кризолораса; он был закончен приблизительно в 1406 г. или чуть позже. Его появление стало одним из самых важных событий для развития географических знаний европейцев.
Главная часть текста Птолемея представляет собой утомительный географический справочник мест, расположенных по регионам, с широтой и долготой каждого места. Птолемей разделил свою сферу на знакомые 360° широты и долготы и из своего расчета окружности Земли вычислил длину одного градуса на экваторе или на меридиане. Он предлагает метод расчета длины градуса долготы для любой данной широты и объясняет, как построить «сетку» параллелей и меридианов для карт, нарисованных в конической проекции. Идея использовать координаты – широту и долготу для определения положения точек на земной поверхности – не была так уж нова для средневековой Европы. Астрологические эфемериды строились относительно положений в зодиаке, а вычисленные расхождения в долготе обязательно использовались для «коррекции» этих таблиц для мест, отличных от тех, для которых они составлялись. Роджер Бэкон даже пытался составить реальную карту на основе координат. Карта, которую он отослал папе Клементу IV, потеряна; и Бэкон, опередивший в этом, да и не только в этом, свое время, не оказал никакого влияния на картографию и не вдохновил никаких подражателей. Использование Птолемеем координат как основы и системы отсчета при построении карт возобновилось в XV в. как новое революционное изобретение. Вторая часть «Географии» представляет собой собрание карт и включает карту мира и отдельных регионов. Сам ли Птолемей чертил карты для сопровождения своего текста – этот вопрос вызывает сомнения. Он подразумевал, что любой разумный читатель, используя информацию, содержащуюся в его тексте, может самостоятельно подготовить для себя карты. А карты, которые появились в Европе в XV в., – кто бы ни был их автором – были основаны на его координатах и вычерчены по его плану. На них в добавление к подробно и достаточно точно нарисованному, хотя и растянутому, Средиземному морю изображены континенты: Европа, Азия и Африка. Африка – широкая и усеченная, Индия – еще более усеченная, Цейлон – сильно преувеличен в размерах. К востоку от Индии нарисован еще один полуостров больших размеров – Золотой полуостров (так называли Малайский полуостров древние греческие и римские географы, в частности Клавдий Птолемей. – Пер.);
еще дальше не восток – большое морское пространство – Великий залив; и, наконец, у самой дальней восточной оконечности на карте – страна Китай. Во внутренних районах Азии есть города и речные системы, которые нелегко соотнести с какими-то реальными местами. Внутренние районы Африки изображены с некоторым намеком на детали: в Африке есть не только Лунные горы, но и озеро, из которого вытекает Нил, и другие реки; но Южная Африка присоединена к Китаю, делая Индийский океан почти полностью окруженным сушей; а все вокруг на восток и на юг – суша, Terra Incognita (лат. неизведанная земля).
Птолемей был компилятором, не автором. Его представления об измерении Земли исходили от Марина Тирского, который получил их от Посидония; концепция сферы, поделенной на градусы угловых расстояний, и представления о координатах – широте и долготе – были взяты у Гиппарха; огромный каталог названий мест был составлен из различных Periploi — навигационных указаний для Средиземного моря у Марина и, возможно, Страбона, хотя Птолемей приводит мало подробностей описаний из Страбона. Компиляция включает отбор, и авторитеты, которыми пользовался Птолемей, не всегда являются самыми лучшими образцами классических представлений по этому предмету. Например, переняв систему измерения Земли у Марина, он навсегда сохранил и популяризовал недооценку размера Земли и, следовательно, величину градуса: 500 стадий, или 62½ римской мили. Эта цифра была меньше реальной приблизительно на четверть. Несколькими веками раньше Эратосфен благодаря умелому и очень удачному расчету получил гораздо более точную цифру. Более того, Птолемей допускал – и в этом он отличался от Марина, – что «известный» современный ему мир охватывает 180°; он рассчитал это, опираясь на самую дальнюю открытую оконечность суши на Западе – Канарские, или Счастливые, острова, и соответственно продлил Азиатский континент на восток. Эти ошибки вместе с ошибочным окружением Индийского океана со всех сторон сушей, двумя полуостровами-близнецами и заливом в Юго-Восточной Азии, а также ошибочным расположением рек в Африке должны были иметь важные последствия.
Разумеется, у Птолемея не было ни компаса, ни практичных средств для измерения долготы. Число известных ему достоверно измеренных широт было, по его собственному признанию, невелико. Он мог устанавливать положение малоизвестных мест только путем нанесения расстояния до этих мест, взятого из соответствующих сообщений, вдоль приблизительно указанного направления от более известных мест и рассчитывая расхождения в широте и долготе посредством плоских прямоугольных – не сферических – треугольников. Как следствие, положение, которое он определяет для многих мест за пределами хорошо известного Средиземноморского региона, катастрофически неточное. К тому же такой текст, как у Птолемея, с длинными списками названий и цифр особенно уязвим к искажениям при переписывании. Можно предположить, что спустя века к собственным ошибкам Птолемея добавились многочисленные ошибки копировщиков.
Европейские ученые начала XV в., однако, не имели надежных критериев для критики Птолемея точно так же, как их не было и для критики Марко Поло. Краткость Птолемея удовлетворяла их требования и их собственные литературные привычки, и многое из того, что он писал, было для них новым, волнующим и неопровержимым. Карты, основанные на его информации, несмотря на свои многочисленные ошибки, были во много раз лучше средневековых mappae-mundi и охватывали территории, обычно не входившие в портуланы. Использование им координат было главным достижением, которое – хотя оно и не было понятно морякам – не могли игнорировать ученые. Мы видели, что кардинал Пьер д’Альи написал свой главный труд Imago Mundi приблизительно в 1410 г., до того как он увидел латинский перевод Птолемея. В 1413 г., после повторного обретения «Географии», д’Альи написал вторую книгу – Compendium Cosmographiae, в которой он суммировал, хотя и в искаженной форме, взгляды Птолемея. В чем-то это был шаг назад, так как в Imago Mundi д’Альи описал внутреннюю часть Африки и не окруженный со всех сторон сушей Индийский океан; в Compendium он подчинился Птолемею. Последовало августейшее признание. Historia rerum ubique gestarum папы римского Пия II – этого ученого и образованного гуманиста – в значительной степени представляет собой дайджест Птолемея, хотя и не лишенный критики, так как папа придерживался той точки зрения, что можно проплыть вокруг Африки. У Колумба был печатный экземпляр этой книги, из которой он и почерпнул имевшиеся у него знания о «Географии» Птолемея. С момента ее первого появления латинский перевод «Географии» был принят среди ученых с огромным – хоть и не лишенным критики – уважением. Были сделаны сотни рукописных копий. Первое из многочисленных печатных изданий, которые обеспечили идеям Птолемея все более широкое распространение, появилось в Виченце в 1475 г., самое первое издание, которое включало карты, – в Болонье в 1477 г., а гораздо лучшее издание – в Риме в 1478 г.
Растущая неудовлетворенность устаревшими картами Птолемея сначала никак не уменьшила популярность его текста, так как усовершенствованные карты, включавшие результаты реальных плаваний, стали прилагаться к нему начиная с 1482 г. Великолепное Страсбургское издание 1513 г. содержит сорок семь карт, одиннадцать из которых – новые; это первый усовершенствованный атлас, который оставался самым лучшим на протяжении многих лет – фактически до 1579 г., когда Ортелий установил новые стандарты благодаря своей великой книге Theatrum Orbis Terrarum. Издания книги Птолемея – некоторые исключительной красоты и качества – продолжали появляться в Риме, Венеции и Базеле. Из серьезного практического применения они были вытеснены ввиду развития голландской школы географии и картографии только в конце XVI в. (но, разумеется, не лишились интереса историков). Так что на протяжении почти двухсот лет Птолемей был ведущим источником теоретических географических знаний. Его идеи в географии и астрономии были и стимулирующими, и пленяющими, а прогресс знаний в обеих областях требовал, чтобы его теориями сначала овладели, а затем их вытеснили. Главной задачей разведывательных исследований было поставить под сомнение веру в обязательное превосходство знаний древних. Не только в специфической области географии, но и почти во всех отраслях науки в изучаемый нами период наступал момент, когда Западная Европа, если можно так выразиться, наконец приблизилась к Древнему миру, а немногие храбрецы, понимавшие и питавшие уважение к тому, чему учили древние, тем не менее были готовы оспорить их выводы. Так что в процессе своих разведывательных исследований мореплаватели поспешно отплывали в неизведанный мир и, обнаружив, что он больше и разнообразнее, чем они ожидали, начинали сначала сомневаться в написанном Птолемеем, затем доказывать его неправоту во многих конкретных случаях и, наконец, рисовать на картах и глобусах новую, более убедительную картину. Аналогичным образом, но независимым путем Коперник и его последователи, изучавшие Птолемея и наблюдавшие за небом, замечали определенные небесные явления, которые труды Птолемея не могли объяснить должным образом. Они начали сначала робко и осторожно ставить под вопрос, а затем разрушать геоцентрическую систему мира Аристотеля— Птолемея и теоретически допускать существование вместо нее гелиоцентрической системы. В обоих случаях прогресс от почтительного принятия до сомнения, от сомнения к отказу и замене длился много лет. В конечном счете, во всех отраслях науки разведывательные исследования произвели переворот.
Но как же начались разведывательные исследования? Информация о мире за пределами Европы, доступная для европейцев в первой половине XV в., была, как мы уже видели, дезориентирующей в большей или меньшей степени. Она была либо чисто теоретической и схоластической, игнорирующей практический опыт, либо устаревшей или просто нереальной, состоящей из мифов и догадок. Специальные знания о средствах коммуникации с африканским или азиатским побережьями за пределами Средиземного моря – единственного используемого пути, находившегося во власти турок (на их условиях), – были даже еще более недостаточными. Политическая ситуация, на первый взгляд, едва ли могла быть менее благоприятной. Самая свежая полученная информация из новых открытых древних источников была интересной и ценной, но в целом очень обескураживающей – например, окруженный сушей Индийский океан у Птолемея. Какие другие факторы сработали, чтобы в эти неблагоприятные пятьдесят лет началось движение по исследованию всего мира?
Первые шаги к экспансии были поистине скромными: поспешный захват португальскими войсками крепости в Марокко, осторожное расширение рыболовства и чуть позже торговли вдоль атлантического побережья Северной Африки; простое расселение виноградарей и крестьян, выращивающих сахарный тростник, лесорубов и овцеводов на некоторых островах Восточной Атлантики. В этих предприятиях начала и середины XV в. не было ничего, чтобы предположить широкую мировую экспансию. Во второй половине XV в., однако, новые успехи в мореходстве и картографии, сделанные благодаря новой комбинации теоретических знаний и опыта навигации, впервые дали возможность исследователям измерять и фиксировать местоположение (по крайней мере, широту) точки на неизвестном побережье и даже – при благоприятных условиях – корабля в море. Новые методы проектирования кораблей, соединившие в себе европейские и восточные традиции, дали возможность морякам не только совершать долгие первопроходческие путешествия, но и повторять их и тем самым устанавливать регулярную связь с новыми открытыми землями. Развитие теории и практики артиллерийского дела и особенно морской артиллерии дало европейским исследователям огромное преимущество перед жителями даже самых цивилизованных стран, к которым они ходили по морю, и возможность иногда защищать себя по прибытии от численно превосходящих сил, а также побуждало их основывать фактории даже в местах, где им были явно не рады. Это важное техническое превосходство в кораблях и пушечном вооружении обеспечивало непрерывное продолжение разведывательных походов и стабильность их результатов. К концу изучаемого нами периода европейские исследователи не только сделали приблизительные наброски очертаний большинства мировых континентов, но и основали на каждом континенте, за исключением Австралии и Антарктиды, европейские представительства – фактории, поселения или поместья в зависимости от характера местности; они были небольшими, разрозненными и разнообразными, но постоянными. Делая это, они не только получали помощь от естествоиспытателей и стимулировали дальнейшее развитие естествознания, хоть и неуверенно и косвенно сначала, как мы уже видели. Они также привлекали внимание к новым, имеющим большие перспективы проблемам в общественных науках, экономике, антропологии и искусстве управления. В этих областях тоже осторожно, но повсеместно шли разведывательные исследования, широко, но неровно происходило приращение знаний с важными последствиями для Европы и мира в целом. Во всех отраслях науки по мере развития разведывательных исследований и изменения их характера на более уверенный, по мере того как картина мира для европейцев становилась все полнее и подробнее, идея о непрерывно расширяющихся знаниях становилась все более привычной, а связи между наукой и практической жизнью – более тесными. Особое отношение к знаниям, высокая готовность применять науку непосредственно на практике в конечном счете стали главными чертами, которые отличают западную цивилизацию – изначально цивилизацию Европы – от других великих цивилизованных обществ. Беспрецедентная власть, которую дали знания, в конце концов привели Европу от разведывательных исследовательских походов к завоеванию всего мира и таким образом создали вчерашний мир, большей частью которого управляли европейцы, и мир сегодняшний, почти целиком принявший европейские технологии и методы управления пусть даже лишь для того, чтобы избежать реальной власти европейцев.
Часть первая
Условия для открытий
Глава 1
Отношение и побудительные мотивы
Среди многочисленных сложных мотивов, которые побудили европейцев, и особенно народы Иберийского полуострова, отважиться на путешествие за моря в XV и XVI вв., два были очевидными, всеобщими и признаваемыми: жажда наживы и религиозный фанатизм. Многие великие исследователи и завоеватели недвусмысленно провозглашали эти две цели. По прибытии в Калькутту Васко да Гама объяснил индийцам, которые были вынуждены его принять, что он приехал в поисках христиан и пряностей. Берналь Диас – самый откровенный из конкистадоров – писал, что он и ему подобные отправились в Индии, «чтобы служить Господу и его величеству, нести просвещение тем, кто пребывает во тьме, и обогатиться, как того желают все люди».
Земля и труд тех, кто ее обрабатывал, были главными источниками богатства. Самый быстрый, очевидный и привлекательный с точки зрения общества способ разбогатеть – захватить и удерживать феодальное владение – землю, уже занятую усердными и покорными крестьянами. Испанским рыцарям и особенно людям знатного происхождения давно уже был привычен такой способ, который предоставляла успешная война с мусульманскими государствами в Испании. В большинстве уголков Европы во время постоянных массовых волнений в XIV и начале XV в. такое приобретение земли часто осуществлялось путем частной войны. В конце XV в., однако, правители снова стали достаточно сильными, чтобы препятствовать ведению войн частными лицами; и даже в Испании территория, все еще открытая для захвата законной сил ой оружия, была сильно ограничена и находилась под защитой своих феодальных отношений с королевством Кастилия. Другие возможности были маловероятны, если только правители Гранады не объявили бы о прекращении своей вассальной зависимости и тем самым не дали бы кастильцам повод начать официальный последний завоевательный (освободительный) поход. И даже если бы эта война оказалась успешной, короли и крупные дворяне получили бы львиную долю добычи. Для менее знатных людей наилучший шанс добыть землю силой оружия сохранялся лишь за пределами Европы.
Вторая возможность состояла в том, чтобы захватить и эксплуатировать новые земли, либо незанятые, либо занятые «ни на что не годными» или непокорными народами, которые можно истребить или изгнать. Новые земли могли колонизировать предприимчивые фермеры или мелкие владельцы стад птицы или скота. Такие люди часто хотели быть сами себе хозяевами и избегать все возрастающих досаждающих обязательств, накладываемых феодальным землевладением и корпоративными привилегиями скотоводов, перегоняющих скот с зимних пастбищ на летние, особенно в Кастилии. Это была менее привлекательная, но все еще многообещающая альтернатива, которую также можно было рассматривать за пределами Европы. В XV в. таким образом были заняты остров Мадейра и Канарские острова – соответственно португальскими и испанскими поселенцами – простыми людьми, которые взяли в долг деньги у ссудодателей знатного происхождения в обмен на сравнительно легкие обязательства. Эти поселения были экономически успешными. Они приносили доходы королям и аристократам, особенно принцу Энрике Португальскому, которые их финансировали. Так возникла мода уезжать на острова, которая длилась более двухсот лет. Слухи о других островах и материках, которые можно открыть в Атлантике, подогревали интерес к заморским приключениям такого рода.
Менее гарантированным и в большинстве мест менее привлекательным с общественной точки зрения способом разбогатеть было вложение денег в торговлю, особенно с далекими странами. Самым большим успехом пользовалась торговля очень ценными товарами в небольшом количестве, большая часть которых была привезена либо с Востока (пряности, шелк, слоновая кость, драгоценные камни и тому подобное), либо имела средиземноморское происхождение, но пользовалась спросом на Востоке (кораллы и некоторые высококачественные ткани). Такая торговля почти целиком проходила по Средиземному морю, и ее вели главным образом купцы из приморских городов Италии, особенно венецианцы и генуэзцы. Некоторые народы с побережья Атлантики уже с завистью глядели на эту приносящую богатства торговлю. У Португалии, в частности, имелись длинное атлантическое побережье, хорошие гавани, немалое количество рыбаков и мореходов среди населения и класс торговцев, почти полностью освобожденных от феодального вмешательства. Португальские корабелы были умелыми работниками и жаждали перейти от прибрежной атлантической торговли вином, рыбой и солью к более широким и прибыльным, но рискованным предприятиям с золотом, пряностями и сахаром, а также работорговли. У них было мало надежд прорваться в средиземноморскую торговлю, охраняемую итальянскими монополистами, обладавшими грозным морским флотом, непревзойденными знаниями о Востоке, полученными от многих поколений купцов и путешественников, и усердными дипломатами, сумевшими проникнуть за древнюю разделительную черту между христианским миром и мусульманским. Поэтому у торговцев-капиталистов в Португалии и Западной Испании были сильные мотивы для того, чтобы по морю искать альтернативные источники золота, слоновой кости и перца; и согласно информации, циркулирующей в Марокко, такие источники существовали. Весьма вероятно, что в плаваниях к берегам Западной Африки португальцев подгоняла информация о золотых приисках королевств Гвинеи, полученная благодаря завоеванию Сеуты и неизвестная в остальной Европе. По крайней мере, такие плавания быстро продемонстрировали, что плавать в тропиках легче и не так опасно, как думали пессимисты. И если, как намекали некоторые произведения о путешествиях того времени, по морю добраться до источников шелка и пряностей на Востоке, это даст еще более мощный стимул к морским экспедициям-исследованиям.
Торговля пряностями обманула ожидания; но оставался один товар, в котором португальцы хорошо разбирались и который всегда был главным в торговле во всех уголках Европы, – рыба. Еще задолго до того, как Колумб достиг берегов Америки или стал возможен морской путь в Индию, спрос на торговлю соленой рыбой поощрял португальских рыбаков, занимавшихся ловлей рыбы в глубоких водах, уходить все дальше в Атлантический океан. Рыбная ловля приводила их в воды Исландии, расположенной на пути в Америку. Так что рыболовство было одной из главных причин их интереса к северо-западному побережью Африки.
Драгоценные товары – самые ходовые – можно было достать не только путем торговли, но и более прямыми способами: грабежом, если эти товары находятся в собственности людей, чья религия или ее отсутствие можно сделать оправданием нападения на них; или прямой эксплуатацией, если источник снабжения обнаружен либо на необитаемой территории, либо обитаемой лишь невежественными дикарями. И здесь тоже слухи и будоражащая воображение литература о путешествиях наводили на мысль о возможности существования доселе неизведанных рудников, золотоносных рек или жемчужных промыслов. Случайные непредвиденные сокровища тоже время от времени встречались на пути отважных моряков: неожиданно найденный на пустынном пляже кусок серой амбры или мощный бивень нарвала.
Все эти экономические соображения, эти мечты о быстрой рискованной наживе во много раз усиливал религиозный фанатизм. Первооткрыватели и конкистадоры были по большей части набожными людьми, религиозное рвение которых принимало формы одновременно общепринятые и практические. Из всех возможных форм религиозного фанатизма моряков, а также правителей и инвесторов, которые их посылали в экспедиции, особенно привлекали две. Одной было желание обращать в христианство – взывать к умам и сердцам отдельных неверующих путем проповедей, увещевания или силой примера, любыми средствами убеждения, лишенными силы или угроз, и таким образом приводить неверующих в общину верующих. Другой формой было незамысловатое желание обеспечить с помощью военных и политических средств безопасность и независимость своей собственной религиозной общины, а еще лучше – ее главенство над другими, защитить верующего от вмешательств и нападений, убить, унизить или подчинить неверующего. Разумеется, эти две возможные линии поведения можно было смешивать или комбинировать. Например, можно было подчинить себе неверующих, чтобы обратить их в христиан. Однако в общем и целом в головах людей различались две формы выражения религиозного рвения на деле. Первая требовала больших усилий с малой вероятностью близкой материальной поживы. Вторая, имевшая политико-военное выражение, оправдывала широкомасштабные завоевания и грабежи. Это был аспект религиозного рвения, давно знакомый в Европе, так как на протяжении нескольких веков он был одним из главных побудительных мотивов Крестовых походов.
В XV в. путешествия, полные открытий, часто описывались как продолжение Крестовых походов. Безусловно, об угрожающей близости ислама всегда помнили правители того времени, особенно в Восточной и Южной Европе. Тем не менее эти правители были в большинстве своем в достаточной степени реалистами, чтобы видеть, что Крестовый поход традиционного образца – прямой военный поход против мусульманских правителей в землях Восточного Средиземноморья с целью захвата святых мест и основания христианских княжеств на берегах Леванта – не был уже даже отдаленно возможен. Крестовые походы такого типа в предыдущих веках были дорогостоящими и в конечном счете закончились неудачей. Разнообразная смесь мотивов среди крестоносцев – религиозный пыл, любовь к приключениям, надежда на поживу, желание сделать себе имя, а также зависть и недоверие среди правителей, имевших отношение к походу, всегда были мощными факторами, мешавшими эффективному единству. Европейские народы никогда не организовывали Крестовые походы на государственном уровне. Даже те армии, которые возглавляли лично короли или императоры, были связаны воедино лишь феодальными и личными узами. Ни одно средневековое европейское королевство не обладало организацией, способной управлять дальними владениями; только рыцарские ордена имели четкую организацию, и их ресурсов было недостаточно. Такие завоевания, как латинские государства, основанные после 1-го Крестового похода, были возможны исключительно благодаря отсутствию единства среди местных арабских княжеств и не могли устоять против ответного нападения талантливого мусульманского правителя, сумевшего объединить силы. В конечном счете политический эффект от Крестовых походов свелся к тому, чтобы уменьшить Восточноримскую (Византийскую) империю – ведущее христианское государство Восточной Европы до в основном греческой территории и дать возможность венецианцам вымогать торговые привилегии в Константинополе. Начиная с XIII в. великие феодальные монархии Северной Европы утратили интерес к Крестовым походам и предоставили войну с исламом тем, у кого соседями были мусульмане: византийским императорам, их соседям – балканским королям, царям и князьям и христианским королям Иберийского полуострова.
Эти закаленные войнами правители, предоставленные самим себе, добились значительных успехов. Греческая (Византийская) империя, применяя гибкую дипломатию, равно как и военное упорство, продемонстрировала поразительную способность к выживанию. Она по-прежнему была грозной морской державой. Она возвратила себе большую часть территорий в XIV в. И хотя она была ослаблена, обычно могла сохранять свои позиции в стабильных условиях в противостоянии разнообразным оседлым и относительно мирным мусульманским государствам, среди которых было не больше единства, чем среди христианских королевств. Главная опасность для империи исходила от недавно принявших ислам орд варваров, которые время от времени мигрировали из своих обжитых мест в Центральной Азии, прорывались на земли «плодородного полумесяца», разрушали сформировавшиеся мусульманские государства, создавали новые объединенные военные султанаты и начинали священную войну против неверных христиан. В случае получения успешного отпора орда могла успокоиться и стать, в свою очередь, организованным стабильным государством; но способность греков к сопротивлению под ударами, следующими один за другим, становилась все слабее. Самым опасным из таких вторжений с европейской точки зрения было вторжение турок-османов, начавшееся в XIV в.
На другом конце Средиземного моря эти огромные штурмующие волны ощущались сначала лишь как слабая рябь на воде. Противостояние иберийских королевств исламу было долгой, шедшей с переменным успехом местной войной, которая в позднем Средневековье неуклонно делала успехи. В начале XV в. единственным мусульманским государством, оставшимся в Европе, был давно существовавший и высокоразвитый эмират Гранада[3]; и хотя этот эмират раньше был богатым и могущественным, теперь он платил дань Кастилии, и правители Кастилии могли ждать с нетерпением – с хорошими шансами на успех – его окончательного включения в состав их собственных владений. Правители Португалии больше не имели сухопутных границ с соседями-мусульманами и начали обдумывать нападение с моря на богатые государственные образования арабов и берберов в Северной Африке.
Конец XIV – начало XV в. принесли короткую передышку осажденным грекам. В Леванте столкнулись друг с другом два великих мусульманских государства. Одним из них был мамлюкский султанат в Египте и Сирии, основанный за век с четвертью до этого тем великим султаном Бейбарсом, который выгнал оставшихся «франков» (крестоносцев) из Сирии и разгромил внука Чингисхана. Другим было более молодое османское государство в Малой Азии, непокойное, агрессивное и представлявшее постоянную опасность своим соседям – и христианам, и мусульманам. Турки переправились через Дарданеллы в 1353 г. и в 1357 г. заняли Адрианополь, тем самым почти окружив Византийскую империю. В какой-то степени выживание Византии зависело от власти мамлюков в тылу у османов. В самом конце XIV в. оба эти мусульманских государства были разбиты конницей последнего великого кочевника – монгольского правителя эмира Тимура (Тимурленга, что по-таджикски – «Тимур-хромец», отсюда Тамерлан)[4]. В 1400 г. Тимур разграбил Алеппо и Дамаск; в 1402 г. разгромил османскую армию у Анкары (Ангоры), разграбил Смирну и взял в плен султана Баязета I. Естественно, христианские правители смотрели на этого самого жестокого завоевателя как на избавителя. Византийский император предложил платить ему дань. Даже кастильцы отправили к нему посольство, которое, однако, прибыв в Самарканд, обнаружило, что Тимур уже умер. Так что передышка у христиан была очень короткой. Тимур умер в 1405 г. в ходе начатого в конце 1404 г. похода на Китай. Его наследники рассорились, а его достижения больше никто не сумел повторить. В конечном счете нашествие Тимура косвенно серьезно не сыграло на руку Византии и христианской Европе. Османы не очень серьезно пострадали и оправились от своего поражения быстрее, чем их соперники-мамлюки. Их военная организация и вооружение были лучшими среди мусульманских государств. Их гражданская администрация оказывала сравнительно легкое давление на порабощенных подданных и делала османов не такими уж нежеланными завоевателями с точки зрения чрезмерно обложенного налогами крестьянства. Следующим был вопрос, куда в первую очередь будет направлена их грозная сила – на мамлюков, шиитское государство Сефевидов в Иране или против Византийской империи (от которой, кроме Константинополя, мало что осталось). И первые, и второе, и третья в конечном итоге были повержены (Иран позже оправился); но Византийская империя, самая слабая из этой тройки, первая подверглась ударам. В 1422 г. снова был осажден Константинополь. Восстания в Малой Азии и контрудары Венгрии против турок продлили сопротивление греков, но великий город в конце концов был взят Мехмедом II в 1453 г.