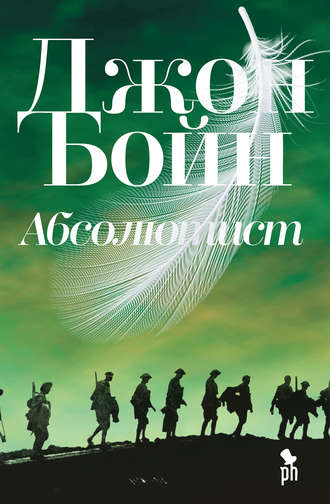
Джон Бойн
Абсолютист
Это сравнение было мне странно приятно. Я снова вошел в лес своего воображения и, продравшись через подлесок и заросли крапивы, представил себе Сэма, который любил книги и надеялся в один прекрасный день сам что-нибудь написать. Я словно присутствовал в тот вечер, когда он объявил родителям, что не станет ждать, пока его возьмут, – пойдет сам, чтобы Билли не был там один. Я представил себе дружбу братьев, заново крепнущую в учебной военной части, их отвагу на поле брани и геройскую смерть. Это Сэм, решил я. Это сын Уильяма Миллера. Я знал его.
– Наш Сэм был хороший мальчик, – прошептал мой собеседник через минуту и трижды хлопнул ладонью по столу, словно говоря: “Баста!” – Выпьешь еще, парень? – Он показал взглядом на мой полупустой стакан.
Я покачал головой:
– Пока нет. Но спасибо. У вас случайно закурить не найдется?
– А как же, – ответил он, выуживая из кармана жестяной портсигар – судя по виду, его спутник с самых юных лет.
Внутри лежало около дюжины аккуратнейшим образом свернутых папирос, он вручил мне одну. Рука у него была грязная, линии на большом пальце резко очерчены и потемнели – я решил, что от физического труда.
– Такой скрутки и в табачной лавке не увидишь, а? – спросил он, улыбаясь и показывая на папиросу идеальной цилиндрической формы.
– Верно, – согласился я. – Вы мастер.
– Не я, – поправил он, – это жена их для меня крутит. Каждое утро спозаранку, когда я еще завтракаю, она уже сидит в углу кухни с пачкой папиросных бумажек и пакетом махорки. Несколько минут – и готово. И отправляет меня с полным портсигаром. Повезло же мне, а? Не многие женщины станут такое делать.
Я засмеялся, представив себе эту восхитительную картину домашнего счастья.
– Вы счастливчик.
– А то я не знаю! – вскричал он с деланым возмущением. – А что же ты, Тристан Сэдлер?
Именуя меня так, он, видимо, хотел избежать слишком фамильярного обращения по имени; в то же время “вы” и “мистер” прозвучало бы слишком официально.
– Женат, а?
– Нет.
– Ну так есть милка в Лондоне?
– Никого особенного на примете. – Я не хотел признаваться, что и неособенного никого у меня тоже нет.
– Ну что ж, дело молодое, – сказал он с улыбкой, но без вульгарной ухмылки, с которой иногда люди постарше отпускают подобные замечания. – Я тебя не виню, да и никого из вас не виню, после всего, через что вы прошли. Будет еще время и для свадеб, и для деток, в свой черед. Но господибожемой, до чего же девчонки радовались, когда вы все вернулись, а?
Я засмеялся.
– Должно быть, так.
Я уже начал уставать: долгий путь брал свое, а пиво на пустой желудок клонило меня в сон и кружило голову. Еще один стакан меня точно погубит.
– Так у тебя родня в Норидже? – спросил мистер Миллер.
– Нет.
– Первый раз тут?
– Да.
– Значит, надумал выходной себе устроить? Отдохнуть от большого города?
Чуть поколебавшись, я решил соврать.
– Да. Приехал отдохнуть на пару дней.
– Ну так ты отличное место выбрал, точно тебе говорю. Я-то здесь родился и вырос. И мальцом тут жил, и взрослым. Больше нигде на свете не согласился бы жить и не понимаю тех, кто живет в других местах.
– Но ведь вы разбираетесь в говорах, – заметил я. – Должно быть, все же путешествовали.
– Щенком еще. Но я прислушиваюсь к людям, мой секрет как раз в этом. Большинство людей никогда не слушает. – Он подался вперед: – А порой я даже угадываю, о чем они думают.
Я посмотрел на него, чувствуя, как каменеет мое лицо. Наши глаза встретились – словно в поединке или на пари, и ни один из нас не отвел взгляда и не моргнул.
– Неужели, – произнес я наконец. – Выходит, вы знаете, о чем я думаю, а, мистер Миллер?
– Нет, этого я не знаю, парень. – Он все глядел мне в глаза. – А вот что ты чувствуешь – да. Это я, пожалуй, могу точно сказать. Хотя для этого не нужно мысли читать. Довольно было один раз глянуть на тебя, когда ты вошел.
Он, кажется, не собирался развивать эту тему, так что пришлось задать вопрос – вопреки всем внутренним голосам, которые вопили, чтобы я не будил лихо, пока оно спит.
– Так что же, мистер Миллер? – Я изо всех сил сохранял безразличное выражение. – Что я чувствую?
– Я бы сказал, две вещи. Во-первых, вину.
Я не шевелился и все так же глядел на него.
– А еще что?
– Ну как же, – ответил он. – Ты себя ненавидишь.
Я бы ответил – уже открыл рот, чтобы ответить, – но сам не знаю, что я собирался сказать. Хотя мне это все равно бы не удалось, потому что мой собеседник снова хлопнул по столу, разрушая воздвигнутую между нами невидимую преграду, и глянул на часы, которые висели на стене.
– Не может быть! – вскричал он. – Неужели так поздно! Пойду-ка я домой, а то моя хозяйка все кишки из меня выдерет. А тебе, Тристан Сэдлер, удачного отдыха. – Он поднялся, улыбаясь мне. – Ну или ради чего ты там приехал. И благополучно добраться до дому, когда все кончится.
Я кивнул на прощанье, но остался сидеть. Только смотрел, как он идет к двери. В самых дверях он повернулся и молча махнул рукой на прощанье ВЛАДЕЛЬЦУ ДЖ. Т. КЛЕЙТОНУ, обладателю ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОДАЖУ ПИВА И КРЕПКИХ НАПИТКОВ.
Я снова взглянул на “Белого Клыка”, лежащего на столе обложкой вверх, но вместо книги потянулся к стакану. Когда я допил его, моя комната уже, скорее всего, ждала меня, но я был не готов идти обратно. Так что я поднял палец в направлении бара, и передо мной вмиг появилась новая пинта; последняя на сегодня, клятвенно пообещал я себе.
* * *
Моя комната в пансионе миссис Кантуэлл – злополучный четвертый номер – вчера явно обеспечила мрачный фон развернувшимся в ней драматическим событиям. Тусклые печатные обои с изображением увядших гиацинтов и цветущих крокусов как будто помнили былые времена, повеселей. На выгоревшем квадрате прямо напротив окна рисунок обоев побелел, а ковер под ногами в некоторых местах протерся до основы. К одной стене был притиснут письменный стол; в углу – фаянсовая раковина со свежим куском мыла на краешке. Я огляделся. Мне пришлась по душе чисто английская деловитая недосказанность этой комнаты, ее голая функциональность. Эта комната, безусловно, была лучше моей детской спальни, но хуже моей квартирки в Хайгейте, которую я обставил продуманно, экономно и заботливо.
Я посидел на кровати, воображая драму, разыгравшуюся здесь прошлой ночью: несчастный мистер Чартерс пытается добиться ласк мальчика, а потом – сохранить достоинство, оказавшись жертвой ограбления, покушения на убийство и ареста, и все это на протяжении часа. Я пожалел его и задался вопросом – успел ли он получить вожделенное преступное удовольствие до того, как начался кошмар? Заманили его умышленно или он оказался несчастной жертвой обстоятельств? Впрочем, возможно, он на самом деле не был таким тихоней, каким рисовался Дэвиду Кантуэллу, и искал удовлетворения, которого ему вовсе не предлагали.
Я медленно поднялся – ноги гудели после целого дня в дороге. Снял носки и ботинки, повесил рубашку на подлокотник кресла и остался посреди комнаты в брюках и майке. Когда я услышал миссис Кантуэлл – она постучала в дверь и окликнула меня, – первым моим побуждением было снова одеться и обуться, но у меня не было сил, да и нельзя сказать, что я своим видом нарушал пристойность. Я открыл дверь. Хозяйка стояла на пороге с подносом в руках.
– Простите, что я вас побеспокоила, – сказала она, снова нервно улыбаясь, – без сомнения, печать долгих лет привычного подобострастия. – Я подумала, что вы, наверное, голодны. И что мы перед вами в долгу за сегодняшнюю неприятность.
Я поглядел на поднос – чайник, сэндвич с ростбифом и кусочек пирога с яблоками. Меня пронизала благодарность. Я и сам не понимал, до чего голоден, пока не увидел всю эту еду. Я поел утром перед выездом из Лондона, но я обычно очень легко завтракаю, только чай и кусочек тоста. В поезде я проголодался, но выбор в вагоне-ресторане был скудный – я осилил половину едва теплого пирога с курицей и с отвращением отодвинул его. День натощак и две пинты пива в “Гербе плотника” пробудили у меня волчий голод, и я открыл дверь пошире, пропуская хозяйку внутрь.
– Благодарю вас, сэр. – Она, поколебавшись, обвела взглядом комнату, словно желая убедиться, что в ней не осталось следов вчерашнего безобразия. – Я поставлю на стол, если не возражаете.
– Огромное вам спасибо, миссис Кантуэлл. Я бы и не подумал вас беспокоить, требуя еды в такой час.
– Никакого беспокойства, – ответила она, поворачиваясь ко мне и слегка улыбаясь; она внимательно оглядела меня и так долго рассматривала мои голые ступни, что мне стало неловко и я начал спрашивать себя, что такое она могла в них увидеть. Наконец она опять перевела взгляд на мое лицо. – Вы завтра будете обедать тут, в пансионе? – спросила она, и мне показалось, что она хочет заговорить о чем-то другом, но не находит нужных слов. Еда, безусловно столь желанная для меня, была только предлогом.
– Нет. У меня встреча в час дня, так что я уйду еще до полудня. Я собираюсь прогуляться и посмотреть город, если проснусь достаточно рано. Можно я оставлю здесь свои вещи и заберу их перед вечерним поездом?
– Конечно.
Она явно не собиралась уходить; я молчал, ожидая, чтобы она заговорила.
– Насчет Дэвида, – наконец решилась она. – Надеюсь, он сегодня не слишком вам докучал?
– Вовсе нет. Он очень деликатно описал положение дел. Пожалуйста, ни в коем случае не думайте, что я…
– Нет-нет, – она быстро покачала головой, – я не об этом. То дело уже в прошлом и, я надеюсь, будет забыто. Просто он иногда слишком много вопросов задает тем, кто был в армии. То есть тем, кто был там. Я понимаю, большинство из вас не любит вспоминать, но Дэвид не отстает. Я пыталась с ним говорить, но это трудно.
Она пожала плечами и отвернулась, словно признавая свое поражение.
– С ним трудно, – поправилась она. – Он такой мальчик, с которым одинокой женщине бывает нелегко.
Тут уже я отвел глаза, смущенный фамильярностью ее тона, и поглядел в окно. Высокий каштан загораживал вид на улицу, и я поймал себя на том, что вглядываюсь в густое сплетение ветвей и еще одно детское воспоминание удивительно безжалостно вторгается в мои мысли. Мы с Лорой, моей младшей сестрой, собираем каштаны, – деревьями засажены проспекты возле Кью-Гарденс. Дома обдираем колючую шелуху и либо стреляем каштанами из рогатки, либо жарим и наслаждаемся горячим лакомством. Я немедленно прогнал это воспоминание.
– Ничего страшного. – Я снова повернулся к миссис Кантуэлл: – Мальчиков в таком возрасте это всегда интересует. Ему сколько, семнадцать?
– Семнадцать, только что исполнилось. Он так сердился в прошлом году, когда война кончилась.
– Сердился? – удивленно нахмурился я.
– Да, согласна, это смешно звучит. Но он так долго предвкушал, как сам пойдет. Он каждый день читал об этом в газетах, следил за судьбой всех здешних ребят, которых отправили во Францию. Даже пару раз пытался пойти, прибавив себе лет, но над ним посмеялись и послали обратно к маме, а я вам скажу, сэр, что это они неправильно поступили. Он только хотел принести какую-то пользу, и вовсе незачем было над ним смеяться. А когда все кончилось – ну, по правде сказать, он решил, что пропустил что-то важное.
– Пропустил, чтобы ему оторвало голову снарядом, – сказал я, и мои слова заметались по комнате, рикошетя от стен и осыпая нас обоих шрапнелью.
Миссис Кантуэлл дернулась, но глаз не отвела.
– Понимаете, он на это по-другому смотрит, – тихо ответила она. – Его отец был там. Погиб в самом начале.
– Простите.
Итак, несчастный случай с молотилкой все же оказался моей фантазией.
– Да, ну вот, Дэвиду было тогда только тринадцать лет, и он уж так любил отца, даже необычно для мальчика. Мне кажется, он так и не оправился с тех пор, если честно. Ну вы сами видите, как он себя ведет. Все время сердится. Так трудно с ним разговаривать. Конечно, он во всем винит меня.
– Как все мальчики в таком возрасте, – с улыбкой сказал я, удивляясь, что говорю как зрелый мужчина, когда на самом деле я старше ее сына только на три года.
– Конечно, я-то хотела, чтобы война закончилась, – продолжала она. – Я об этом молилась. Чтобы он не попал туда и не страдал, как вы все страдали. Я даже представить себе не могу, каково вам пришлось. Ваша бедная матушка, наверное, места себе не находила.
Я пожал плечами, но тут же перевел это движение в кивок: я не собирался развивать затронутую ею тему.
– Но где-то в маленьком уголке души, совсем крохотном, я надеялась, что его все-таки возьмут. На неделю-другую, не больше. И чтобы он не участвовал ни в каких битвах. Не дай бог с ним бы что-нибудь случилось. Но побыть неделю с другими мальчиками ему было бы полезно. А потом настал бы мир.
Я не понял, говорит она о мире в Европе или на ее личном кусочке Англии. Но спрашивать не стал.
– В общем, я просто хотела за него извиниться. – Она улыбнулась. – А теперь кушайте, не стану вам мешать.
– Спасибо, миссис Кантуэлл. – Я проводил ее до двери и постоял, глядя, как она торопливо уходит по коридору. Она озиралась, словно не понимая, в какую сторону идти, хотя, скорее всего, прожила в этом доме всю свою взрослую жизнь.
Я вернулся в комнату, закрыл дверь и съел сэндвич – с нарочитой неторопливостью, чтобы спешка не нарушила хрупкое равновесие моего желудка. Запил чаем – горячим, сладким и крепким – и снова почувствовал себя человеком. Время от времени до меня доносились шумы из коридора – стенки номера были тонкие, как бумага. Я дал себе клятву уснуть до того, как вернутся на ночь мои соседи из третьего и пятого номеров. Риск провести бессонную ночь был для меня неприемлем – завтра мне понадобятся все силы.
Я отставил поднос, снял майку и обмылся у раковины холодной водой. Вода тут же натекла мне в штаны, так что я задернул занавески на окне, включил свет, разделся догола и обмыл все тело, как мог. На кровати лежало приготовленное для меня свежее полотенце, но оно оказалось из такой материи, которая тут же намокает. Я безжалостно растерся этим полотенцем, как нас учили в первый день в Олдершоте, и повесил его на край раковины, чтобы высохло. Чистоплотность, гигиена, внимание к деталям – вот приметы хорошего солдата. Все эти вещи уже стали моей второй натурой.
В углу было высокое зеркало. Я встал перед ним, критически разглядывая собственное тело. Грудь, когда-то (лет в восемнадцать) хорошо накачанная и мускулистая, за последнее время потеряла свои четкие очертания и стала бледной. На ногах гневно краснели поперечные шрамы; на животе расплывался темный синяк, упорно не желающий бледнеть. Мой вид решительно не радовал глаз.
Я знал, что когда-то, в мальчишеские годы, был гораздо привлекательнее. Люди тогда считали, что у меня приятная внешность. Они мне часто об этом говорили.
По ассоциации я вспомнил про Питера Уоллиса. В детстве мы с Питером были лучшими друзьями. А от мыслей о Питере было совсем недалеко до Сильвии Картер, которая появилась на нашей улице, когда нам обоим было по пятнадцать лет, и именно ее присутствие в конце концов привело к моему полному отсутствию. В детстве мы с Питером были неразлучны, он – с черными как смоль кудряшками, я – с непокорной соломенной копной на голове; волосы все время лезли мне в глаза, даже несмотря на то, что отец часто сажал меня на стул у обеденного стола и быстро стриг тяжелыми мясницкими ножницами, теми самыми, которыми срезал жилы с отбивных в лавке на первом этаже.
Мать Сильвии смотрела вслед нам троим, убегающим по улице, – мне, Питеру и своей дочери; юность объединяла нас, как общая тайна, и мать боялась, как бы дочь не попала в беду. И это беспокойство было оправданным, потому что мы с Питером были в таком возрасте, когда говорят только о сексе – как мы жаждем секса, где собираемся искать удовлетворения и какие ужасные вещи проделаем с несчастным созданием, которое нам его предложит.
В то лето мы купались вместе и не могли не заметить, как меняются наши тела; мы с Питером взрослели и набирались уверенности, привлекая дразнящие взгляды и вызывая игривые реплики Сильвии. Однажды, когда мы с ней были вдвоем, она сказала, что никогда не встречала мальчика красивее меня и что у нее мурашки по спине бегают, когда я выхожу из пруда, сверкая гладким мокрым телом, в плавках, черных, сочащихся влагой, точно шкура выдры. Эти слова вызвали во мне возбуждение, смешанное с отвращением, и когда мы поцеловались, я – сухими губами и робким языком, Сильвия – как раз наоборот, то у меня промелькнула мысль, что если такая красотка считает меня привлекательным, то, может, я и вправду не так уж безобразен. Я пришел в восторг, но ночью в постели, доводя себя до пика стремительными, драматичными фантазиями, столь же стремительно исчезающими, я воображал страшные, отвратительные сцены, в которых Сильвия вовсе не участвовала. А потом, преисполненный омерзения и опустошенный, я скрючивался на мокрых от пота простынях и глотал слезы, пытаясь понять, что со мной не так, что со мной, черт побери все на свете, не так.
Тот поцелуй остался нашим единственным: неделю спустя Питер и Сильвия объявили, что любят друг друга и желают соединить свои жизни. Достигнув совершеннолетия, они поженятся. Я сходил с ума от ревности и мучился унижением, ибо, сам того не сознавая, безответно влюбился; я и не заметил, как любовь вползла мне в сердце, и когда я видел Питера и Сильвию, когда воображал все, что они делают друг с другом, оставшись наедине, меня терзали мучительные спазмы горя и я ощущал к ним обоим только ненависть.
Но все же именно Сильвия Картер когда-то сказала мне, еще неопытному мальчику, что при взгляде на мое тело у нее бегут мурашки по коже. Теперь, глядя на свое тело, истерзанное двумя фронтовыми годами, волосы, когда-то соломенные, а теперь грязно-русые, влажно прилипшие ко лбу, левую руку, в пятнах, с выпирающими венами, и правую, подверженную непростительной дрожи, тонкие ноги, давно не напоминавший о себе пристыженный член, я подумал: пожалуй, сейчас у Сильвии опять побежали бы мурашки, но только от брезгливости. Конечно, сегодняшняя попутчица назвала меня красивым просто в шутку. Я безобразен – израсходованная, высохшая оболочка.
Я снова натянул трусы и майку, не желая спать голым. Нельзя, чтобы ветхие простыни миссис Кантуэлл соприкасались с моим телом. Я не переносил прикосновений, намекающих на интимность. Мне было двадцать лет, и я уже решил, что эта часть моей жизни окончена. Как глупо. Я любил дважды, подумал я, закрывая глаза и опуская голову на тонкую подушку, приподнимающую меня над матрасом от силы на дюйм-другой. Я любил дважды, и оба раза моя любовь меня уничтожила.
Мысль об этом – о моей второй любви – яростно сжала мне желудок. Я соскочил с кровати, зная, что у меня есть лишь несколько секунд, метнулся к раковине и вытошнил туда все: пиво, сэндвич, чай и яблочный пирог – в два молниеносных спазма. Непереваренное мясо и пористый хлеб отвратительно смотрелись в фаянсовой раковине, и я поскорей смыл их в сток водой из кувшина.
Весь в испарине, я рухнул на пол, прижав колени к подбородку. Обхватил колени руками, сжимая тело в комок и изо всех сил втискиваясь в щель между стеной и тумбой раковины. Я как мог зажмуривал глаза, но жуткие картины уже вернулись.
Зачем я сюда приехал? – недоумевал я. О чем я только думал? Если я действительно ищу искупления, здесь я его не получу. Понимания? Здесь некому меня понять. Прощения? Я его не заслуживаю.
* * *
Наутро я проснулся рано после на удивление крепкого сна и первым воспользовался ванной комнатой, которая в заведении миссис Кантуэлл была одна на шесть постояльцев. Вода оказалась в лучшем случае тепловатая, но для меня годилась. Я вымылся куском мыла, оставленным вчера в моей комнате. Потом побрился и причесался перед маленьким зеркальцем, висевшим над раковиной, и стал с чуть большей уверенностью смотреть на то, что предстояло сегодня; сон и ванна оживили меня, и я уже не чувствовал себя таким больным, как вчера. Я вытянул правую руку перед собой и впился в нее взглядом, словно подначивая задрожать, но рука была неподвижна, и я расслабился, стараясь не думать о том, что она еще может подвести меня в течение предстоящего дня.
Не желая участвовать в разговорах, я решил пропустить завтрак в пансионе и, едва минуло девять, на цыпочках спустился по лестнице, не сказав ни слова хозяевам, которые суетились в столовой, привычно перебраниваясь, как супруги со стажем. Я оставил дверь своей комнаты нараспашку, а саквояж – на кровати.
Утро было свежее и ясное, небо безоблачное, ни намека на дождь, и это меня обрадовало. Я раньше не бывал в Норидже и потому приобрел на лотке небольшую карту города, собираясь погулять час-другой. Моя встреча только в час дня, так что мне хватит времени посмотреть местные достопримечательности, вернуться в пансион и привести себя в пристойный вид.
Я прошел по мосту на Принс-Уэйлс-роуд, на миг остановился, глядя в стремительные воды реки Яр, и почему-то вспомнил солдата, с которым был в учебном лагере в Олдершоте, а потом на фронте во Франции. Его звали Спаркс, и однажды, когда мы были вместе в дозоре, он поведал мне совершенно удивительную историю: лет пять назад он переходил Тауэрский мост в Лондоне и вдруг остановился как вкопанный, ощутив незыблемую уверенность, что этот момент отмечает ровно середину его жизни.
– Я поглядел налево, – рассказывал он, – потом направо. Всмотрелся в лица прохожих. И понял, что знаю. Это оно. И тогда у меня в голове всплыла дата: одиннадцатое июня тысяча девятьсот тридцать второго года.
– Но значит, ты проживешь всего… сколько это выходит, сорок лет?
– И мало того! Добравшись домой, я взял листок бумаги и посчитал: если сегодня действительно ровно середина моей жизни, то какой день будет последним? И ты не поверишь, что у меня вышло.
– Не может быть! – изумился я.
– Нет-нет, не тот самый день, – со смехом ответил он. – Но очень близко. Август тысяча девятьсот тридцать второго. В любом случае, долгожителем мне вряд ли стать, а?
Он не дожил ни до той, ни до другой даты. Ему оторвало обе ноги как раз перед Рождеством 1917 года, и он умер от ран.
Я попытался отогнать тяжелые мысли о Спарксе и продолжал путь на север, карабкаясь вверх по крутой улице. В конце концов я оказался у каменных стен Нориджского замка. Я подумал, что стоит подняться на холм и осмотреть исторические сокровища, которые, может быть, выставлены внутри, но вдруг потерял всякий интерес. В конце концов, такие замки – всего лишь бывшие военные базы, где солдаты могли разбить лагерь и ждать появления врага. А уж этого я насмотрелся на всю жизнь. Я свернул направо, прошел место со зловещим названием Тумлэнд[1] и двинулся в сторону величественного шпиля Нориджского собора.
Я заметил небольшое кафе и вспомнил, что не завтракал, так что решил не продолжать путь, а остановиться и что-нибудь поесть. Я сел в углу у окна, и почти сразу ко мне подошла розовощекая женщина с большой шапкой густых рыжих волос, чтобы принять заказ.
– Мне только чаю и тостов, – сказал я, радуясь возможности присесть.
– И парочку яиц, сэр? – предложила она, и я охотно согласился.
– Да, спасибо. Яичницу-болтунью, если можно.
– Непременно, – радушно отозвалась она и исчезла за стойкой, а я принялся глядеть в окно. Я пожалел, что не взял с собой “Белого Клыка”, ведь сейчас как раз можно было бы расслабиться, со вкусом позавтракать и почитать. Но книга осталась в саквояже в пансионе, так что я стал глазеть на прохожих, спешащих по своим делам.
Улица была полна женщин, несущих авоськи с утренними покупками. Я подумал о матери – о том, как в моем детстве она каждое утро застилала постели и убирала квартиру, а отец облачался в огромный белый халат и занимал место за прилавком на первом этаже нашего дома, нарезая свежие отбивные для постоянных покупателей, которые должны были зайти в ближайшие восемь часов.
Я боялся всего, связанного с работой отца, – обвалочных ножей, туш животных, пил для кости, клещей для выдергивания ребер, рабочей одежды в пятнах крови, – и отец меня недолюбливал за эту слабость. Позже он научил меня работать ножами, разделывать по суставам туши свиней, овец и коров, висящие в холодной, – их очень торжественно привозили каждый вторник. Я ни разу не порезался и вполне овладел ремеслом мясника, но таланта к нему у меня не было, в отличие от отца, родившегося в этой самой лавке, или его отца, который бежал из Ирландии от “картофельного голода” и как-то наскреб денег, чтобы открыть свое дело.
Отец, конечно, надеялся, что я войду в семейный бизнес. На вывеске уже значилось “Сэдлер и сын”, и отец желал, чтобы название соответствовало действительности. Но его мечта не сбылась. Меня выгнали из дому незадолго до того, как мне стукнуло шестнадцать, и вернулся я только один раз – через полтора года, за день до ухода в армию.
– Вот что я тебе скажу, – произнес отец, осторожно выводя меня на улицу, – толстые пальцы с силой упирались мне в лопатки. – Для всех для нас будет лучше, если немцы пристрелят тебя на месте.
Это были последние его слова, обращенные ко мне.
Я потряс головой и несколько раз моргнул, недоумевая, зачем я порчу себе утро этими воспоминаниями. Вскоре на столе появился мой заказ: яичница, тосты и чай, но официантка почему-то не ушла, а осталась рядом, сжав ладони, словно в молитве, с лицом, расплывшимся в улыбке. Я вопросительно взглянул на нее снизу вверх – вилка с куском яичницы застыла в воздухе.
– Все в порядке, сэр? – бодро поинтересовалась она.
– Да, спасибо, – ответил я, и это, кажется, ее успокоило, так как она поспешила обратно за прилавок и стала дальше заниматься своим делом.
Я еще не привык сам выбирать меню и время для еды – после почти трех лет в армии, где приходилось поглощать что дают и когда дают, в тесноте и давке, – другие солдаты, сидящие справа и слева, втыкали в меня локти и жевали с таким чавканьем, будто они свиньи в хлеву, а не добропорядочные англичане, которых матери учили вести себя за столом. Даже качество и обилие еды были мне в диковинку, хоть и не шли в сравнение с довоенными. Но мысль о том, что можно зайти в кафе, сесть, проглядеть меню и сказать: “Я, пожалуй, возьму омлет с грибами”, или “Я попробую пирог с рыбой”, или “Мне порцию колбасок с картофельным пюре, да, и с луковой подливой”, потрясала меня невыразимой новизной. Простые радости для того, кто пережил нечеловеческие лишения.
Я заплатил несколько пенсов, поблагодарил официантку, вышел из кафе и двинулся в прежнем направлении по Куин-стрит к собору. Подойдя к великолепным монастырским зданиям, я осмотрел их, окружающую стену и ворота. Я очень люблю церкви и соборы. Не столько из-за их связи с религией – я записной агностик, – сколько из-за мира и спокойствия, царящих внутри. Два взаимоисключающих места, в которых я предаюсь праздности, – паб и храм. В одном так весело и жизнь кипит, в другом тихо и всюду напоминания о смерти. Но отдых на скамье в огромном храме как-то успокаивает душу – стылый воздух напоен веками возжигания ладана и свеч, теряющийся в высоте потолок напоминает о твоей ничтожности перед лицом необъятного мироздания, и еще картины, фризы, резные алтари, статуи с простертыми вперед руками, словно желающие тебя обнять, и неожиданный момент, когда хор, репетирующий утреню, взрывается песнопением, вздымая дух из бездны отчаяния, – отчаяния, которое как раз и привело тебя в храм.
Однажды под Компьеном наш полк устроил привал примерно в миле от небольшой eglise[2]. Мы шли походом все утро, но я все равно решил прогуляться к церквушке – не столько ради духовного пробуждения, сколько ради того, чтобы отдохнуть от общества других солдат. Церковь была вполне заурядная, даже примитивная, что внутри, что снаружи, но меня поразил в самое сердце ее заброшенный вид. Должно быть, прихожане спаслись бегством, ушли на фронт или переселились на кладбище, и в воздухе больше не витало радостное единодушие верных. Я вышел из церкви, думая, не прилечь ли на траву, пока нас не позвали обратно в строй; может, мне даже удастся закрыть глаза и мыслями перенестись в более счастливое время и место… Тут я увидел своего однополчанина по фамилии Поттер: он, слегка склонившись вперед и опираясь одной рукой на стену церкви, шумно мочился на многовековую каменную кладку. Я, даже не думая, рванулся к нему и с силой толкнул – он, застигнутый врасплох, упал на землю, открыв наготу праздным взорам. Струя мочи пресеклась, но он успел обрызгать себе все штаны и рубашку. Еще секунда – и он с руганью вскочил, застегнулся и сбил меня с ног, мстя за унижение. Другие солдаты расцепили нас. Я обвинил его в осквернении священного места, а он меня – в гораздо худшем, в религиозном фанатизме. Несмотря на ложность этого обвинения, я не стал его отрицать. Наша горячность постепенно увяла, мы перестали обмениваться оскорблениями, и наконец нас отпустили – после того, как мы, став лицом к лицу, пожали друг другу руки и сказали, что мы опять друзья. Затем мы всей компанией спустились с холма. Но все равно это святотатство меня расстроило.
Я прошел через неф собора, украдкой разглядывая людей, числом около дюжины, рассеянных по храму и погруженных в безмолвную молитву. Интересно, об облегчении каких тягот они молятся или отпущения каких грехов пришли просить? Дойдя до места, где продольный неф пересекался с поперечным, я повернулся и посмотрел туда, где в воскресенье утром будет стоять хор, вознося хвалы. Дальше я свернул на юг и через открытую дверь попал в лабиринт, где несколько детей играли в салочки в ясном утреннем свете. Я двинулся дальше вдоль восточной стены собора и вдруг остановился при виде одинокой могилы. Она бросалась в глаза. Надгробие было простым, даже примитивным – ничем не украшенный каменный крест на двухслойной каменной плите. Я склонился поближе и прочел, что здесь похоронена Эдит Кевелл, великая медсестра и патриотка, которая помогла сотням британских военнопленных бежать из Бельгии через организованную ею подпольную сеть и была за это расстреляна осенью 1915 года.
Я постоял и не то чтобы помолился за ее душу, ибо от этого никому не было бы никакого толку, но посвятил ей минуту созерцания. Конечно, Кевелл провозгласили героиней. Мученицей. И притом она была женщиной. В кои-то веки английский народ признал это, и я ощутил великую радость от того, что так неожиданно побывал на ее могиле.
Звук шагов по гравию возвестил чье-то приближение – точнее, приближение двух человек; они шагали в ногу, как ночной патруль на обходе военного лагеря. Я прошел чуть дальше за могилу и отвернулся, притворяясь, что разглядываю витражи в окнах собора.




