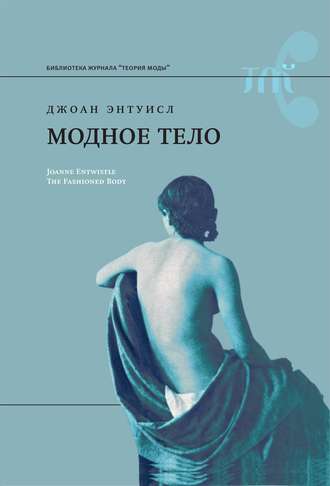
Джоан Энтуисл
Модное тело
Принимая во внимание эти новейшие веяния и литературу, в которой они отражены, я остаюсь при своих взглядах и заявляю, что все рассуждения о том, что моду можно обнаружить в любом месте и в любой исторической эпохе, проистекают из евроцентризма авторов, приписывающих черты, характерные исключительно для западной цивилизации, обществам, которые чужды западной культуре. Таким образом, эти авторы полностью пренебрегают региональным своеобразием, отметая прочь национальную специфику и не замечая альтернативных систем производства предметов одежды, их дистрибуции и потребления. Очевидно, они видят в моде трансисторический и транскультурный феномен, и, следовательно, их подход в корне расходится с подходом, который сегодня исповедуют академические школы, в большинстве своем стремящиеся выявить и детально рассмотреть специфические черты, характерные для каждого региона. Конечно, в настоящее время потоки, позволяющие модным стилям, фасонам и мотивам курсировать между Западом и не-Западом, куда более сложны и многообразны. На данный момент производство модных вещей западного образца в основном сосредоточено в Индии и Китае, так что эти страны являются неотъемлемой частью системы моды и современной «фастфешен»; кроме того, с каждым годом все больше представителей среднего класса в странах южных и восточных регионов вливаются в число потребителей западной моды. В то же время восточные мотивы постоянно проникают в западную моду, о чем в своей работе подробно говорит А. Гечи (Geczy 2013). Однако доказанное существование сложных исторических взаимоотношений между Востоком и Западом не привело к слиянию двух параллельно существующих систем моды в одну. Мы по-прежнему можем только отслеживать истоки системы моды в торговом капитализме и модерности XIX века и описывать те исключительные свойства, наличие которых позволяет этой системе развиваться и двигаться вперед.
Я не совсем уверена в том, что правильно понимаю, почему некоторые авторы испытывают потребность увидеть моду во всех системах, имеющих отношение к гардеробу и манере одежды. Возможно, ими движет желание повысить статус и престиж не-западного платья. Однако исследователи, которые связывают моду с модерностью, отнюдь не подразумевают под этим какого бы то ни было превосходства: если мы говорим, что современная система моды появилась благодаря каким-то определенным обстоятельствам, это никак не умаляет и не лишает ценности другие, более ранние системы и не означает, что, взирая со своей западной колокольни, мы не можем воздать должное современным не-западным системам производства и ношения одежды. И если мы будем придерживаться более точного определения, описывающего моду как непрестанное стремление к циклическому обновлению, у нас не останется сомнений в том, что слово «мода» неприменимо по отношению к традиционному костюму. Это не дает современной системе моды никакого превосходства в наших глазах, но позволяет увидеть и признать огромное разнообразие связанных с одеждой практик, которые существуют внутри и за пределами современной системы моды.
Мода и идентичность
Можно смело утверждать, что вопрос об идентичности является одним из главных в исследовательских работах о моде; не меньшее внимание уделяется и ее значению или смысловой нагрузке. Однако зачастую понятия «идентичность» и «значение» наделяют одним и тем же смыслом, поскольку во многих случаях рассуждения о смысловой нагрузке моды сводятся к вопросу об идентичности: что одежда может рассказать о человеке, который ее носит? Но несмотря на то что сопоставление моды с идентичностью («мы то, во что мы одеты») – это своего рода клише, о чем я говорила и в других своих работах (Entwistle 2013), эта тема не исчерпана до конца. В ее рамках еще есть о чем поговорить, тем более что за последнее время появился целый ряд исследований, авторы которых подошли к данной теме более тонко, нежели их предшественники. Для начала нужно понять, действительно ли существует связь между модой и идентичностью, а затем задаться вопросом, насколько значение, которое мы придаем моде, важнее значения всех прочих вещей: неужели одежда и впрямь может сказать о нас больше, чем, к примеру, наша мебель или интерьеры, в которых мы живем? И есть ли какие-то границы у выразительного потенциала одежды? Э. Цеелон ставит под сомнение превалирующую в академических трудах идею «гомогенности приписываемых одежде значений», указывая на «разнообразие образов и смыслов, которые самые обычные люди создают при помощи своего гардероба», в чем можно убедиться, проверив «точность и надежность осуществляемой при посредничестве одежды коммуникации» в контексте реальных интерпретаций и межличностных взаимодействий (Tseëlon 2012: 109). Вопрос, согласна ли я с таким подходом, совершенно неуместен, поскольку необходимость дальнейших рассуждений и погружения в проблему ассоциаций, связывающих моду/одежду с идентичностью, не вызывает сомнений.
Вопрос об идентичности действительно весьма сложен, особенно если рассматривать ее не как сумму разнообразных аспектов – классовой и расовой принадлежности, гендера и так далее, но взглянуть на нее с точки зрения интерсекциональности, делающей акцент на многообразных пересечениях этих разноплановых конфигураций. В свете данного подхода следует признать, что я проявила излишнюю самонадеянность, когда заявила, что проблема одежды и идентичности – исключительно западный феномен. Эту оплошность, допущенную в первой редакции, необходимо исправить. В работе Э. Тарло (Tarlo 1996), которая, к сожалению, не стала предметом обсуждения в первой редакции моей книги, хотя и была опубликована несколькими годами ранее, «проблема „во что одеться“» рассматривается в связи с многоплановыми проблемами идентичности. Подход Э. Тарло аналогичен подходу С. Вудворд, но если С. Вудворд наблюдает за женщинами из северной части Лондона, то Э. Тарло делает выводы на основании материала, собранного в Индии. Обнаружив типично западную проблему там, где, предположительно, ее быть не должно, она бросает вызов нашим представлениям о моде и идентичности и ставит под вопрос «общепринятую в академических кругах точку зрения, согласно которой в Индии до недавнего времени идентичность была четко обусловлена кастовой принадлежностью или религиозной традицией, а люди из поколения в поколение носили лишь ту одежду, которая была им предписана» (Ibid.: 1). Исследуя конкретные примеры, Э. Тарло устанавливает моменты, когда отношение к одежде в Индии менялось и/или появлялись новые сочетания, и приходит к мысли об «активной роли, которую одежда сыграла в формировании идентичности отдельных людей, семей, каст, религиозных групп и народностей» (Ibid.). По ее мнению, проблема отчасти связана с классификациями, ключевой элемент которых – противопоставление современного и традиционного, побуждающее ученых рассматривать определенные проблемные вопросы сквозь призму западной идентичности, оставляя на долю традиционных идентичностей проблемы иного рода. Наблюдать этот стереотип в действии можно в музеях, где хранят и выставляют традиционную одежду: их кураторы могут отдавать предпочтение той или иной классификации, но неизменно выбирают для экспозиции вещи, которые соответствуют представлениям об аутентичном или традиционном костюме настолько, чтобы связанная с ними идентичность скорее выглядела монолитной, нежели «многоплановой и конфликтующей» (Ibid.: 15). В своем исследовании Э. Тарло указывает на то, что в Индии сосуществуют многочисленные конкурирующие идентичности, которые могут конфликтовать между собой. Это происходит в условиях общества, где расслоение «по социальным, половым, религиозным, политическим, экономическим, культурным, региональным признакам» достигает высокого уровня, как и «вероятность стремления к одномоментному отождествлению себя более чем с одной группой» (Ibid.: 45). Таким образом, «проблема „во что одеться“» для населения Индии мало чем отличается от проблемы выбора, встающей перед людьми на Западе, даже при том что система обеспечения может отличаться, и порой очень существенно, если речь идет об одежде членов сельской общины в отдаленной индийской провинции, находящейся словно на противоположном полюсе по отношению к таким урбанистическим центрам, как Дели.
Еще одна любопытная тенденция ставит под сомнение стройную бинарную оппозицию «современное» – «традиционное». Я имею в виду не так давно возникший в научных кругах интерес к альтернативной моде, основанной на определенных религиозных воззрениях. Эта тема оказалась в центре внимания после событий 11 сентября, однако вначале ее подхватили популярные СМИ, превратив женщину-мусульманку в объект непрестанного интереса и фактор неутихающего беспокойства. Позже появился целый ряд научных публикаций, затрагивающих данную тему, чего я никак не могла предвидеть, когда писала первую редакцию своей книги. И сейчас нам стоит задержаться на этом вопросе, чтобы сориентироваться в данном массиве литературы. Она заставляет нас обратиться к неприкрытой проблеме тела и его места в системе общественного порядка и задуматься над тем, как мы определяем характер взаимоотношений между телом и общественной моралью и/или улаживаем их посредством соблюдения установленных правил, диктующих, какие части тела должны быть скрыты под одеждой. В своих работах Р. Льюис (Lewis 2013), Э. Тарло (Tarlo 2010), Э. Тарло и А. Мурс (Tarlo & Moors 2013), О. Сандикчи и Г. Гер (Sandikci & Ger 2005) ставят цель выявить и обозначить различия между религиозно-обусловленными практиками в одежде, которые в Британии воспринимаются как неотъемлемая часть мультикультурной уличной среды, и строго регламентированными формами полностью скрывающего тело образцового хиджаба, которые преподносятся на рынке как «мода ислама» (Ibid.: 61). Названные авторы сосредоточивают внимание на «наиболее заметном для глаз общественности отличительном знаке исламской потребительской культуры… практике покрывать голову». Таким образом, в их работах продемонстрировано, что данная практика «усложняет отношения между религией, модой и модерностью». Поскольку объектом нападок в контексте массового дискурса или охватившей Запад массовой истерии по поводу одежды, указывающей на приверженность исламу, стала женщина в платке, К. Баллок (Bullock 2002) в своей весьма своевременной и исторически значимой работе призывает пересмотреть и переоценить бытующие в обществе представления.

Собрание лондонской общины выходцев из Сомали. Молодые женщины встречаются с президентом Республики Сомали Хасаном Шейхом Махмудом. 2013. Май. Фото: Voice of America. Фотография публикуется по лицензии Creative Commons
В свою очередь, Р. Льюис предлагает взглянуть на проблему одежды и добропорядочности более широко и в роли редактора сборника тематических статей исследует не только гардероб женщин-мусульманок, но любую одежду, ассоциирующуюся с добропорядочностью или скромностью. Однако этим ее подход не ограничивается, и в фокусе внимания оказывается не только одежда как таковая, но и пути распространения товаров и идей, связывающих моду с представлениями о добропорядочности и религиозном благочестии. Распространению этих представлений способствуют посредники – в первую очередь интернет, который одновременно является и процветающей торговой точкой, и проводящей средой, способной мгновенно распространить любую идею по всему миру. Таким образом, высказанные в этой книге соображения ставят под сомнение некоторые идеи, давно укоренившиеся в массовом сознании. Об этом говорит и Л. Вудхэд, написавшая к ней предисловие. По ее мнению, эта книга призывает нас задуматься о значимости религии и веры в условиях секуляризации, поскольку здесь мы сталкиваемся с, возможно, неожиданной для нас информацией о выдающейся роли, которую отводят женщинам великие мировые религии (главным образом речь идет об исламе, иудаизме и некоторых христианских конфессиях). Статьи из сборника под редакцией Р. Льюис заставляют нас усомниться в предубеждениях, долгое время не позволявших даже помыслить о том, что у такого поверхностного явления, как мода, может быть что-то общее с религиозной верой. Не может не удивить и возраст женщин, о которых идет речь: описанные практики характерны для совсем молодых женщин, выросших в суматохе потребительской культуры, но, несмотря на это, отдающих предпочтение скромной манере одежды, причем их выбор далеко не всегда продиктован религиозными правилами и убеждениями. Это явный вызов расхожим представлениям, связывающим манеру одежды с гендером и сексуальностью: очевидно, не все женщины хотят одеваться как порнозвезды, или как Мадонна в 1980‐е, или как Майли Сайрус в сезоне 2013/14.
С 2000 года одежда продолжала оставаться важным посредником при исследовании других маркеров идентичности – исследователей интересовал вопрос, как эти маркеры проявляют себя в манере одежды. При этом ключевым компонентом, особенно в работах, посвященных западной моде, оставалась классовая принадлежность. Так, в книге Д. Крейн (Crane 2000) представлен подробный, вдумчивый отчет о моде и факторах, влиявших на выбор костюма в индустриальных обществах XIX столетия, а также в современных постиндустриальных обществах – главным образом во Франции, Великобритании и Соединенных Штатах; особое внимание Д. Крейн уделяет переходу от демонстрации классовой идентичности к демонстрации других аспектов социальной идентичности, также выраженных посредством гардероба. Недостаток ее исследовательского подхода состоит в том, что в его основе лежат несколько устаревшие представления об одежде как о средстве прямой коммуникации, на что указывает заглавие книги «Fashion and its Social Agendas» («Мода и ее социальная повестка»). Мода стремится что-то «сообщить»? Лично я по-прежнему поддерживаю мнение К. Кэмпбелла (Campbell 1997): чего уж точно нельзя сказать о моде, так это что она предназначена для передачи сообщений, простых и однозначных, что бы там ни казалось авторам некоторых научных (и популярных) работ. Мы имеем дело с материей, слишком тонкой для того, чтобы служить чем-то вроде агитационного транспаранта или доски объявлений.
Одежда как маркер идентичности молодежных субкультур – это еще одна тема, которая на протяжении многих лет продолжает занимать умы многих серьезных исследователей (Brill 2008; Kawamura 2012; Sweetman 1999a; Sweetman 1999b; Sweetman 2000). Ю. Кавамура, так же как Д. Крейн, считает, что «в эпоху постмодерна культура моды» делает акцент скорее на «потребительских, нежели на классовых аспектах моды», тем самым опровергая «постулаты ранних теоретиков [моды]» (Kawamura 2012: 45). В своем исследовании она по-новому использует подход, предложенный Бирмингемским центром культурных исследований, наблюдая за тем, как в Японии возникают подростковые субкультурные группы, количество которых с недавних пор заметно увеличилось в Токио, где молодежные субкультуры делятся по территориальному признаку, поскольку каждая из них прочно ассоциируется со своим районом. В отличие от более ранних исследований, в основном сосредоточенных на изучении субкультурных течений, в которые вовлечены юноши и молодые мужчины, некоторые недавние изыскания в этой области затронули и женские субкультуры, такие как «синдзюку» из Токио и другие, описанные Ю. Кавамурой (Ibid.). В действительности гендер всегда остается ключевой темой там, где речь так или иначе заходит об одежде, но более подробно я поговорю об этом ниже.
И наконец, следует сказать несколько слов о татуировках и пирсинге, в последние годы превратившихся в массовое явление. Во время работы над первой редакцией книги у меня не возникло повода упомянуть эти формы телесной модификации. Однако я могу предположить, что в то время их упоминание было бы уместно лишь в рамках разговора о субкультурах, даже несмотря на то что эти телесные практики уже начали набирать популярность вне субкультурного контекста (Featherstone 2000; Sweetman 1999a; Sweetman 1999b; Sweetman 2000). Но сегодня невозможно написать книгу о взаимоотношениях моды, одежды и тела и при этом проигнорировать невероятную популярность татуировок. В то же время общеизвестная истина – татуировки больше не являются достоянием моряков, уголовников и байкеров, теперь их носят даже женщины, от мала до велика, – нуждается в привязке к историческому контексту, поскольку сам по себе сюжет не нов. Мысль о том, что татуировка стала частью мейнстрима, уже возникала в конце XIX века, чему есть доказательства (см.: bbc.co.uk/news/magazine-25330947). По случайному совпадению именно в тот день, когда я писала этот раздел, в Британской библиотеке меня обслуживала сотрудница, одетая в блузу с глубоким вырезом, из которого проглядывала замысловатая татуировка, нанесенная на самую пикантную часть роскошной зоны декольте; я не могла ее как следует разглядеть, но на протяжении всего времени, проведенного в тот день в читальном зале, мой взгляд то и дело невольно обращался в ее сторону. Это заставило меня задуматься над тем, как же далеко мы зашли в Великобритании, что даже в таком консервативном учреждении, как Британская библиотека, свободно принимают на работу людей, выбирающих откровенно провокационную манеру одежды. Я сомневаюсь, что подобное было возможно еще не так давно, и это приводит меня к мысли, что татуировка почти перестала ассоциироваться с девиантными субкультурами.

Японская городская субкультура: девушка-подросток в образе Лолиты. Фотограф Джей Бергесен. Фотография публикуется по лицензии Creative Commons
Мода и гендер
Среди всех аспектов идентичности, которые, по общему мнению, способна выразить мода, гендер занимает особое, выдающееся положение, поскольку одежда является зримым социальным маркером гендерных различий. Кроме того, тема гендера по-прежнему занимает центральное место в специальной литературе, и это объясняется тем, что в исторической перспективе мода тесно связана с феминностью (Buckley & Fawcett 2002; Jones 2004). Подобные исторические изыскания подобны раскопкам, в ходе которых обнаруживаются моменты слияния моды с теми или иными ипостасями феминности, будь то эдвардианские дискурсы о красоте, особенно актуальные в годы Первой мировой войны, или более поздние, связанные с поп-культурой и берущие начало в 1960‐х годах. Исследователям удается проникнуть в смысл уникальных субъективных церемониалов, служивших для выражения личной идентичности во Франции при старом (дореволюционном) режиме (Jones 2004). Статьи из сборника под редакцией В. Паркинс объединены темой «одежда как отражение гражданской позиции» и охватывают широкий диапазон сюжетов – от моды глазами суфражеток (Parkins 2002) до моды при фашистских режимах (Paulicelli 2004).
Авторы многих недавно изданных работ склонны уделять внимание интерсекциональной природе взаимоотношений гендера с другими маркерами идентичности, а концепция перформативной идентичности позволяет намного лучше понять, почему мода «настолько задействована в непрестанном построении идентичности, которая никогда не бывает окончательно сформированной» (Buckley & Fawcett 2002: 9). Можно сказать, что до некоторой степени пошатнулся стереотип, прежде намертво связывавший моду с феминностью, поскольку в последние годы тема «мужчины и мода» сделалась столь актуальной, что наметилось целое направление, ее рассматривающее. Таким образом, несмотря на то что женщины по-прежнему остаются основной репрезентативной группой для большинства исследователей, у нас появилось несколько превосходных работ, исследующих отношение мужчин к одежде и гардеробу, в том числе книга Л. Уголини (Ugolini 2007), рассказывающая об участии мужчин в сарториальном потреблении в период с 1880 по 1939 год. Исследования, посвященные мужской моде, уже достигли впечатляющей глубины и размаха; в этом убеждает сборник, вышедший под редакцией П. Макнила и В. Караминас (McNeil & Karaminas 2009). И хотя в поле зрения ученых чаще попадает мужская одежда, заведомо привлекающая к себе внимание – связанная с теми или иными субкультурами или приуроченная к случаю, они все чаще проявляют интерес к более обыденным аспектам мужской сарториальной самопрезентации.
Поскольку гендер всегда считался одним из наиболее пластичных аспектов идентичности, нет ничего удивительного в том, что он открыт для сарториальных манипуляций с элементами игры. Исследуя такое явление, как кроссдрессинг, Ш. Сазрелл приходит к следующему выводу: «если рассматривать одежду как артефакт, она выглядит необычно, поскольку позволяет нам играть – время от времени или постоянно – с идентичностью и самовосприятием. Она может упрочить положение в пространстве, которое мы занимаем в повседневной жизни, в зависимости от того как мы одеты, или… служить средством, благодаря которому мы облачаемся в гендер или сбрасываем его с себя» (Suthrell 2004: 2–3). Ш. Сазрелл уверена, что, изучая кроссдрессинг, она не пытается вникнуть в суть нездорового увлечения меньшинств, но «проливает свет на ключевые моменты неисчерпаемых дискурсов, затрагивающих вопросы пола, гендера и сексуальности» и «наглядно демонстрирует, насколько различаются фундаментальные аспекты, лежащие в основе жизни каждого из нас, – самая суть жизни мужчин и женщин – и почему это имеет настолько большое значение» (Ibid.: 2).
С тех пор как мода стала объектом серьезных исследований, произошла еще одна заметная перемена: уменьшился поток критики в ее адрес. И если когда-то феминизм был непримиримым антагонистом моды, что особенно ярко проявилось во времена «второй волны» феминистского движения, с недавних пор исследователи-феминисты, скорее, видят в ней перформативный потенциал, позволяющий играть с идентичностью. Некоторые из них даже открыто критикуют женское движение за то, что на протяжении всей своей истории оно культивировало враждебность и пренебрежение по отношению к моде и внешней красоте (Black 2004; Scott 2005). Это не означает, что сегодня мода вообще не подвергается критике, – де факто она всегда была и остается проблемой в глазах феминистов. В последние годы мода не раз оказывалась мишенью для критики как в публичной, так и в научной сфере; а поводом чаще всего служил тот нереалистичный или нездоровый образ идеального женского тела, который создает индустрия моды, а средства массовой информации навязывают нашему сознанию, разгоняя волны ажиотажа вокруг моделей нулевого размера. Поскольку формат предисловия не позволяет вдаваться в подробности, я лишь замечу, что в некоторых недавно изданных научных работах внимание сосредоточено не столько на критике образов востребованных индустрией моды тощих моделей (типичной для «второй волны») (Shaw 1995; Morris et al. 2006; Prabu et al. 2002), сколько на анализе более общих социальных вопросов, касающихся развития, структуры и значимости модельного бизнеса. Это отнюдь не отвлекает внимания от иконографии моды как таковой, но, что действительно важно, помещает ее в более широкий контекст.
Действительно, в настоящее время модельный бизнес все чаще становится предметом научного изучения; в исследовательских трудах уже обозначилась особая подтема, связывающая моду и модельный бизнес с вопросами трудовых отношений, гендера, расового разделения и так далее (чтобы получить более подробную информацию, см.: Entwistle & Slater 2012). Как утверждает С. Басберг-Нойман (Basberg Neumann 2012: 138), постлингвистический поворот, то есть существенное «аналитическое разделение модельного бизнеса и его публичного образа, с одной стороны, и самих моделей, с другой», начался в тот момент, когда в сферу научного интереса попал целый ряд вопросов, касающихся моды, гендера, трудовых отношений и потребления (Brown 2011; Brown 2012; Entwistle 2002; Entwistle 2004; Entwistle 2009; Evans 2005; Evans 2008; Mears 2008; Mears 2011; Mears 2012a; Mears 2012b; Mears & Finlay 2005; Wissinger 2007a; Wissinger 2007b; Wissinger 2009 и последующие). Некоторые из перечисленных авторов сделали воистину исторический шаг, впервые заговорив о том, как появились и развивались модельные агентства, а также об их месте и роли в культуре потребления; Э. Браун и Э. Уиссингер рассматривают эти вопросы на североамериканском материале, тогда как М. Мейнард (Maynard 1999; Maynard 2012) исследует возникший несколько позже модельный бизнес Австралии. Вместе с тем наблюдаются все возрастающий интерес и стремление понять саму суть работы в этой сфере; в этом отношении любопытны этнографические исследования Э. Мирс (Mears 2011; Mears 2012) и С. Басберг-Нойман (Basberg Neumann 2012), отчасти основанные на их собственном опыте работы в модельном бизнесе и позволяющие увидеть как бы изнутри рутинные рабочие процессы и взаимоотношения между моделями, вместе с ними почувствовать давление атмосферы мира моды и проникнуться их радостями.
Безусловно, это важные вопросы, касающиеся способов, которыми мода – отнюдь не кристально чистая индустрия, вполне заслуженно ставшая объектом пристального внимания со стороны средств массовой информации в связи с тем, как она обращается с молодыми, а часто очень молодыми, женщинами (и мужчинами), – распространяет свои идеи и оперирует представлениями о теле и гендере. Но эти вопросы побуждают нас вникать еще глубже, в самую суть модельной индустрии, ассоциирующейся с недвусмысленными гендерными ролями, изучать востребованные способы их демонстрации, различные формы эстетического труда и так далее. Например, я в нескольких работах (Entwistle 2002; Entwistle 2004) рассматриваю только поведение моделей-мужчин и те способы, которыми они демонстрируют свою гендерную идентичность на том нетипичном профессиональном поприще, где доминируют женщины и где всячески превозносится и щедро вознаграждается женская красота и привлекательность, тогда как мужские достоинства не имеют большой цены. Таким образом, как я уже говорила, каким бы пластичным ни был гендер, гетеронормативная гендерная перформативность по-прежнему управляет повседневными и обыденными практиками, даже несмотря на то что появление нетрадиционных моделей несколько пошатнуло границы гендерных норм.
Мода, украшение и сексуальность
Если согласиться с тем, что гендерные разграничения определяются сексуальностью, как полагает Дж. Батлер, будет логично предположить, что эта зависимость должна как-то проявляться и в одежде. Ученые действительно продолжают исследовать эту взаимосвязанность – например, между модой и фетишизмом, как это делает Ф. Ланнинг (Lunning 2013) в своей книге, где, помимо прочего, можно найти первое исчерпывающее определение понятия «фетиш». Однако ассоциации и взаимосвязи между модой и сексом гораздо более сложны и обширны.
Здесь необходимо упомянуть две специфические тенденции, обнаружившиеся в последние пятнадцать лет: это порнификация культуры и распространение стиля квир. Оба этих явления можно отнести к социальным трендам; они широко обсуждаются в обществе и уже стали объектом научных исследований. Поскольку с некоторых пор модные тренды и стили несут в себе сексуальный подтекст, который все чаще и настойчивее побуждает нас выглядеть, чувствовать и вести себя сексуально, возник повод говорить о сексуальной субъективизации культуры (Gill 2003), и одно из ее проявлений – это порнификация массовой культуры, которая, как принято считать, постепенно становится все более откровенной. Не правда ли, звучит так, словно речь идет о собрании порнографических картинок, которые достали с верхней полки и расставили на самых видных местах. На самом деле истоки этого процесса – внедрения порно в мейнстрим – настолько многочисленны, что отследить их все здесь и сейчас мне не позволяет установленный объем предисловия. И вряд ли нужно напоминать о том, что А. Линч (Lynch 2012) уже сделала это до меня в своем объемном труде, посвященном такому явлению, как порношик. Проведя полевые исследования, она со знанием дела пишет о том, что сегодня в США не только молодые супружеские пары, но даже бабушки и дедушки чувствуют себя вполне комфортно в закусочных Hooters, а кролик, долгие годы верно служивший логотипом журнала Playboy, оторвался от своих корней и беспрепятственно перекочевал из мира мягкого порно на футболки тинейджеров (что, пожалуй, является еще более ярким индикатором процесса). Более того, Playboy был удостоен чести породниться с высокой модой благодаря топ-моделям, в частности Кейт Мосс, которая в 2014 году появилась на его страницах, отметив таким образом свое сорокалетие. Не секрет, что порноиконография широко востребована в мире поп-музыки: достаточно вспомнить откровенные видео Рианны или танец ягодиц, который Майли Сайрус исполнила на церемонии вручения наград MTV. Такая сексуализация тела не раз вызывала шквал критики в том числе и потому, что в ней видят инструмент продвижения товаров сексуального назначения в те сегменты рынка, которые ориентированы в первую очередь на девочек препубертатного возраста. В то время, когда у нас в Великобритании выводят на чистую воду и примерно наказывают ретейлеров, продающих G-стринги девочкам-подросткам, популярные у молодежи магазины одежды, такие как American Apparel, завлекают покупателей рискованно сексуальными рекламными постерами, явно рассчитанными на тинейджеров и людей, не достигших зрелости. Но несмотря на то что порнификацию, по-видимому, можно считать частью эмпирической реальности, нам все же стоит проявить осмотрительность, говоря о ее вредоносном влиянии: подобная озабоченность хорошо знакома обществу, она возникает циклически как проявление морально обусловленной паники в связи с тем, что под влиянием поп-культуры в наших детях слишком рано просыпается интерес к сексуальным аспектам жизни, и восходит, самое позднее, к послевоенной эпохе, когда зародились первые молодежные субкультуры. Конечно же, у порнификации есть своя альтернатива, о чем мы уже знаем, поскольку в одном из предыдущих подразделов затрагивали тему добропорядочности в манере одежды; и эта альтернатива может быть не менее привлекательной если не для многих, то хотя бы для некоторых молодых женщин. Порнификация и ее альтернативы – это действительно интересный вопрос, который заслуживает более пристального рассмотрения.
Вторая тенденция, которую стоило бы здесь обсудить, поскольку в первом издании она удостоилась лишь мимолетного упоминания, – это появление ряда исследований, посвященных мужчинам-геям, лесбийскому стилю, а в настоящий момент еще и трансгендерам. В последние годы исследовательский интерес к квир-стилю и квир-моде действительно возрос (Cole 2000; Geczy & Karaminas 2013; Holliday 2001; Karaminas 2013; Steele 2013; Wilson 2013). Как пишет В. Стил (Steele 2013), история моды будет неполной, если в ней не будут упомянуты геи и лесбиянки – хотя бы потому, что среди выдающихся модельеров, известных журналистов, визажистов, парикмахеров и других мастеров, сыгравших заметную роль в развитии индустрии моды, было множество геев, лесбиянок и трансгендеров. Кроме того, гей-стиль, широко востребованный в мире популярной музыки и популярной культуры и выплеснувшийся из клубов и баров на улицы, сам по себе оказывает мощное влияние на моду и модные тренды. Однако замечено, что фигура мужчины-гея в массовом сознании ассоциируется с модой чаще и прочнее, чем образ женщины-лесбиянки. Действительно, «мы уделяли слишком мало внимания динамическому потенциалу и символизму лесбийского гардероба, задействованным в формировании идентичностей и стиля» (Karaminas 2013: 195) и, более того, «еще тридцать, а то и десять лет назад словосочетание „лесбийский стиль“ вызывало смех, поскольку по умолчанию воспринималось как явный оксюморон» (Wilson 2013: 167). Нет сомнений в том, что вплоть до 1980‐х годов отношение к моде и собственный стиль были «значимыми показателями лесбийской сексуальности и соответствовали таким недвусмысленным определениям идентичности, как „фемина“ и „буч“» (Karaminas 2013: 195). Несмотря на то что этот исторически сложившийся бинарный код в основном использовался в лесбийской среде, и то не повсеместно, в последние годы наблюдается проникновение лесбийского стиля в мейнстрим и упрочение позиций лесбиянок в медиасфере и популярной культуре. Лесбийская садомазохистская субкультура («фемина и буч») сегодня находит продолжение в тренде «leather lesbian» («лесбиянка в коже»), существующем наряду с более раскрученным средствами массовой информации стилем «lipstick lesbians» («напомаженные лесбиянки»).


