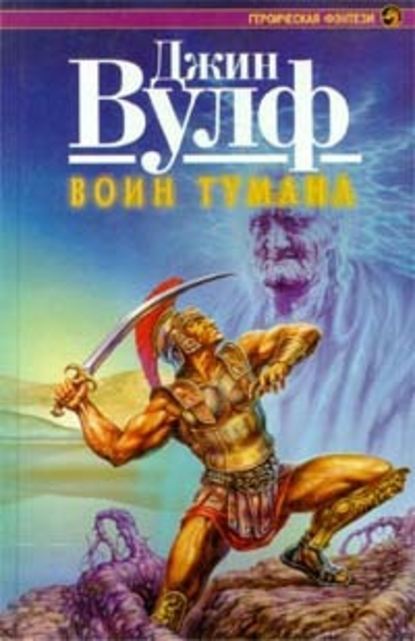- Рейтинг Литрес:4.3
- Рейтинг Livelib:3.9
Полная версия:
Джин Вулф Меч и Цитадель
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Джин Вулф
Меч и Цитадель
Gene Wolfe
The Sword of the Lictor
Copyright © 1981 by Gene Wolfe
Gene Wolfe
The Citadel of the Autarch
Copyright © 1982 by Gene Wolfe
© Д. Старков, перевод на русский язык, 2022
© М. Назаренко, послесловие, 2022
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022
Меч ликтора
Уходят вдаль людских голов бугры,Я уменьшаюсь там, меня уж не заметят,Но в книгах ласковых и в играх детворыВоскресну я – сказать, как солнце светит…Осип МандельштамI. Владыка Дома Оков
– Не по себе мне там было, Севериан, очень не по себе, – призналась Доркас. – Стою я под этаким водопадом в жарко-жарко натопленной комнате… не знаю, может, в мужской половине иначе устроено? И всякий раз, как выступлю из-под него, слышу их пересуды – обо мне. О нас. Тебя называют черным мясником, душегубом и еще много кем… не хочу пересказывать.
– Это вполне естественно, – ответил я. – Скорее всего, до тебя здесь людей новых, со стороны, месяц, а то и больше не видели, так стоит ли удивляться, если местные только о тебе и судачат, а пара женщин, знающих, кто ты, горды этим настолько, что небылицы начинают выдумывать? Что до меня, я к такому давно привык, и по пути сюда ты наверняка много раз слышала нечто похожее – я-то уж точно слышал.
– Верно, слышала, – согласилась Доркас, присаживаясь на каменный выступ под амбразурой.
Внизу, под стеной, раскинулся город. Загоравшиеся один за другим фонари множества лавок мало-помалу наполняли долину Ациса нежным, желтоватым, точно лепестки жонкиля, сиянием, однако Доркас их словно бы не замечала.
– Теперь ты, думаю, понимаешь, отчего устав нашей гильдии запрещает жениться, хотя этим пунктом я, как уже много раз говорил, ради тебя готов поступиться в любой момент, только пожелай.
– То есть мне лучше жить где-то еще, а тебя навещать всего раз или два в неделю или ждать, пока ты сам не придешь повидаться?
– Именно так обычно и делается. Ну а женщины, судачившие о нас сегодня, со временем поймут, что однажды сами – либо их мужья, либо сыновья – тоже могут угодить ко мне в руки.
– Нет же, пойми: все это, в общем, вздор. Главное…
На сем Доркас умолкла, а после довольно долгого молчания встала и принялась расхаживать взад-вперед, крепко обхватив ладонями прижатые к груди локти. Подобного я за ней прежде не замечал никогда и не на шутку встревожился.
– Так что же главное? – спросил я.
– Что все это прежде было неправдой, а вот сейчас – правда.
– Но я прибегал к Искусству всюду, где для меня находилась работа. Исполнял приговоры городских и деревенских судов. И ты не раз глядела на меня из окна, хотя в толпе, среди зевак, тебе не нравилось – в чем я тебя понимаю вполне.
– Я не смотрела, – возразила Доркас.
– А я помню, что видел тебя.
– Однако я не смотрела. Не смотрела, как все это происходит. А ты, сосредоточившийся на казни, не видел, как я ухожу от окна или прикрываю глаза ладонью. Обычно я любовалась тобой, махала тебе, когда ты в самом начале вспрыгивал на эшафот. В эти минуты ты так гордился собой, держался прямее собственного меча, так был прекрасен… прекрасен и честен. Помнится, однажды рядом с тобой стояли какой-то чиновник, приговоренный и иеромонах – и только твое лицо казалось честным, открытым.
– Вот моего лица ты видеть никак не могла. Я ведь неизменно выхожу на эшафот в маске.
– А мне, Севериан, и не нужно было его видеть. Я просто знала, как ты выглядишь.
– Разве сейчас я выгляжу как-то иначе?
– Нет, – нехотя подтвердила Доркас. – Но я же спускалась туда и видела там, в подземельях, людей, закованных в цепи. И сегодня мы с тобой, уснув в мягкой постели, будем спать прямо над ними. Сколько их, ты говорил, когда водил меня вниз?
– Около тысячи шестисот. Но неужели ты всерьез веришь, будто эти тысяча шестьсот человек оказались бы на свободе, не будь здесь их стража, меня? Вспомни: в подземелья их бросили задолго до нашего появления.
Но Доркас упорно смотрела куда угодно, только не на меня. Плечи ее заметно подрагивали.
– Будто огромная общая усыпальница, – сказала она.
– Так оно и есть, – подтвердил я. – Конечно, архонт мог бы освободить их, но кто воскресит тех, кого они погубили? Тебе ведь еще не доводилось терять близких?
Доркас молчала, словно о чем-то задумавшись.
– Спроси жен, матерей и сестер тех, чьи тела наши пленники оставили гнить там, наверху, не следует ли Абдиесу отпустить их.
– Только саму себя, – отрешенно проговорила Доркас и задула свечу.
Тракс – все равно что кривой кинжал, вогнанный в сердце гор. Расположенный в нешироком дефиле долины Ациса, он тянется вдоль реки кверху, до самого замка Акиэс. Все ровное место от замка до стены (называемой Капул), замыкающей узкую часть долины внизу, занимают арена, пантеон и прочие общественные здания. Постройки частные взбираются вверх по обоим склонам, причем многие их помещения выдолблены прямо в скале; из-за этого-то обыкновения Тракс и удостоен одного из своих прозваний – Град Без Окон.
Преуспеянием город обязан местоположению: находится он в самом конце судоходной части реки. Здесь, в Траксе, все товары, перевозимые на север по Ацису (многим из коих пришлось преодолеть девять десятых протяженности Гьёлля, прежде чем достичь устья его рукава, а может, и истинного истока), необходимо выгружать на берег и, если нужно, везти далее на спинах вьючных животных. Гетманам горных племен и местным помещикам, желающим отправлять по воде в южные поселения шерсть и кукурузу, также приходится везти товары в Тракс и нанимать под них баржи здесь, ниже ревущих порогов, увенчанных арчатым водосливом замка Акиэс.
Крепость в немирных, неспокойных краях – неизменный оплот и символ закона, и посему главной заботой городского архонта было отправление правосудия. Дабы диктовать свою волю живущим вне городских стен (а в ином случае те вполне могли бы и воспротивиться), он располагал семью эскадронами димархиев, каждый из коих возглавлял собственный командир. Судебные слушания устраивались ежемесячно, от первого появления на небе новой луны до наступления полнолуния. Открывались они в начале второй стражи утра и продолжались сколько потребуется, до исчерпания дневного реестра подлежащих разбирательству дел. Мне, главному исполнителю приговоров архонта, вменялось в обязанность присутствовать на заседаниях (таким образом, архонт мог быть уверен, что передающие мне его распоряжения не смягчат и не ужесточат назначенных им наказаний), а еще я распоряжался всеми делами, касавшимися содержания заключенных в Винкуле. Иными словами, исполнял я, пусть в несколько меньшем масштабе, те же обязанности, что и мастер Гюрло у нас, в Цитадели, и первую пару недель, проведенных в Траксе, служба давалась мне нелегко.
Одна из максим мастера Гюрло гласила: идеально устроенных тюрем на свете нет. Подобно большинству банальных мудростей, высказываемых в назидание молодым, эта была совершенно неоспорима, но и в высшей степени бесполезна. Из тюрем от веку бегут тремя, всего тремя способами: тайком, силой либо благодаря измене тех, кто поставлен их охранять. Отдаленность мест заключения затрудняет тайное бегство надежнее всего – по этой причине ее и предпочитает любой, много думавший над данным вопросом.
К несчастью, пустыни, вершины гор и уединенные острова являют собой наиболее благодатную почву для побегов, совершаемых с помощью грубой силы: если тюрьма осаждена друзьями заключенных, узнать о сем факте вовремя весьма затруднительно, а усилить ее гарнизон присланными подкреплениями практически невозможно; если же бунт поднят самими заключенными, войскам также вряд ли удастся подоспеть к месту происшествия до завершения дела.
Устройство тюрьмы в густонаселенных и хорошо охраняемых землях позволяет избежать этих трудностей, однако порождает другие, куда серьезнее. Для побега из таковой заключенному достаточно помощи не тысячи, а всего-навсего одного-двух друзей, причем не обязательно умелых бойцов – вполне сойдет и поденщица-поломойка, и уличный лоточник, хватило бы им только ума да решимости. Мало этого: едва оказавшись за стенами тюрьмы, заключенный немедля затеряется в безликой толпе, и чтобы снова схватить его, потребуются уже не охотники с собаками, а соглядатаи и доносчики.
В нашем случае об обособленной тюрьме в отдаленных местах не могло быть и речи. Даже если придать в помощь тюремщикам-клавигерам гарнизон, достаточный для отражения набегов автохтонов, зооантропов и культеллариев, рыщущих за городом, не говоря уж о вооруженных дружинах мелких экзультантов (на каковых никогда ни в чем нельзя положиться), снабжение подобной тюрьмы не обойдется без целого войска для сопровождения обозов с припасами. Таким образом, Винкулу властям Тракса, за неимением выбора, пришлось поместить в городских стенах, а именно – примерно посредине склона долины на западном берегу, этак в полулиге, или около того, от Капула.
Древней постройки, Винкула неизменно казалась мне предназначенной под тюрьму изначально, хотя, согласно легенде, некогда строилась как гробница, а расширена и перестроена для новой цели была всего две-три сотни лет тому назад. Для наблюдателя с более удобного, просторного восточного берега она выглядела словно прямоугольный бартизан, торчащий из камня, с фасадом четырех этажей в высоту и плоской, окаймленной зубцами крышей, примыкающей дальним краем к отвесной скале. Эта видимая часть тюрьмы, которую многие гости города наверняка полагают всей тюрьмой целиком, на деле – лишь крохотная, самая незначительная ее доля. Во времена моего ликторства там находились только кабинеты чиновников, казармы для клавигеров да мои собственные жилые покои.
Заключенные размещались в наклонной штольне, уходящей глубоко в толщу камня. Держали их не в отдельных камерах-одиночках, как наших клиентов, обитателей подземелий моей родной башни, но и не в общем зале, с каким мне довелось столкнуться в Обители Абсолюта, побывав в заключении самому. Здесь заключенных в прочных железных ошейниках приковывали вдоль стен штольни на цепи, а посредине оставляли достаточно места, чтоб двое клавигеров могли пройти между подопечными бок о бок, не опасаясь кражи вверенных им ключей.
Длина штольни – около пяти сотен шагов – позволяла разместить в ней тысячу с лишним заключенных. Вода вниз поступала из резервуара, вмурованного в камень на вершине утеса, а избыток ее всякий раз, как резервуару угрожало переполнение, ополаскивал штольню от начала до конца. Канализационный колодец, пробитый в нижней ее части, отводил нечистоты в трубу, тянувшуюся от подножья скалы за стену Капула, а там, ниже города по течению, нечистоты сливались в Ацис.
Должно быть, некогда, изначально, из прямоугольной башенки прилепившегося к скале бартизана да этой вот самой штольни состояла вся Винкула. Впоследствии к ней прибавилось множество ветвящихся галерей и параллельных штолен – результатов многочисленных попыток освободить заключенных, пробив в подземелья туннель из той или иной частной резиденции на склоне утеса, а также рытья контрмин, призванных сии попытки предотвратить – ныне также используемых для размещения заключенных.
Все эти скверно продуманные (а то и не продуманные вообще) дополнения изрядно усложняли порученную мне задачу, и посему первым моим свершением в должности ликтора стало начало избавления от ненужных и нежеланных проходов путем заполнения оных смесью речной гальки, песка, щебня и негашеной извести с водой, вкупе с расширением и соединением меж собою оставшихся коридоров таким образом, чтобы в итоге сообщить подземельям должную рациональность. Увы, работы эти, при всей их необходимости, продвигались вперед крайне медленно, поскольку освободить для их исполнения более двух-трех сотен заключенных одновременно возможным не представлялось, да и состояние их здоровья оставляло желать много лучшего.
В течение первой пары недель после того, как мы с Доркас прибыли в Тракс, все мое время без остатка пришлось посвятить делам службы. Таким образом, осваиваться на новом месте за нас обоих выпало Доркас, а я строго-настрого наказал ей повсюду, где только возможно, расспрашивать о Пелеринах. Весь долгий путь от Несса до Тракса я ни на минуту не забывал, что Коготь Миротворца по-прежнему при мне, и память о нем весьма меня тяготила. Теперь же, когда путешествие подошло к концу и я лишился возможности попутно искать следы Пелерин и даже успокаивать себя заверениями, будто наши пути когда-нибудь, с течением времени, непременно пересекутся, бремя сие сделалось просто невыносимым. В дороге я спал под звездным небом, пряча самоцвет за голенищем, а при тех редких оказиях, когда нам случалось заночевать под крышей, – в носке сапога. Здесь, в Траксе, я обнаружил, что вовсе не способен уснуть, если он не со мной, если я, проснувшись посреди ночи, не могу сразу же убедиться, что камень никуда не исчез. В конце концов Доркас сшила мне для него мешочек-ладанку из тонкой кожи, и эту ладанку я не снимал с шеи ни днем ни ночью. Не менее дюжины раз в течение тех первых недель мне снилось, будто камень пылает огнем, паря надо мною в воздухе, точно горящий собор, ему же и посвященный, а после, проснувшись, я обнаруживал, что Коготь испускает ослепительный свет, различимый даже сквозь тонкую кожу. Вдобавок каждую ночь я раз, а то и два просыпался лежащим навзничь, оттого что ладанка на груди казалась такой тяжелой, словно вот-вот раздавит меня насмерть, хотя ее не составляло никакого труда поднять двумя пальцами.
Доркас заботилась обо мне, помогала, чем только могла, однако я прекрасно видел, что резкая перемена в связующих нас отношениях не прошла для нее незамеченной и тревожит ее куда сильней, чем меня. Согласно моему опыту, подобные перемены приятными не бывают – хотя бы лишь потому, что, весьма вероятно, влекут за собою дальнейшие перемены. Путешествуя вместе (а путешествовали мы с большей или меньшей расторопностью с той самой минуты в Саду Непробудного Сна, когда Доркас помогла мне, едва не захлебнувшемуся, выбраться на наплавную тропку из примятой осоки), мы были равными, товарищами, преодолевавшими каждую пройденную лигу на собственных ногах или на собственном скакуне. Если я в какой-то мере и служил ей защитой, то Доркас в той же степени служила мне моральной опорой, ибо немногим удавалось подолгу изображать презрение к ее невинной красоте либо вслух ужасаться моему роду занятий, глядя на меня и – хочешь не хочешь – видя рядом ее. Доркас была мне советницей в минуты растерянности и верной спутницей в сотне безлюдных земель.
Когда же мы наконец вошли в Тракс и я вручил городскому архонту рекомендательное письмо от мастера Палемона, все это, разумеется, естественным образом завершилось. Мне в одеяниях цвета сажи более ни к чему было опасаться уличных толп – напротив, встречные трепетали передо мной, главой самой жуткой ветви законной власти, а Доркас ныне жила в отведенных мне комнатах Винкулы на правах не равной, но всего лишь «возлюбленной», как некогда называла ее кумеянка. Советы ее сделались практически бесполезными, поскольку возникавшие передо мной трудности касались только юриспруденции да управления, и преодолению их меня учили не один год, тогда как Доркас не смыслила в них ни аза, а у меня нечасто находились время и силы для объяснений и обсуждений.
Посему, пока я выстаивал стражу за стражей рядом с архонтом в зале суда, Доркас завела обычай бродить по городу, и мы, не разлучавшиеся до самого конца весны, теперь, с наступлением лета, друг друга почти не видели – разве что ужинали вместе по вечерам, а после, усталые донельзя, отправлялись в постель, где чаще всего попросту засыпали, обнявшись.
И вот наконец в небесах засияла полная луна. С какой же радостью смотрел я на нее – окутанную изумрудно-зеленой мантией леса, округлую, словно ободок кружки, – с крыши бартизана! Конечно, до полной свободы было еще далеко, поскольку за время, проведенное в зале суда, дел, касавшихся совершения казней и содержания заключенных, у меня накопилось немало, но теперь я, по крайней мере, мог посвятить им себя целиком, а это казалось немногим хуже настоящей свободы. На следующий же день я пригласил Доркас с собой, на осмотр подземных частей Винкулы.
Пригласил… и совершенно напрасно. Среди жуткой вони, при виде убогого положения заключенных ей сразу же сделалось дурно. В тот вечер – о чем я уже вспоминал – она созналась, что ей пришлось отправиться в публичные бани (для Доркас, из-за боязни воды моющейся по частям, губкой, смачиваемой в миске не глубже суповой, случай крайне редкий), чтоб смыть с волос и кожи зловоние штольни, и там она слышала, как банщицы сплетничают о ней с прочими посетительницами.
II. Над порогами
На следующее утро, прежде чем покинуть бартизан, Доркас остригла волосы так коротко, что сделалась похожей на мальчишку, а за удерживавший их обруч заткнула белый цветок пиона. Я до полудня трудился над бумагами, а после, одолжив у сержанта подчиненных мне клавигеров мирскую джеллабу, тоже отправился в город, в надежде случайно столкнуться с ней.
Книга в коричневом переплете, хранящаяся в моей ташке, утверждает, будто на свете нет ничего удивительнее знакомства с городом, ни в чем не похожим на известные тебе города, поскольку сие все равно что знакомство с новой, совершенно неожиданной стороной себя самого. Мне удалось обнаружить нечто еще более дивное – знакомство с подобным городом после того, как прожил в нем какое-то время, так ничего о нем и не узнав.
К примеру, я знать не знал, где находятся упомянутые Доркас бани, хотя из разговоров, услышанных мною в зале суда, следовало, что в городе таковые есть. Не знал я и где расположен базар, на котором она покупала одежду с косметикой, и даже не смог бы сказать, один он в городе или нет… короче говоря, знакомо мне было лишь то, что я мог видеть из амбразуры да на недолгом пути от Винкулы до дворца архонта. Возможно, я слишком полагался на собственную способность быстро освоиться в городе много меньшем, чем Несс, однако ж, шагая по кривым улочкам, тянувшимся вниз со склона, к реке, между домами-пещерами, вырубленными в скале, и домами, прилепившимися к ней на манер ласточкиных гнезд, не забывал время от времени оборачиваться, дабы удостовериться, что позади все еще виден знакомый силуэт бартизана, и рогатки у его ворот, и черный гонфалон, реющий над зубцами.
В Нессе кто побогаче селятся ближе к северу города, где воды Гьёлля чище, а кто победнее живут на юге, где Гьёлль зловонен и грязен. Здесь, в Траксе, такого обычая не установилось: во-первых, Ацис столь быстр, что испражнения живущих выше по течению (составляющих, разумеется, едва ли тысячную долю от числа обитателей северной части столицы) практически не загрязняют реки, а во-вторых, вода, подающаяся в общественные колодцы и особняки богатеев по акведукам, берется выше порога, так что полагаться на реку приходится только тем, кому требуется очень много воды – к примеру, владельцам мануфактур либо крупных прачечных.
Таким образом, в Траксе богатых от бедных отделяет иная граница – высота проживания. Самые состоятельные живут у подножия склонов долины, возле реки, откуда проще всего добираться до лавок и присутственных мест: недолгая пешая прогулка до пристаней, а там разъезжай себе вдоль города в каике с рабами на веслах сколько душа пожелает. Чуть выше уровнем расположены дома менее преуспевающих горожан, над ними – жилища людей среднего достатка, и так далее, и так далее, до самых бедных, обретающихся под стенами укреплений на гребнях утесов, нередко – в крытых соломой хакалях из глины и тростника, до которых можно добраться лишь по лестницам вроде трапов несусветной длины.
Впрочем, знакомство с убожеством этих хижин ожидало меня впереди, а пока что я оставался в пределах торгового квартала у самого берега. Здесь, на узеньких улочках, толпилось столько народу, что мне поначалу подумалось, будто сегодня какой-то праздник или, может, война – из Несса казавшаяся невообразимо далекой, но придвигавшаяся все ближе и ближе по мере того, как мы с Доркас следовали на север, – уже совсем близка, отчего город и заполонен беженцами.
Несс так обширен, что там, насколько я слышал, на каждого из живущих приходится по пять зданий. В Траксе сие соотношение, несомненно, противоположно, а в тот день мне и вовсе временами казалось, будто на каждую из крыш вокруг должно приходиться не меньше пятидесяти человек. Вдобавок Несс – город множества наций, однако, видя на улицах множество иноземцев, а порой даже какогенов, прибывающих на кораблях из иных миров, там всегда сознаешь, что они – иноземцы, гости, вдали от родины. Здесь улицы кишели самыми разными представителями рода людского, но все они попросту отражали разнообразие горных племен, и если навстречу мне попадался, к примеру сказать, человек в шляпе из птичьей шкурки (с крыльями, прикрывающими уши), или человек в косматой шубе из шкур каберу, или человек с татуированным лицом, за ближайшим углом вполне могла оказаться еще хоть сотня его соплеменников.
Все эти люди были эклектиками, потомками поселенцев с юга, смешавших кровь с коренастыми темнокожими автохтонами, воспринявшими их уклад, к которому добавились обычаи, перенятые от амфитрионов, живущих еще дальше к северу, а порой и от еще менее известных народов, купцов либо парохиальных рас.
Многие из местных эклектиков предпочитают ножи иcкривленной формы – или, как их порой называют, изогнутые (два относительно прямых «колена»; второе, сведенное к острию, слегка под углом относительно первого). Говорят, таким клинком, вонзив его под грудину, проще поразить сердце, а сам клинок посредине снабжен ребром жесткости, заточен с обеих сторон, обыкновенно – до бритвенной остроты, гарды нет, а рукоять чаще всего выточена из кости. (Эти ножи я описываю так подробно, потому что они – одна из самых характерных черт здешних земель, а еще именно из-за них Тракс получил другое свое прозвание – Город Кривых Ножей. Вдобавок план города имеет явное сходство с клинком такого ножа: изгиб дефиле соответствует изгибу клинка, русло Ациса – продольному ребру жесткости, замок Акиэс – острию, а Капул – той линии, где сталь исчезает в костяной рукояти.)
Один их смотрителей Медвежьей Башни как-то раз говорил, что на свете нет зверя столь же опасного, столь же дикого и вздорного, как метисы, рожденные волчицей, покрытой псом бойцовой породы. Все мы привыкли считать дикими зверей, обитающих в лесах и горах, и народы, словно бы взросшие на их почве, полагаем не меньшими дикарями. Однако на деле в некоторых домашних животных (которых мы наверняка поостереглись бы, кабы не настолько привыкли к ним) таится дикость куда более жуткая, несмотря на то что они неплохо понимают речь человека, а некоторые даже способны выговорить пару-другую слов; а в людях, мужчинах и женщинах, чьи предки жили в больших городах с самой зари человечества, также коренится куда более основательная, всепоглощающая дикость натуры. К примеру, Водал, в чьих жилах течет ничем не оскверненная кровь тысячи экзультантов – экзархов, этнархов и войтов, – отнюдь не гнушался жестокостей, непредставимых для автохтонов, расхаживающих по улицам Тракса нагими, если не считать домотканых плащей из шерсти гуанако.
Подобно волкособам (которых я никогда в жизни не видел, поскольку они слишком злобны, чтоб приносить хоть какую-то пользу), местные эклектики унаследовали от предков разных кровей все самое дурное, всю их жестокость и необузданность: будучи друзьями либо сподвижниками, они строптивы, вероломны и вздорны, будучи же врагами – свирепы, коварны и мстительны. По крайней мере, так отзывались о них мои подчиненные из Винкулы – ведь более половины заключенных в ее подземельях составляют именно эклектики.
Встречаясь с мужчинами, говорящими, одевающимися, держащимися по-иноземному, я всякий раз начинаю строить догадки о природе женщин их расы. Связь между ними имеется непременно, поскольку и те и другие взращены единой культурой, подобно листьям дерева, видимым наблюдателю, и прячущемуся за ними плоду, коего наблюдатель не видит. То и другое также взращено одним и тем же живым организмом, однако наблюдатель, отважившийся судить о внешнем виде и вкусе плода по очертаниям пары поросших пышной листвой ветвей, наблюдаемых (если можно так выразиться) с изрядного расстояния, должен обладать весьма обширными знаниями о листьях и о плодах, дабы не выставить себя на посмешище.
Воинственные мужчины вполне могут быть рождены слабыми, хрупкими женщинами и даже иметь сестер почти столь же сильных, как сами, и куда более решительных. Посему я, прогуливаясь среди толп, по большей части состоящих из местных эклектиков и горожан (на мой взгляд, отличавшихся от жителей Несса разве что одеждой попроще да манерами слегка грубее), невольно принялся рисовать в мыслях образы кареглазых, темнокожих женщин; женщин с глянцевито блестящими черными волосами, густыми, словно хвосты пегих скакунов их братьев; женщин с волевыми, однако прекрасными лицами; женщин, склонных к яростному сопротивлению и быстрой капитуляции; женщин, которых можно завоевать, однако нельзя купить – если подобные женщины существуют в нашем мире хоть где-нибудь.