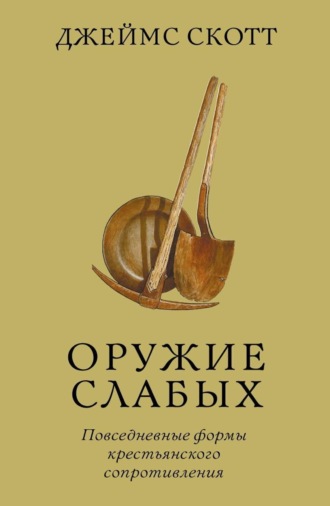
Джеймс Скотт
Оружие слабых. Повседневные формы крестьянского сопротивления
James C. Scott
Weapons of the Weak
Everyday Forms of Peasant Resistance
* * *
All rights reserved
© James С. Scott, 1985
© ООО «Книгократия», 2025
Предисловие переводчика
«Оружие слабых» в антураже глобальной смерти деревни
Великий американский антрополог и политолог Джеймс Кэмпбелл Скотт (1936–2024) не дожил всего несколько месяцев до выхода российского издания своей книги «Оружие слабых» – самой ранней из его работ, на сегодняшний день опубликованных на русском языке[1]. Автор этого предисловия не раз переводил важнейшие для современного социально-гуманитарного знания тексты, слишком долго искавшие путь к русскоговорящему читателю, но, пожалуй, ни разу ещё у меня не было ощущения, что книга, которая ждала своего часа много лет, выходит настолько своевременно. Всё дело в том, что сегодня многие процессы, которые Скотт – выдающийся крестьяновед, по определению Теодора Шанина, – на рубеже 1970–1980-х годов в небольшой деревне на севере континентальной части Малайзии, дошли до своего логического завершения уже в глобальном масштабе, и эта временнáя дистанция лишь подтвердила, что «Оружие слабых» – одна из тех парадигматических работ, смыслы которых только обогащаются по мере того, как момент их написания всё дальше уходит в прошлое. Если здесь допустима такая аналогия, то книгу Скотта можно сравнить с лучшими винами, которые добираются до пика своих свойств далеко не сразу, поэтому их не стоит пить в молодом возрасте. Сейчас, кажется, самое время наконец открыть эту работу, чтобы прочесть её в духе русской революционно-демократической критики середины XIX века, ставя во главу угла не банальное «что хотел сказать автор?», а куда более интересный вопрос: что сказалось по прошествии почти полувека?
«Оружие слабых», в оригинале вышедшее в 1985 году, во многом было продолжением предшествующей книги Скотта «Моральная экономика крестьянства» (1976), которая принесла ему репутацию талантливого исследователя. Но если в этой работе с подзаголовком «Восстания и средства к существованию в Юго-Восточной Азии» Скотт обращался к насильственным формам крестьянского сопротивления, то в «Оружии слабых», написанном по итогам четырнадцати месяцев включённого наблюдения автора за жизнью малайских крестьян, рассматривается противоположная стратегия. Волокита, притворство, неисполнение обязательств, нарочитое следование правилам, мелкие хищения, дуракаваляние, оговоры, поджоги, вредительство – вот лишь некоторые её формы, совершенно рутинные для крестьян не только в Малайзии, но редко попадавшие в фокус исследователей до появления книги Скотта. Кстати, стоит сказать пару слов о том, почему именно Малайзия. В 1960-х годах, когда Скотт учился в аспирантуре в Йеле, эта страна была чуть ли не самой безопасной для проведения исследований в Юго-Восточной Азии – регионе, который Скотт выбрал для себя еще в студенческие годы в Уильямс-колледже в Массачусеттсе. В соседней Индонезии последние годы правления президента Сукарно были ознаменованы кровавыми репрессиями против коммунистов, во Вьетнаме шла в ой на – Малайзия же тем временем демонстрировала явные успехи в «догоняющем развитии». Поэтому для полевых исследований Скотт отправился именно туда, а в 1967 году защитил докторскую о политической идеологии, основанную на интервью с малайзийскими политиками и чиновниками.
Основная посылка «Оружия слабых» предельно проста: крупные формы открытого крестьянского сопротивления – восстания или войны – представляют собой достаточно редкие феномены, возникающие после того, когда все остальные средства исчерпаны, или, грубо говоря, когда допекло. Проверить эту гипотезу очень просто. В самом деле, сколько масштабных крестьянских восстаний в Западной Европе можно вспомнить за последнюю тысячу лет, если извлечь из глубин памяти школьный курс зарубежной истории? Ответ: не больше пяти – французская Жакерия, восстание Уота Тайлера в Англии, Крестьянская вой на в Германии начала XVI века и «Великий страх» 1789 года, когда французские крестьяне после взятия Бастилии принялись громить замки сеньоров и делить землю. Вот, кажется, и почти всё, причём эти выступления длились в лучшем случае пару лет и преимущественно были разгромлены. Спрашивается: неужели крестьяне не сопротивлялись притеснениям всё остальное время? Конечно же, сопротивлялись – только формы этого сопротивления по большей части не становились фактами письменной истории, слишком уж мелкими они казались для её летописцев, в подавляющем большинстве горожан. Изначально на этот пробел в историографии обратил внимание, естественно, не Скотт: ещё в первой половине прошлого столетия великий французский историк, один из основателей школы «Анналов» Марк Блок указывал, что крупные крестьянские движения были лишь единичными событиями в сравнении с той «терпеливой и молчаливой борьбой, которую упорно вели сельские общины». Однако именно Скотту принадлежит честь едва ли не первого систематического описания этих форм сопротивления, причём в тот момент, когда крестьянство столкнулось с куда более опасным, чем феодальные сеньоры и даже глобальный капитализм, противником – с так называемым «государством развития».
* * *
Непосредственным макросюжетом книги Скотта является «зелёная революция» – совокупность процессов повышения производительности в сельском хозяйстве, развернувшихся во второй половине ХХ века преимущественно в странах глобальной периферии (в книге Скотта, написанной до распада СССР, используется более привычный на тот момент термин «Третий мир»). Эта фундаментальная трансформация аграрного сектора, основанная на внедрении новой техники наподобие уборочных комбайнов, новых технологий типа химизации и осуществлении грандиозных инфраструктурных проектов, сначала внесла свою лепту в быстрый рост мировой экономики после Второй мировой войны, а затем, когда эта волна была исчерпана, привела к резкому снижению глобальных цен на продовольствие[2]. Окончательную победу над голодом в масштабе планеты одержать так и не удалось, однако это был уже не тот «Царь-голод», который неотступно сопровождал человечество на протяжении тысячелетий – для десятков миллионов людей, прежде всего в небогатых странах, «зелёная революция» стала решением экзистенциального вопроса повседневного выживания. Этот момент в книге Скотта зафиксирован вполне чётко: в малайской деревне, где он проводил полевое исследование, опасность настоящего голода уже не угрожала никому, даже самым бедным – и это, конечно же, была типовая ситуация рубежа 1970-1980-х годов для тысяч деревень по всему миру.
Однако у «зелёной революции» была и обратная сторона – разрушение социального мира деревни. Этот процесс, представленный в «Оружии слабых» в мельчайших деталях, в течение ничтожного для истории промежутка – каких-то трёх-четырёх десятилетий – обернулся фактической смертью деревни, которую мы наблюдаем сегодня в глобальном масштабе. Чтобы это утверждение не выглядело голословным, обратимся к сравнительным данным о структуре населения малайского штата Кедах, где находится описанная Скоттом деревня с условным названием Седака. Ещё в 2000 году, согласно данным переписи населения страны, доля городского населения в этом классическом аграрном регионе, неофициально именуемом «чашкой риса Малайзии», составляла 39,3 %, однако два десятилетия спустя этот показатель увеличился до 67,3 %, лишь немного не дотянув до среднего по стране (около 75 %)[3]. Процесс необратим: вернуться в прошлое, где подавляющая масса людей жила в деревнях, уже не получится – ни в отдельном взятом штате Кедах, ни во всём мире. Поэтому сегодня «Оружие слабых» читается именно в контексте окончательного распада тысячелетнего аграрного уклада жизни, первые симптомы которого Скотт диагностировал на, казалось бы, совершенно частном примере деревни с несколькими десятками семей.
С чисто исследовательской точки зрения, Скотту сильно повезло, поскольку за десятилетие до него в той же самой деревне успел поработать японский экономист Кензо Хории, сделавший весьма подробное описание её структуры землепользования еще до начала «зелёной революции». Данные куда более подробного исследования, которое провёл Скотт (не поленитесь погрузиться в таблицы в основном тексте и приложениях – это как раз тот случай, который описывается расхожим штампом «говорящие цифры»), продемонстрировали, что всего за несколько лет в Седаке произошла ещё одна аграрная революция.
К концу 1970-х годов деревенские бедняки практически оказались в ловушке безземелья, из которой просматривался только один магистральный выход – перебираться в город без особых шансов вырваться из бедности и там. А что касается зажиточных крестьян-рисоводов, располагавших приличными земельными ресурсами и работавших на коммерческий рынок, то они не просто кратно увеличили свои доходы. Теперь, благодаря механизации и сузившемуся рынку труда, они могли, по сути, обходиться без своих не столь благополучных односельчан, которые стремительно маргинализировались в деревенском социуме, где главной ценностью некогда была классовая солидарность. Унижение от безделья – что может быть хуже для человека, чья жизнь наполнялась смыслом благодаря труду? А вместе с трудом утрачивался доступ и к другим основным факторам производства – земле и капиталу, а главное, к ощущению социального достоинства, которое не зависит от того, сколько денег у тебя в кармане или на счету.
Вот почему бедные крестьяне – если они принимали решение остаться в деревне – могли полагаться лишь на тактику пассивного сопротивления. В ситуации, когда почти никаких рычагов активного экономического воздействия у них больше не было, единственным инструментом в их распоряжении оставалась прежняя система репутаций и уважения. Но и эта традиционалистская реакция в условиях полной перестройки социальных отношений изначально была лишь временным решением. Оснований для уверенности в том, что бедняки Седаки (читай: всего аграрного сектора глобальной периферии) смогут существенно улучшить свои материальные перспективы в деревне, констатирует Скотт уже в начале книги, было мало, – зато имелись все основания рассчитывать на то, что эти люди окажутся проигравшими, как и миллионы крестьян до них.
На первый взгляд, всё это сильно напоминает предшествующие исторические сюжеты о приходе капиталистических отношений в сельскую местность – например, формирование аграрных латифундий в Латинской Америке в XIX столетии, когда сгон с земли обернулся для крестьян социальной катастрофой. Однако, подчёркивает Скотт, эта историческая аналогия в случае Малайзии не вполне уместна. В отличие от Латинской Америки, где крупным латифундистам противостояла огромная масса обездоленных крестьян (что в конечном итоге внесло немалый вклад в Мексиканскую революцию начала ХХ века), структура землевладения и землепользования в Кедахе была куда более диверсифицированной, а возможности для концентрации земель в руках немногих хозяев были очень ограниченными. Свои «социальные бандиты», используя термин Эрика Хобсбаума, в Малайзии, конечно, были, но ни один из них и близко не напоминал легендарных Панчо Вилью и Эмилиано Сапату.
Более сложной представляется параллель между стремительным приходом капитализма в Седаку и пролетаризацией английского крестьянства во времена Промышленной революции XVIII века – здесь я бы позволил себе домыслить эту аналогию, к которой не раз обращается Скотт. Сравнение ситуации, в которой оказались бедные малайские крестьяне в 1970-х годах, с ранним индустриальным капитализмом в Англии требует более углублённого анализа, позволяющего сделать ряд концептуальных выводов о макроисторической трансформации самой капиталистической системы. Отдельные черты сходства наподобие борьбы с машинами как главным источником бедствий и попытками организации труда – свои луддиты и протопрофсоюзные активисты в Седаке, разумеется, присутствовали – не должны заслонять главное: в эти периоды у капитализма были принципиально разные ключевые акторы.
Британским властям два-три столетия назад, наверное, и в голову не приходило, что концептуальной задачей их деятельности является развитие в том специфическом смысле, который это понятие приобрело в ХХ столетии с подъёмом доктрины девелопментализма, подразумевающей, что менее развитые страны могут догнать – а то и перегнать – страны, ушедшие в своём развитии далеко вперед. Такая постановка проблемы в самом деле содержит отдельный вопрос: было ли развитие – понимаемое прежде всего как ускоренное развитие – осознанной задачей «архитекторов» раннего капитализма? Скорее всего, нет – и здесь достаточно привести лишь одну цитату из, пожалуй, главного экономического текста той эпохи – «Богатства народов» Адама Смита. Во введении к своему трактату он указывал, что предметом исследования в его первой части будут «причины прогресса в области производительности труда и порядок, в соответствии с которым его продукт естественным образом распределяется между различными классами и группами людей в обществе»[4]. Слово «естественный» я выделил курсивом неслучайно. Если в территориях глобального капиталистического ядра экономические успехи были действительно достигнуты во многом естественным образом – во всяком случае, без пресловутых планов или долгосрочных стратегий развития, – то не успевшим вскочить на этот поезд вовремя пришлось предпринимать не столь уж естественные усилия по развитию, инициированные «благими намерениями государства», цитируя заглавие, пожалуй, самой известной работы Джеймса Скотта[5].
В интервью, которое автор этого предисловия однажды взял у Вячеслава Глазычева, ныне покойный мэтр российской урбанистики обронил такую фразу: «Управлять развитием, честно говоря, ещё никто не научился»[6] – именно о ней стоит помнить, пытаясь ответить на вопрос о том, почему эти самые благие намерения государства зачастую либо заканчиваются крахом, либо приводят к совершенно иным, незапланированным результатам[7]. Доктрина девелопментализма, исходившая из представления о человеке прежде всего как о homo economicus, предполагала, что ускорение развития может быть обеспечено при помощи копирования технологий и лучших практик – были бы деньги у государства как главного инициатора и субъекта развития, – а управление развитием возьмут на себя соответствующие государственные институты во главе с веберовскими рациональными бюрократами. Однако реальность оказалась гораздо сложнее – анализу этой проблемы, собственно, и посвящено «Оружие слабых», равно как и остальные главные работы Скотта.
Государственные инвестиции в создание в Кедахе ирригационной инфраструктуры, позволившей получать два урожая риса в год, на первых порах действительно принесли желанный результат: в начале 1970-х годов доходы и уровень жизни практически всех крестьян выросли. Но всего через несколько лет оказалось, что интенсификация и механизация производства поставили рисоводов в неравное положение, которое уже было невозможно отыграть назад. И если ещё за несколько десятилетий до этого бедные крестьяне могли уходить на неосвоенное пограничье, чтобы расчищать там земли и начинать жизнь практически с нуля, то теперь этот выход для большинства оказался заблокирован: переселение на новые земли было охвачено государственными программами, попасть в которые могли лишь довольно состоятельные и политически благонадежные селяне.
«Протестуй, не протестуй, неважно – всё равно ничего не выйдет», – эта фраза, которую повторяли бедные крестьяне в разговорах с поселившимся у них под боком американским исследователем, как нельзя лучше передаёт то ощущение социальной клетки, испытываемое многими из нас при встрече с непреодолимыми обстоятельствами, за которыми в конечном итоге стоит государство с его намерениями – в нынешних реалиях уже даже не благими или хотя бы сомнительными, а всё чаще откровенно дурными и вредоносными. Возможности для протеста так или иначе остаются даже в условиях, когда открытое недовольство почти невозможно – в том числе из-за постоянного разрастания репрессивного аппарата, – но местом этого протеста всё реже оказывается реальный социальный антураж. «Мой гнев – в моём сердце» – так сформулировал эту мысль для Скотта один из седакских бедняков. Смерть деревни доводит эту ситуацию, которую Бруно Латур в ином контексте описал формулировкой «Негде приземлиться», до логического предела: в мире, разделённом на национальные государства, каждый из нас в той или иной степени заложник их политики.
* * *
Прежде чем вернуться к этой теме в связи с теоретическими выводами, к которым приходит Скотт, стоит уделить немного внимания его исследовательскому и писательскому мастерству. В работе переводчика результат – и, конечно же, удовольствие от самого процесса – зависят прежде всего от того, удалось ли за несколько месяцев работы над книгой прожить внутри текста на одной волне вместе с её автором и его героями, даже если последними выступают абстрактные концепции. Так вот, за полтора десятилетия работы с переводами мне сложно вспомнить другую книгу, которая настолько бы напоминала целый мир, пусть даже невероятно далекий от собственных жизненных реалий: как говорится, где я – а где малайские крестьяне? Но именно в этом, пожалуй, и состоит главное достоинство книги Скотта. Прочесть её наверняка будет интересно даже тем, кто почти ничего не знает о Малайзии, кроме стандартных общих сведений об этой стране.
Эффект присутствия для читателя автор обеспечивает уже в первой главе, представляя серию зарисовок из повседневной жизни Седаки – от похорон дочери деревенского отщепенца Разака до посиделок местных бедняков, перемывающих кости односельчанам, и баек об одном местном хаджи, который скупил все земли в округе, был настолько скупым, что ходил в обносках, зато имел трёх жен. Всё это читается как хороший реалистический роман старой школы – недаром Скотт постоянно обращается к произведениям Бальзака, Золя, Брехта и Гашека (солдат Швейк для него, конечно же, выступает образцовым героем пассивного сопротивления). И если следующие несколько глав с обилием таблиц и цифр покажутся вам скучными, вернитесь к ним после шестой главы, где Скотт красочно описывает несколько деревенских конфликтов – банальную, казалось бы, «коммунальщину», за которой скрывается драматизм, а то и трагизм жизненных ситуаций их героев.
Вот лишь один из примеров того, как Скотт умеет совмещать дар наблюдения за деталями повседневности с анализом учёного, привыкшего видеть за деревьями лес. Ситуация, описанная в этом фрагменте книги, представляет собой образцовый пример проведения границ – одного из важнейших типов социального действия. Долгое время на въезде в Седаку стоял шлагбаум, который препятствовал попаданию в деревню грузовиков для вывоза риса прямо с полей. Эти ворота, ключ от которых хранился у одного из влиятельных селян, в конечном счёте предназначались для того, чтобы местные жители, занимавшиеся перевозкой риса до главной дороги или мельницы на собственных мотоциклах, не лишились своего небольшого заработка – хотя для многих крестьян эти фактически навязываемые услуги были невыгодны. И вот однажды ещё один уважаемый в Седаке человек, возмутившись предложенными ему расценками на вывоз его риса, нарушил давно установленные границы.
«Фадзил… решил взяться за проблему ворот кавалерийским натиском… Он отправился в Кепала-Батас, где встретился с знакомым китайским рисоторговцем, и тот послал в Седаку грузовик, который следовал за Фадзилом, ехавшим на мотоцикле. Добравшись до ворот, Фадзил слез с мотоцикла и взял ключ от шлагбаума у жены Лебая Пендека, заявив, что получил разрешение от Басира [местного лидера правящей малайской партии ОМНО] его открыть. К пяти часам вечера водитель-китаец и двое сопровождавших его малайских рабочих погрузили урожай Фадзила на грузовик и уехали… Тем временем новости о случившемся быстро распространялись, и вскоре в лавке Басира, где встречались сторонники ОМНО в Седаке, собралось немало разгневанных мужчин. Их настрой не вызывал сомнений. Несколько человек к этому моменту уже снесли пресловутый шлагбаум, как бы позволив себе ещё большее преступление, чем то, что совершил Фадзил. То, что он сделал, говорили они, „неправильно“ и „нечестно“ – более того, он поступил так, „будто это он был главным“, будто „он хотел порулить“. Кое-кто предлагал решить дело насилием: „Его надо застрелить!“, „Застрелить его немедленно!“…
Тем же вечером Басир собрал вместе пятерых человек, чтобы обсудить возникшую проблему. Особый замысел создания этой группы, возможно, заключался в том, чтобы изолировать Фадзила… Басир высказался за то, чтобы ворота были закрыты, но его беспокоили перспективы общего собрания по этой проблеме: если оно состоится, то более богатые крестьяне, поддерживающие ОМНO, которые обычно и ходят на такие мероприятия, действительно могут проголосовать за то, чтобы пускать в деревню рисовозы.
На следующий день после обеда в помещении, выступавшем в качестве сельского актового зала и учебного класса, состоялось небольшое собрание. На нём присутствовали примерно полтора десятка жителей деревни – все из семей, поддерживающих ОМНО, – а также двое посторонних лиц… Ведущим собрания был Акил, сотрудник государственной рисовой мельницы, а не Басир, что, судя по всему, представляло собой попытку выставить решения, о которых вскоре планировалось объявить, в качестве позиции более высокопоставленных должностных лиц… В конце собрания коротко выступил Гаафар – уважаемый в этих местах пожилой государственный муж, – говоривший об исламе, о решении проблем мирным путём, о помощи другим людям и воздержании от эгоистичных действий. Обошлось без голосования – вопрос был закрыт, и через пару дней на въезде в деревню появились новые ворота. Фадзил красноречиво воздержался от участия в небольшом „субботнике“ по их установке».
Сохранение деревенских ворот, констатирует Скотт, определённо было скромной победой закрытой экономики, предполагающей, что первой обязанностью деревни является защита собственных источников оплаты труда и доходов. Ворота, добавляет он, по-прежнему выступали небольшим, но значимым препятствием для полностью «рационализированных» капиталистических производственных отношений. Однако столь архаичный инструмент проведения границ, конечно же, был неспособен сдержать натиск извне такой обезличенной и не знающей границ силы, как капитализм: уже в следующем сезоне расценки на вывоз риса из деревни не выросли, а во многих случаях были ниже, чем прежде.
* * *
Главный вопрос, на который пытается ответить Скотт в заключительной части книги – как и почему люди вообще подчиняются сложившемуся социальному порядку? – выходит далеко за пределы Малайзии и во многом совпадает с проблематикой книги Пьера Бурдьё «Практический смысл», ещё одного интеллектуального бестселлера, в оригинале вышедшего в 1980 году[8]. Две эти работы сближает то, что для ответа на принципиальный для западной социологии вопрос их авторы привлекают незападный полевой материал (в случае Бурдьё это были кабилы, живущие на севере Алжира). Однако есть и принципиальная разница: Скотт гораздо больше внимания уделяет взаимодействию между социальными классами, тогда как его французский коллега видел в проблеме социальных классов в том виде, как она сложилась в марксистской традиции, «исключительную территорию противостояния объективизма и субъективизма, ограничивающую исследование рядом ложных альтернатив»[9]. Напротив, для Скотта при всём его вполне критическом отношении к марксизму классовые конфликты – классовая борьба и даже классовая вой на – выступают фундаментальным фактом социального мира.
Другое дело, что в исторических реалиях подчинённые классы крайне редко могут одержать победу над классами господствующими – именно этот момент и определяет интерес к вопросу о том, как происходит социальное подчинение, и ответ на него выходит далеко за рамки «тупого принуждения экономических отношений», о котором писал Маркс. Поэтому ключевой фигурой, с которой заочно дискутирует Скотт в последней главе «Оружия слабых», оказывается крупнейший теоретик итальянского марксизма Антонио Грамши, запустивший в интеллектуальный оборот понятие «гегемония» – идеологическое господство. Произошло это, так сказать, не от хорошей для ортодоксальных марксистов жизни: внимание Грамши и его продолжателей к идеологии и «надстройке», констатирует Скотт, вынужденно определялось явной долговечностью капитализма. Его материальным противоречиям, изображённым в «Капитале», так и не удалось произвести социалистическую революцию в индустриализированных демократических странах – следовательно, требовались более тонкие инструменты анализа. Однако в итоге Скотт фактически дезавуирует Грамши: проанализировав классовые отношения на совершенно локальном материале, он приходит к вполне глобальному выводу, что само понятие гегемонии нуждается в принципиальном пересмотре для подчинённых классов в целом. Именно здесь у сегодняшнего читателя «Оружия слабых» возникает преимущество временнóй дистанции, поскольку в ситуации глобальной смерти деревни попытка Скотта отбросить само понятие гегемонии выглядит весьма сомнительным начинанием – достаточно лишь обратиться к обществам, где этот процесс уже состоялся, например, к сегодняшней России. Но для начала рассмотрим вкратце собственную аргументацию Скотта.
Если попытаться найти некий общий знаменатель в тех тезисах, которые Скотт выдвигает против понятия гегемонии и связанных с ней терминов типа «ложное сознание» и «мистификация», то напрашивается допущение, что он исходит из вполне гуманистического, просвещенческого представления о человеческой природе – точнее, о природе человеческого разума, способного правильно разобраться в любой ситуации и принять соответствующие решения. Например, Скотт вполне убедительно показывает, что малограмотные крестьяне из Седаки – это далеко не простодушная деревенщина, безропотно принимающая всё, что ей скажут сверху: «большинство подчинённых классов способны на основании своего повседневного материального опыта проникать внутрь господствующей идеологии и демистифицировать её». Кроме того, у подчинённых классов, отмечает Скотт, есть вполне конкретные представления об альтернативах существующему положению дел – в реалиях сельской местности Малайзии речь шла о земельной реформе, которую в той или иной степени поддерживало бедное крестьянство, даже если таких планов и близко не было у существующих политических партий. Подчинённые классы, по мнению Скотта, отнюдь не склонны воспринимать то, что им навязывают, как неизбежность, не говоря уже о том, чтобы видеть в этом некую справедливость. А в формулировке собственных целей они исповедуют куда более реалистичный подход, не требуя, в отличие от радикальной интеллигенции, чего-нибудь типа построения социализма или коммунизма. Поэтому им, настаивает Скотт, совершенно не требуется внешнее руководство в виде авангардной партии, которая поможет подчинённым классам подняться над «непоследовательным» и «фрагментарным», используя формулировки Грамши, осознанием своего положения и установит режим контргегемонии как шаг к будущей революции. Иными словами,
«нет никакого смысла в тщетных надеждах на то, что пролетариат или крестьянство каким-то образом оторвутся от своего упорного преследования приземлённых целей, которое обеспечит им сносные материальные условия и толику достоинства. Напротив, есть все основания видеть именно в этих целях и их неутомимом преследовании во что бы то ни стало важнейшую надежду на более гуманный социальный порядок».
В этих рассуждениях Скотт делает важную оговорку: рассуждения Грамши и его последователей относились преимущественно к зрелым капиталистическим обществам, тогда как ситуация, в которой оказалось крестьянство Третьего мира, больше напоминало положение рабочего класса времен раннего капитализма – здесь как раз уместно вспомнить об аналогиях с Англией времен Промышленной революции. Однако последующая смерть деревни – стремительная урбанизация в глобальном масштабе – явно спутала все карты автора «Оружия слабых», отправив вчерашних крестьян в объятья позднего постмодернистского капитализма с его постправдой, где «всё не так однозначно». Перебравшись в города, эти люди оказались в шатком положении субпролетариата – он же прекариат, которым с легкостью манипулирует власть, вполне осознанно реализующая гегемонистскую политику, в том числе при помощи вездесущей пропаганды, ненавязчиво подбрасывающей мысль о том, что альтернативы нет. А тем, кого не устраивает власть, в широком ассортименте предлагаются популисты, преследующие, по большому счету, единственную цель – занять место существующих элит под антиэлитными лозунгами.
Более того, идеи Грамши, изначально предназначенные для левых, прекрасно пришлись ко двору политикам правого толка – и оказались вполне эффективными, причем тем более эффективными, чем дальше левая альтернатива по ходу нынешнего столетия вырождалась в парад политик идентичности, упражнения в публичных покаяниях на тему деколонизации, расизма или сексизма и прочий активизм любых цветов и оттенков. Вот вполне характерное рассуждение, прозвучавшее в 2006 году во время обсуждения московской лекции Перри Андерсона – крупнейшего, наверное, из ныне живущих специалистов по проблематике гегемонии:
«Где-то между тридцатыми и семидесятыми годами термин „гегемония“ исчез из нашей политической культуры и больше не обсуждался. Его обсуждение и разработка начались только в 70-е и 80-е годы, что уже было несколько поздно. В это время победила некоторая версия, второе издание народничества, пришедшая с Горбачевым и Ельциным. Такой размытый, аморфный дискурс, который прячет центральные понятия: где находится сила, в чьих она руках, кто её применяет, в чьих интересах? Поэтому выход из этого аморфного состояния в конце 90-х годов сопровождался в России интенсивными дискуссиями вокруг понятия „гегемония“, и, во второй половине 90-х годов, могу утверждать ответственно, в Кремле это было одно из наиболее употребительных слов… Сегодня термин „гегемония“ используется в сочетании с понятием преимущественной силы, основанной на консенсусе, на интегрировании разнородных ценностей – для России это особенно важно, потому что у нас общество чрезвычайно фрагментированных ценностей. Разработка этой традиции продолжается, она идет достаточно противоречиво, но можно сказать, что у власти у нас сегодня находятся правые последователи Грамши. Это, безусловно, Путин, это, безусловно, школа гегемонии»[10].
Автор этого высказывания – не кто иной, как покойный Глеб Павловский, один из первых идейных вдохновителей нынешнего российского режима, действительно, пусть и с определёнными оговорками представляющего собой образец той самой гегемонии, о которой писал Грамши. Гегемонии, характерной для позднего капитализма, при котором, как справедливо указывал Скотт, «достигается более высокая плотность институциональных оснований гегемонии (наподобие образовательных учреждений и СМИ) на низовом уровне, вследствие чего они явно становятся более эффективными»[11]. Именно так выглядит власть государства в эпоху смерти деревни, и несомненная ирония истории просматривается в том, что Скотт выполнил своё новаторское исследование в момент, когда для этого процесса, напоминающего коллапс, сложились все предпосылки. Сам Скотт здесь во многом оказался в ситуации, которую констатировал Гегель в своем афоризме «Сова Минервы начинает свой полёт лишь с наступлением сумерек» – наша мысль чаще всего не поспевает за реальностью, и понимание того, что происходит на самом деле, случается лишь после того, как реальность необратимо сложилась. В «Оружии слабых» этому знаменитому гегелевскому парадоксу, конечно же, нашлось место.


