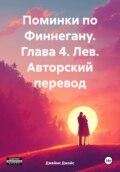Джеймс Джойс
Дублинцы (сборник)
Было естественно, что чем больше стремился юноша к изоляции, тем больше его окружение пыталось помешать ему в этом. Хотя он был всего лишь на первом курсе, его считали личностью, а многие даже думали, что хоть его теории отдают горячкой, смысл-то в них есть. Стивен редко приходил на лекции, ничего не готовил и не появлялся на зачетах, однако не только никто не прохаживался по поводу таких вольностей, но многие допускали, что он, видимо, тип настоящего художника и в духе нравов этого малоизвестного племени занимается самообразованием. Не надо думать, что популярный Ирландский университет был лишен умственного ядра. За пределами сомкнутых рядов поборников национального возрождения тут и там встречались студенты, у которых были свои идеи, и их сотоварищи проявляли к ним относительную терпимость. К примеру, был серьезный молодой феминист по имени Макканн, быстрый в движениях и прямой в речах, носивший бородку и охотничий костюм и бывший верным читателем «Ривью оф ривьюз». Студенты не могли взять в толк, что за идеи влекут его, и считали, что достаточной наградой за оригинальность ему служит кличка «Бриджи». Был также записной оратор – необычайно сговорчивый молодой человек, выступавший на всех собраниях. Крэнли тоже был личностью, а Мэдден вскоре был признан «рупором» патриотической партии. Стивен же, можно сказать, занимал положение вельможи с причудами: весьма немногие слыхивали о писателях, которых он, как передавали, читал, а слышавшие считали их сплошь безумцами. Но вместе с тем его поведение со всеми было столь непреклонным, что его соглашались признать оставшимся в здравом уме и без ущерба преодолевшим все искушения. К нему начали проявлять внимание, зазывать в гости и делать, обращаясь к нему, серьезную мину. Его теории были всего лишь теориями, и, коль скоро за ним покуда не числилось никаких нарушений закона, он был почтительно приглашен сделать доклад в Литературно-историческом обществе колледжа. Дата была назначена на конец марта, и тема была объявлена как «Драма и жизнь». Невзирая на риск убийственной отповеди, многие пытались разговорить молодого оригинала, но Стивен хранил надменное молчание. Однажды, когда он возвращался с вечеринки, репортер одной из дублинских газет, который был в тот вечер представлен юному дарованию, подошел к нему и, обменявшись какими-то репликами, пустил пробный шар:
– Я тут читал этого писателя… как его бишь вы называли… Метерлинка на днях… знаете?
– Да…
– Я читал… По-моему, называлось «Самозванец»… Очень… любопытная пьеса…
Стивен не желал беседовать о Метерлинке с этою личностью, однако ему не хотелось и причинить обиду молчанием, какого равно заслуживали и слова, и тон, и намерение; так что он принялся спешно отыскивать в уме ни к чему не обязывающую банальность, пригодную для уплаты долга взаимности. Наконец он сказал:
– Поставить ее на сцене было бы нелегко.
Журналист был вполне удовлетворен таким ответом, как если бы именно это впечатление и вызвала у него пьеса Метерлинка. Он с убежденностью подтвердил:
– О да!.. почти невозможно…
Когда так задевали самое дорогое сердцу, Стивен чувствовал глубокую рану. Здесь надо сразу и напрямик сказать, что в это время Стивен испытывал определенное влияние, самое прочное в своей жизни. Зрелище мира, которое доставлял ему его разум, со всеми низостями и заблуждениями, рядом с тем зрелищем мира, что доставлял ему сидящий внутри него монстр, достигший сейчас относительно героической стадии, нередко наполняло его существо внезапным отчаянием, смягчить которое удавалось только меланхолическим виршеплетством. Он было совсем уж решил считать оба эти мира чуждыми друг другу – будь сей предельный пессимизм тайным или явным, – но тут, чрез медиума добытых с трудом переводов, он повстречался с духом Генрика Ибсена. Этот дух стал ему понятен «мгновенно.» То же мгновенное понимание явилось у него несколько лет назад, когда он прочел в английской биографии Руссо рассказ, в тоне крайнего замешательства и извинения, о том как юный философ, в ту самую пору, когда он вставал на борьбу за Истину и Свободу, стащил ложки у своей любовницы и допустил, чтобы в краже обвинили служанку. Сейчас было снова как с [извращенным] порочным философом: Ибсен не нуждался ни в адвокатах, ни в критиках: умы старого скандинавского поэта и смятенного юного кельта встретились и совпали в один сияющий миг. Прежде всего Стивена пленила очевиднейшая высота искусства: он был уже недалек от тех дней, когда он стал провозглашать Ибсена – руководясь довольно скудным, конечно, знанием предмета – первым из драматургов мира. В переводах индийских, греческих или китайских драм он видел только его предвестия или предварительные пробы, а в классической французской и романтической английской драме – предвестия более смутные и пробы менее удачные. Однако не одни высота и блеск пленили его, не этому он воздавал ликующую хвалу в радостном порыве духа. За бесстрастною манерой художника чувствовался подлинный дух самого Ибсена: [Ибсен с его глубоким самодовольством, Ибсен с его надменным, утратившим все иллюзии мужеством, Ибсен с его скрупулезной и своевольной энергией.] дух искренней, мальчишеской смелости, гордости, лишенной иллюзий, скрупулезной и своевольной[12]. Пускай мир разгадывает себя каким ему угодно манером, пускай гипотетический его Создатель оправдывает Себя любыми процессами, какие сочтет за благо, но достоинство человека нельзя было утвердить ни на иоту сильней, нежели этим ответом. Здесь, а не в Шекспире и не в Гёте пребывал наследник первого поэта европейцев, здесь, как с тем же успехом лишь у Данте, человеческая личность возымела соединение с художественной манерой, которая сама была почти что естественным явлением; а дух времени готовней сближал с норвежцем, нежели с флорентинцем.
Молодые люди в колледже не имели ни малейшего представления о том, кто такой Ибсен, но из того, что они смогли подхватить там и сям, они подозревали, что он, по всей видимости, один из тех безбожных писателей, которых секретарь Папы заносит в Индекс. Услышать в своем колледже такое имя из чьих-то уст было явно в новинку, но коль скоро наставники не подавали знака к осуждению, они заключили, что лучше всего переждать. Между тем это все произвело на них некоторое впечатление; многие стали поговаривать, что Ибсен, хотя и безнравственен, однако большой писатель, а один из профессоров, как передавали, сказал, что когда он прошлым летом проводил в Берлине свои каникулы, там много говорили о пьесе Ибсена, шедшей в одном из театров. Вместо того чтобы писать курсовую работу, Стивен начал изучать датский язык, и это раздули до сообщений, будто бы он глубокий специалист в датском. Юноша был достаточно лукав, чтобы извлечь выгоду из слухов, опровергать которые он труда себе не давал. Он улыбался при мысли, что эти люди побаиваются его в глубине души как иноверца, и дивился, на каком же уровне должны быть их верования. Патер Батт беседовал с ним помногу, и Стивен с большой охотой выступал «провозвестником» нового порядка. В беседе он никогда не горячился и спорил так, будто бы ход спора заботил его не слишком, в то же время ни на секунду не упуская нити. Иезуиты и их паства могли бы сказать себе: юнцы, независимые с виду, нам знакомы и сговорчивые патриоты знакомы тоже, но что ты за птица? С учетом всех невыгод их положенья, они отлично ему подыгрывали, и Стивен не мог понять, зачем они себя утруждают, приноравливаясь к нему.
– Да-да, – сказал однажды ему патер Батт после одной из подобных сцен, – понимаю… я понял вашу мысль… Ее можно, разумеется, отнести и к драмам Тургенева?
Стивен читал некоторые переводы романов и рассказов Тургенева и был ими восхищен. Поэтому он спросил живо:
– Вы имеете в виду его романы?
– Да, романы… – поспешил подтвердить патер Батт, – его романы, конечно… но ведь они не что иное, как драмы… разве не так, мистер Дедал?
Стивен частенько посещал один дом в Доннибруке, в котором царил дух либерального патриотизма и усердных занятий. В семействе было несколько дочерей на выданье, и едва кто-нибудь из студентов подавал в этом отношении надежду, его неизбежно ожидало приглашение в дом. Молодой феминист Макканн был здесь постоянным гостем, а Мэдден наведывался время от времени. Отец семейства, мужчина уже в летах, в будни по вечерам играл в шахматы со взрослыми сыновьями, а по воскресеньям устраивал вечеринки с играми и музыкой. Музыку обеспечивал Стивен. В гостиной стояло старое пианино, и обычно, когда игры надоедали гостям, одна из дочерей подходила с улыбкой к Стивену и «просила спеть какую-нибудь из его прекрасных песен. Клавиши инструмента были стерты и порой не давали звука, но тембр был мягким и сочным; Стивен усаживался и исполнял свои прекрасные песни пред вежливой, утомившейся и чуждой музыке публикой.» [13] Песни, во всяком случае для него, были и впрямь прекрасны – старинные народные песни Англии, изысканные песни елизаветинцев. По части «морали» они бывали порою слегка сомнительны, и слух Стивена тотчас улавливал нотку неодобренья, когда ему хлопали после них. Любознательные дочери находили эти песни очень оригинальными, но мистер Дэниэл говорил, что Стивену следует петь оперные арии, если он хочет, чтобы его голос оценили как должно. Хотя Стивен не чувствовал никакой взаимной симпатии между собой и этим кружком, ему в нем было легко и просто, и, в полном согласии с их призывами, он там «был как дома», когда сидел на диване, слушая разговоры и пересчитывая пальцами комки конского волоса в обивке. «Молодые люди и хозяйские дочери предавались невинным развлечениям под надзором мистера Дэниэла, но всякий раз как в их играх задевались художественные материи, эгоистически настроенный Стивен относил это на счет своего присутствия. Он видел, как наползает серьезность на умные черты молодого человека, которому выпало задать какой-нибудь вопрос одной из хозяйских дочерей:
– Так, кажется, моя очередь… Что ж… дайте подумать… (и тут он делался так серьезен, как только может молодой человек, до этого хохотавший пять минут кряду)… – кто ваш любимый поэт, Энни?
Воцарялось молчание: Энни думала. Энни с молодым человеком слушали один курс.
– …Немецкий?
– …Да.
Энни снова думала, а общество ожидало, когда его просветят.
– Думаю… Гёте.
Макканн зачастую устраивал шарады,» в которых отводил себе самые неистовые роли. Шарады были с большим юмором, и все охотно принимали участие, не исключая и Стивена. Обдуманный и спокойный стиль Стивена был полной противоположностью бурной манере действия Макканна, и поэтому их часто «спаривали» вместе. Эти шарады слегка утомляли Стивена, однако Макканн чрезвычайно заботился об их устройстве, будучи убежден, что развлечения необходимы для телесного благополучия человечества. Северный акцент молодого феминиста неизменно возбуждал смех, а его украшенное эспаньолкой лицо было весьма способно делать нахальные мины. В колледже Макканн из-за его «идей» так и не стал до конца своим, но здесь он был явно причастен к внутренней жизни семейства[14]. В этом доме было в обычае чуть не сразу переходить с молодыми гостями на обращение «по имени,» и хотя Стивен не удостоился такой чести, Макканна никогда не именовали иначе как «Фил». Стивен прозвал его «Душка Данди», по бессмысленной чисто звуковой ассоциации его отрывистого имени и «отрывистых манер с одной» строчкой из этой песни:
Макай, простофиля, макай в чарку нос.
Когда собравшиеся настраивались на серьезный лад, мистера Дэниэла просили что-нибудь продекламировать. Мистер Дэниэл был прежде директором театра в Вексфорде и ему часто приходилось «выступать на митингах и собраниях» по всей стране. В почтительной тишине он читал патриотические стихи, произнося их с резкими интонациями. Читали стихи также и дочери. Во время этих декламаций Стивен всегда, не отрываясь, глядел на картину с изображением Святого Сердца, что висела прямо над головой читающего. Сестры Дэниэл выглядели не столь импозантно, как их отец, а их наряды были [слово вымарано] демонстративно национальны. «Иисус же на рыночной литографии как-то демонстративно» выставлял напоказ свое сердце: и обычно эта перекличка пустых потуг завораживала сознание Стивена до некоего приятного отупения. Часто представлялась шарада на парламентскую тему. Несколько лет назад мистер Дэниэл был депутатом от своего графства, и поэтому его избирали представлять спикера палаты. Макканн изображал всегда члена оппозиции и резал без обиняков. Какой-нибудь депутат протестовал, и так разыгрывалась пародия на парламентские дебаты:
– Господин спикер, я должен попросить…
– К порядку! К порядку!
– Вы знаете, что это ложь!
– Вам следует взять эти слова обратно, сэр!
– Как я уже говорил до того, как сей достопочтенный джентльмен меня перебил, мы должны…
– Я не возьму этих слов обратно!
– Я вынужден попросить достопочтенных депутатов соблюдать порядок.
– Я не возьму своих слов обратно!
– К порядку! К порядку!
Другой любимой игрой была «Кто есть кто». Человек выходит из комнаты, а оставшиеся загадывают имя кого-нибудь, к кому отсутствующий, как считают, питает особую симпатию. Когда же вышедший возвращается, он должен, задавая вопросы по кругу, попытаться отгадать имя. Игру эту часто использовали для того, чтобы привести в смущенье юного гостя мужского пола, поскольку по ходу игры как бы предполагалось, что у каждого студента сердечная история с какой-нибудь юной леди, находящейся не в особенном отдалении; но молодые люди, сперва озадаченные намеками, делали в конце концов вид, будто бы, по их мнению, проницательность прочих игроков всего лишь опередила их собственное открытие, неожиданное и не лишенное приятности. В случае Стивена компания не могла всерьез делать подобных предположений, и потому, когда он участвовал в игре в первый раз, для него загадали по-другому. [Компания была] Играющие были не в состоянии ответить на его вопросы, когда он возвратился в комнату: никто из кружка не мог дать ответ на такие вопросы как: «Где это лицо живет?», «Состоит ли в браке?», «Сколько лет ему?» до тех пор, пока они быстро вполголоса не посовещались с Макканном. Ответ «В Норвегии» сразу же дал Стивену ключ к разгадке, игра на этом закончилась, и компания принялась развлекаться в том же духе, как и до этого вторжения серьезности. Стивен уселся рядом с одною из дочерей и, любуясь деревенской миловидностью ее черт, спокойно ожидал ее первых слов, которые, как он заранее знал, мгновенно разрушат впечатление. С минуту ее большие красивые глаза смотрели на него, словно «собирались ему довериться,» и после этого она спросила:
– Как это вы так быстро отгадали?
– Я знал, что вы имеете в виду его. Только вы с возрастом ошиблись.
Другие слышали это; но ее поразила возможная необъятность неведомого, и ей льстило собеседовать с одним из тех, кто напрямик собеседовал с необычайным. Она наклонилась вперед и заговорила с мягкой серьезностью:
– Ну а сколько же ему?
– За семьдесят.
– Правда?
Стивен считал уже, что он достаточно исследовал данную область, и он прекратил бы свои визиты, не будь двух причин, которые побуждали его продолжать их. Первая причина состояла в неприятности его собственного дома, второю же служил интерес, вызванный появлением нового лица. Однажды вечером, когда он рассеянно размышлял на диване с набивкой конского волоса, он услыхал свое имя и поднялся, чтобы его представили. Перед ним стояла смуглая девушка с развитыми формами, которая произнесла, не дожидаясь, покуда мисс Дэниэл представит их:
– Кажется, мы уже знакомы.
Она присела рядом с ним на диван, и он узнал, что она учится в одном колледже с барышнями Дэниэл и подписывается всегда только по-ирландски. Она сказала, что Стивен «тоже должен учить ирландский» и вступить в Лигу. Молодой человек из числа гостей, [с] лицо которого всегда выражало ту же заученную целеустремленность, заговорил с ней через голову Стивена, обращаясь по-свойски и называя ее ирландским именем. Вследствие этого Стивен принял сугубо формальный тон и называл ее исключительно «мисс Клери». Она же, со своей стороны, как будто собралась «включить его в глобальную орбиту своих патриотических чар; и когда он помогал ей надеть жакет, она позволила ему на мгновение задержать руки на теплой телесности своих плеч».
XVII
К этому времени домашняя жизнь Стивена стала достаточно неприятной; направление его развития шло вразрез с течением устремлений его семейства. Вечерние прогулки с Морисом были запрещены, ибо сделалось очевидным, что Стивен совращает брата на стези праздности. На Стивена усиленно наседали с расспросами об его успехах в колледже, и мистер Дедал, раздумывая над его уклончивыми ответами, начал выражать опасения, что его сын попал в дурную компанию. Юноше дали понять, что, если на предстоящих экзаменах он не покажет себя блестяще, на его университетском образовании будет поставлен крест. Предостережение не слишком его смутило, так как он знал, что его судьба в этом отношении в руках его крестного отца, скорей чем родного. Как чувствовалось ему, мгновения юности слишком драгоценны, чтобы растрачиваться в тупых механических усилиях, и он решился идти в своих намерениях до конца, к чему бы это ни привело. В семье рассчитывали, что он сразу же последует по пути респектабельности, сулящей выгоду, и спасет положение, но он не мог оправдать этих ожиданий. Он был признателен за них: они впервые дали расцвести его эгоизму, и он радовался, что его жизнь становится настолько эгоцентрична. Однако он [также] ощущал, что есть некоторые занятия, которые «было бы гибельно» откладывать.
Морис воспринял запрет с крайним неудовольствием, и брату пришлось удерживать его от открытого протеста. Сам же Стивен его перенес легко: он мог прекрасно расслабиться в одиночестве, а человеческие связи, уж если на то пошло, можно было обрести и с некоторыми из однокашников. Теперь он энергично занимался подготовкой своего доклада в Литературно-историческом обществе и всячески старался придать ему максимум взрывной силы. Ему казалось, что одного слова могло бы хватить, чтобы зажечь в студентах порыв к свободе, или, по крайней мере, его трубный глас мог бы созвать под его знамена некое избранное меньшинство. Макканн был председателем общества, и поскольку он стремился заранее узнать идеи доклада, они почасту вместе уходили из Библиотеки в десять и, беседуя, направлялись к жилищу председателя. Макканн слыл человеком бесстрашным и смелым в выражениях, но Стивен обнаружил, что от него трудно добиться какой-то определенности в тех вопросах, которые считались опасной областью. Макканн мог свободно рассуждать о феминизме и рациональном устройстве жизни: он считал, что необходимо совместное обучение обоих полов, дабы они с раннего возраста осваивались с влияниями друг друга, считал, что женщинам должны быть даны все те же возможности, какие даны так называемому сильному полу, и считал также, что женщина имеет право соперничать с мужчиной во всех областях общественной и умственной жизни. Он отстаивал мнение, что человек должен жить, не прибегая ни к каким возбуждающим средствам, что он морально обязан оставить после себя потомство, здоровое духом и телом, и что он не должен допускать над собой диктата каких-либо условностей во всем, что касается одежды. Стивену доставляло удовольствие обстреливать эти теории меткими пулями:
– По-твоему, никакие сферы жизни не должны быть для них закрыты?
– Безусловно.
– Так по-твоему, солдат, полицию и пожарников тоже следует набирать из них?
– Для некоторых общественных обязанностей женщины не приспособлены физически.
– Готов тебе верить.
– Но им должно быть позволено избирать любую гражданскую профессию, к которой они имеют склонность.
– Быть врачами и юристами?
– Безусловно.
– А как насчет третьей ученой профессии?
– Что ты имеешь в виду?
– Ты считаешь, из них выйдут хорошие исповедники?
– Ты далеко заходишь. Церковь не допускает женского священства.
– Ах, Церковь!
Как только беседа доходила до этой точки, Макканн отказывался продолжать. Концом разговора обычно оказывался тупик:
– Но ты же лазаешь по горам, чтобы дышать свежим воздухом?
– Да.
– А летом купаешься?
– Да.
– Но ведь горный воздух и морская вода являются возбуждающими средствами!
– Да, но естественными.
– А что ты называешь неестественным возбуждающим средством?
– Опьяняющие напитки.
– Но ведь их производят из природных растительных веществ, разве не так?
– Возможно, но это делается путем неестественного процесса.
– Значит, ты считаешь винокуров великими чудотворцами?
– Опьяняющие напитки изготовляются для удовлетворения искусственно внушенных потребностей. В нормальном состоянии человек не нуждается для жизни в таких подпорках.
– Дай мне пример человека в состоянии, которое ты называешь «нормальным».
– Это человек, живущий здоровой и естественной жизнью.
– Скажем, ты?
– Да.
– Значит, ты представляешь нормальное человечество?
– Представляю.
– Выходит, нормальное человечество близоруко и не имеет слуха?
– Не имеет слуха?
– Да, я так полагаю, у тебя нет слуха.
– Мне нравится слушать музыку.
– Какую?
– Всякую.
– Ты же не можешь отличить одну мелодию от другой.
– Нет, я различаю некоторые мелодии.
– Например?
– Я узнаю «Боже, храни королеву».
– Не потому ли что кругом все встают и снимают шляпы.
– Ладно, допустим, у меня ухо слегка с дефектом.
– А как с глазами?
– Ну, и они тоже.
– Так почему же ты представляешь нормальное человечество?
– В моем образе жизни.
– То есть в твоих потребностях и в тех способах, какими ты их удовлетворяешь?
– Вот именно.
– И каковы же твои потребности?
– Воздух и пища.
– А нет ли каких-нибудь дополнительных?
– Приобретение знаний.
– А ты не нуждаешься также в религиозном утешении?
– Возможно… время от времени.
– А в женщине… время от времени?
– Никогда!
Последняя реплика сопровождалась неким благонравным движением челюстей и была сказана столь деловым тоном, что Стивен громко расхохотался. Что до самого факта, то Стивен, при всей своей подозрительности на сей предмет, склонен был верить в девственность Макканна и, хотя относился к ней с большой неприязнью, решил иметь в виду скорее ее, нежели противоположное явление. При мысли о том, к какой обратной отдаче приводит это не имеющее границ упрямство, его почти что бросало в дрожь.
Упорство, с каким Макканн отстаивал праведную жизнь и осуждал беспутство как грех перед будущим, и раздражало, и уязвляло Стивена. Оно раздражало его тем, что было настолько в стиле paterfamilias, а уязвляло тем, что словно бы признавало его самого неспособным к подобной участи. Со стороны Макканна это ему казалось несправедливым и неестественным, и он привлек одну сентенцию Бэкона. Цитата гласила, что заботу о потомстве больше всего проявляют те, у кого нет потомства; что же до остального, Стивен заявил, что ему непонятно, по какому праву будущее может ему препятствовать в проявлениях своих страстей в настоящем.
– Учение Ибсена вовсе не таково, – сказал Макканн.
– Учение! – вскричал Стивен.
– Мораль «Призраков» – полная противоположность тому, что ты говоришь.
– Ты рассматриваешь пьесу как научный документ. Фу!
– «Призраки» учат самоограничению.
– О Боже! – с мукой в голосе воскликнул Стивен.
– Вот мой дом, – сказал Макканн, останавливаясь у ворот. – Я должен войти.
– Благодаря тебе для меня теперь Ибсен навеки связан с фруктовой солью Эно, – сказал Стивен.
– Дедал, – произнес решительно председатель, – ты парень неплохой, но тебе еще предстоит усвоить «ценность альтруизма и чувство ответственности индивидуума.»
Стивен решил обратиться к Мэддену, чтобы [разузнать] выяснить, где можно найти мисс Клери. К этой задаче он подошел с осмотрительностью. Они с Мэдденом сталкивались часто, однако редко заводили серьезные разговоры, и хотя крестьянское сознание одного было под весьма сильным впечатлением от столичности другого, в отношениях юношей были тепло и непринужденность. Мэдден, прежде безуспешно пытавшийся привить Стивену националистическую горячку, был удивлен новым поворотом в речах друга. Перспектива свершить столь важное обращение привела его в восторг, и он со всем красноречием начал взывать к чувству справедливости. Стивен на время усыпил свои критические наклонности. Желанная община, к созданию которой Мэдден тщился привлечь его силы, казалась ему не больше чем идеалом, и то освобождение, которым удовольствовался бы Мэдден, ничуть не удовлетворило бы его. Тираном островитян для него был римлянин, а не сакс; и тирания так глубоко въелась во все души, что разум, некогда попранный столь надменно, ныне с пылом доказывал, что эта надменность друг ему. Боевым кличем были слова «Вера и Родина», священные слова в этом мире искусно разжигаемых энтузиазмов. Беспрекословной покорностью и ежегодною данью ирландцы истово добивались той чести, которой с расчетом лишили их, наделив ею те народы, что и в [настоящем] прошлом, и в [прошлом] настоящем если и преклоняли колена, то всегда с вызовом. Меж тем сонмища проповедников уверяли их, что великие почести уже грядут, и призывали вечно хранить надежду. Последние станут первыми, как говорит христианство, и тот, кто себя принизил, возвысится, и в награду за несколько столетий слепой верности «его Святейшество Папа» преподнес запоздалого кардинала острову, что был для него, возможно, всего лишь «позднейшим добавленьем к Европе».
Мэдден был готов признать истиной большую часть этого, но дал понять Стивену, что новое движение является политическим. Если знамя его будет запятнано хотя бы малейшей неверностью, народ не сплотится вокруг него, и вот поэтому его работники стремятся, насколько возможно, действовать рука об руку с духовенством. На это Стивен возразил, что, действуя рука об руку с духовенством, революционеры снова и снова обрекают свое дело на неудачу. Мэдден согласился, но ведь сейчас по крайней мере духовенство приняло сторону народа.
– Но как ты не понимаешь, – сказал Стивен, – что они поощряют изучение ирландского, чтобы их паства была тем надежней защищена от «волков неверия»; что они тут видят возможность увлечь народ в прошлое с его слепой заученной верой?
– Но для нашего крестьянина действительно нет никакой пользы в английской литературе.
– Вздор!
– Во всяком случае современной. Ты сам же всегда бранишь…
– Английский язык – средство, связующее с континентом.
– Нам нужна ирландская Ирландия.
– Мне сдается, тебе не важно, какие глупости человек несет, лишь бы он их нес по-ирландски.
– Я не могу во всем согласиться с твоими современными идеями. Мы ничего не хотим принимать от этой английской цивилизации.
– Но цивилизация, о которой ты говоришь, не английская – она арийская. Современные идеи не английские; они в общем русле арийской цивилизации.
– Ты хочешь, чтобы наши крестьяне переняли бы грубый материализм йоркширских крестьян?
– Можно подумать, эту страну населяли херувимы. Черт меня побери, если я вижу большую разницу между крестьянами; они все для меня неотличимы, как один гороховый стручок от другого. Правда, йоркширский, наверно, лучше питается.
– Конечно, ты презираешь крестьянина, потому что живешь в городе.
– Я ни в коей мере не презираю его труд.
– Но ты презираешь его самого – он для тебя недостаточно умен.
– Послушай, Мэдден, это же абсурд. Начать с того, что он хитер как лиса – попробуй-ка, всучи ему фальшивую монету! Но его ум низшего порядка. Я действительно не считаю, что ирландский крестьянин «представляет» какой-то замечательный тип культуры.
– В этом ты весь! Конечно, ты над ним издеваешься, потому что он отстал от века и живет простой жизнью.
– Вот именно, тусклой рутинной жизнью – счет медяков, еженедельный загул и еженедельная обедня – жизнь, проживаемая в мелких плутнях и в страхе, между тенями приходской церкви и богадельни!
– А жизнь в большом городе вроде Лондона кажется тебе лучше?
– Возможно, в английском городе [английский] интеллект не на особо высоком уровне, но уж по крайней мере повыше, чем умственное болото ирландского крестьянина.
– А если сравнить их с точки зрения морали?
– И что же?
– Ирландцы во всем мире известны по крайней мере одной своей добродетелью.
– Ого! Я знаю, что сейчас последует!
– Но это же правда: они целомудренны.
– Без сомнения.
– Тебе нравится на каждом шагу смешивать свой народ с грязью, но ты не можешь его обвинять…
– Хорошо, отчасти ты прав. Я целиком признаю, что мои земляки еще не продвинулись до технических достижений парижского распутства, потому что…
– Потому что?..
– Потому что они делают то же самое вручную, вот почему!
– Бог мой, ты же не хочешь сказать, будто ты думаешь…
– Милый мой юноша, я знаю, что говорю правду, и знаю, что тебе это точно так же известно. Спроси любого нашего священника и любого доктора. Мы с тобой оба учились в школе – и довольно об этом.
– О, Дедал!
На этом обвинении разговор смолк. Потом Мэдден произнес:
– Что ж, если у тебя такие мысли, я не понимаю, зачем ты приходишь ко мне и начинаешь говорить про изучение ирландского.
– Я бы хотел его выучить… просто как язык, – отвечал Стивен лживо. – Во всяком случае, хотел бы попробовать.
– Значит, ты признаешь, что все-таки ты ирландец, а не из этих красномундирных.
– Разумеется, признаю.
– А ты не думаешь, что всякий ирландец, достойный этого имени, должен уметь объясняться на родном языке?
– Право, не знаю.
– А ты не думаешь, что мы, как народ, имеем право быть свободными?
– Знаешь, Мэдден, не задавай мне таких вопросов. Ты можешь выражаться лозунгами, но я не могу.
– Но все-таки, человече, должны же у тебя быть какие-то политические взгляды!
– Мне еще нужно их продумать. Я художник, ты же знаешь это. Ты веришь, что я художник?
– О да, я знаю это.
– Отлично, но тогда какого дьявола ты от меня ждешь, чтобы я разрешил все вопросы одним махом? Дай мне время.
Так было решено, что Стивен начнет ходить на курсы ирландского языка. Он купил учебники О’Грони начального уровня, изданные Гэльской Лигой, но отказался платить вступительный взнос в эту лигу и носить ее значок в петлице. Он разыскал что хотел, а именно ту группу, в которой была мисс Клери. Домашние не стали возражать против его новой причуды. Мистер Кейси научил его нескольким южным песням по-ирландски и, чокаясь со Стивеном, всегда говорил «Шинн Фейн» вместо «Ваше здоровье». Миссис Дедал, по всей вероятности, была довольна, поскольку надеялась, что бдительному надзору священников и компании безобидных энтузиастов удастся в конце концов наставить ее сына на путь истинный: она уже начинала за него бояться. Морис ничего не сказал и не стал спрашивать ни о чем. Он не понимал, что заставило его брата примкнуть к патриотам, и не верил, что Стивен находит для себя хоть какую-то пользу в изучении ирландского; однако выжидал молча. Мистер Дедал сказал, что он не против того, чтобы его сын изучал язык, покуда это не отвлекает его от основных занятий.