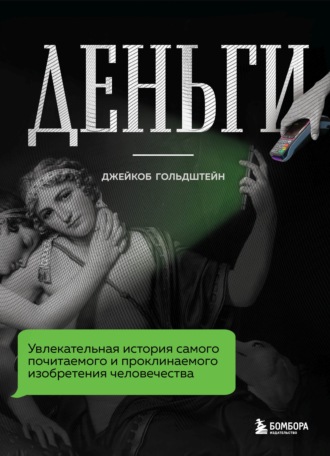
Джейкоб Гольдштейн
Деньги. Увлекательная история самого почитаемого и проклинаемого изобретения человечества
Часть II
Убийца, мальчик‐король и изобретение капитализма
В Европе в XVII веке одновременно начали происходить несколько вещей. Кузнецы случайно стали банкирами. Крошечная страна изобрела фондовую биржу, современную корпорацию и стала баснословно богатой. А азартные игроки обнаружили новое представление о деньгах и будущем. Эти нити переплелись и создали ткань капитализма.
Героем, а также антигероем этой эпохи считается Джон Ло. Он без стеснения лезет в первые кадры нового, только зарождающегося мира. К концу эпохи Ло находится в центре всего. Он создает современную экономику для всей нации, становится самой богатой некоролевской особой в мире и захватывает контроль почти над половиной того, что сейчас является континентальной частью Соединенных Штатов, – но только после того, как он был осужден за убийство, скрывался в течение двадцати лет и выиграл целое состояние в азартные игры. Мир, в котором родился Ло, и мир, который он создал, могут во многом объяснить успехи и провалы денег, банков и, по большому счету, целых стран.
Глава 3
Как кузнецы случайно заново изобрели банки (и посеяли панику в Британии)
В Англии XVII века ситуация с деньгами была далека от идеала.
С тех пор как были изобретены монеты, люди пытались добыть из них немного металла: они обрезали их по краям или клали в мешок и трясли, чтобы получить серебряную или золотую пыль. Власти, по идее, вынуждены были регулярно чеканить новые монеты (как сейчас современные правительства меняют рваные банкноты на новые), чтобы восполнить потери.
Однако в Англии XVII века не было соответствующих ответственных органов, и ко второй половине века в серебряных монетах стало гораздо меньше серебра, чем должно было быть. Каждый раз, когда одному человеку нужно было заплатить другому, покупателю и продавцу приходилось решать, стоит ли эта монета того, что она должна стоить, или она стоит меньше, т. к. в ней недостаточно серебра.
Рабочие и наниматели спорили из-за зарплаты. На рынках дрались на кулаках. Позже историк Томас Маколей писал: «Ничего нельзя купить без спора. Возле каждого прилавка люди с утра до ночи пререкаются». В договорах стали указывать не только сколько необходимо заплатить, но и общий вес монет в уплату. История пошла в обратном направлении. Монеты стали меньше походить на деньги и больше – на кусочки ценного металла.
Еще одна проблема лишь усугубляла ситуацию. Из-за разницы в мировых ценах люди могли извлечь выгоду, обменяв серебряные монеты Англии на золото в Париже или Амстердаме. В результате, даже когда британский монетный двор чеканил качественные серебряные монеты, люди практически сразу же изымали их из обращения, обменивая на золото в другой стране.
Итак, у британцев никогда не было достаточно серебряных монет, а те, что были, отличались ужасным качеством, и им никто не доверял. Англии нужно было больше денег. Не в смысле больше богатств, а именно символов, чтобы люди могли покупать и продавать вещи.
Так случилось, что кузнецы, даже не осознавая этого, стали решать проблему недостатка денег. Также они неумышленно создали новую проблему, которая преследует нас по сей день.
Богатые люди иногда хранили свое золото и серебро в хранилищах местных кузнецов. Последние давали людям квитанции – точно так же, как это делал торговец в Сычуани сотни лет назад. Со временем люди стали использовать квитанции в качестве средства платежа при покупке и продаже. Но это была всего лишь замена металла на бумагу; в мире не становилось больше денег. Однако следующий шаг стал колоссальным. Эта радикальная подвижка не только ставит кузнецов XVII века в один ряд с современными банками, но и объясняет, почему последние так важны и опасны.
Кузнецы стали выдавать людям займы. Больше вам не нужно было отдавать кузнецу свое золото, чтобы получить квитанцию. Вы просто могли пообещать ему заплатить с процентом. В обмен на ваше обещание он выдавал вам квитанции, которые циркулировали как деньги. Вы могли выйти на улицы Лондона и использовать бумаги для покупки вещей. Внезапно в Лондоне стало больше денег в обращении, чем было, – кузнецы создавали деньги из ничего. Кузнецы решили проблему недостатка денег.
Примерно в это же время нечто похожее происходило в Швеции, где людям не терпелось попробовать бумажные деньги. У шведов было много меди, и они использовали ее для чеканки монет. Этот металл не был очень ценным, поэтому монеты были большими. Даже само слово «монета» не совсем им подходит: монета максимального номинала в 10 далеров была 61 см в диаметре и весила 19,5 килограмма. Люди носили их, привязав к спине. Поэтому шведы создали банк, выдававший людям бумажные деньги в обмен на огромные медные монеты. Как и кузнецы в Англии, шведский банк почти сразу же стал выдавать жителям бумажные деньги в качестве займов. Этому было так сложно сопротивляться; бумажные деньги будто призывали к займам.
Сегодня банки делают почти то же самое, что делали британские кузнецы четыре века назад: когда вы кладете деньги на хранение в банк, он одалживает часть этой суммы кому-то еще. Эти деньги – ваши деньги – теперь находятся в двух местах сразу. Это и ваши деньги, на вашем счету в банке. Это также и деньги заемщика. Он может положить свои деньги в другой банк, который затем может одолжить часть их суммы другому заемщику. Теперь один и тот же доллар находится в трех местах сразу. Это называется «частичное банковское покрытие». Именно таким образом сегодня создается большинство денег в мире.
Это кажется призрачным, и неспроста. Хотя кузнецы навсегда преобразовали британскую монетарную систему, начав решать задачу нехватки денег, они создали новую проблему. Кузнецы выдавали больше квитанций на получение золота, чем у них было золота в реальности. Если бы все люди с квитанциями в одно время потребовали его обратно, кузнецы (и требующие) оказались бы в затруднительном положении. Сегодня ситуацию, когда одновременно все люди обращаются в банк за своими вкладами, мы называем набегом на банк. И банки, и люди, которые хотят получить свои деньги, оказываются в затруднительном положении.
Доверие – это то, что делает деньги деньгами. Это означает, что мы верим, что сможем купить вещи на этот листок бумаги или кусочек металла завтра, в следующем месяце и в следующем году.
В то время как бумажные деньги были в новинку в Европе, банки уже переживали набеги. В Венеции менялы начали хранить золото граждан в XIV веке – и одновременно одалживать его другим. Менялы сидели на лавках на оживленном мосту через Гранд-канал, поэтому их называли banchieri, что переводится как «сидящие на лавке» – отсюда корень для наших слов «банкир» и «банк». Чтобы сократить риск набегов на банки, венецианцы потребовали от сидящих на лавке хранить определенный процент золота в качестве резерва. В Барселоне действовал более жесткий режим регулирования: банкиров, которые не могут выплатить деньги вкладчикам, принуждали жить на воде и хлебе, а в 1360 году одного разорившегося банкира из Барселоны обезглавили перед его лавкой.
Лондон столкнулся с набегами на банки сразу после того, как кузнецы стали банкирами. Они одолжили много золота королю Чарльзу, а в 1672 году ему потребовалось больше денег на ведение войны с голландцами, поэтому он решил не расплачиваться с кузнецами (хорошо быть королем). Лондонцы смотрели на листы бумаги, которые выдавали им кузнецы, – квитанции на получение – и нервничали. Все шли к кузнецам и просили вернуть их золото, а его, конечно, было недостаточно. Некоторые кузнецы разорились. Других посадили в тюрьму за долги. Как минимум один сбежал из страны. Внезапно билеты кузнецов перестали казаться деньгами. Всего через две недели после того, как король перестал платить по своим счетам, казначей военно-морского флота забеспокоился, что он «брал билеты, которые теперь не являются деньгами».
Доверие – это то, что делает деньги деньгами. Это означает, что мы верим, что сможем купить вещи на этот листок бумаги или кусочек металла завтра, в следующем месяце и в следующем году. Один из вечных вопросов о деньгах, актуальных до сих пор: «Кому мы можем доверять?» Британцы пытались доверять правительству, но монеты, которые то чеканило, не справлялись с задачей. Поэтому граждане обратились к кузнецам, и это тоже ничем хорошим не закончилось. И только следующее поколение смогло найти эффективное решение: оно было ни сугубо частным, ни сугубо государственным, но неким компромиссом, учитывающим интересы как правительства и банкиров, так и людей – всех трех противостоящих групп.
Первый указ Джона Ло
Джон Ло родился почти в идеальной обстановке – над кузницей в Эдинбурге. Кузнецом был его отец, стоял 1671 год, время накануне набега на кузнецов-банкиров в Лондоне.
Джон рос, а его отец богател. Когда мальчику было 12 лет, его отец купил небольшой замок за Эдинбургом. Почти в то же время Ло поступил в школу-пансионат, где он преуспел в математике и в предмете под названием «мужские занятия» – к небольшому разочарованию, это всего лишь означало, что он был хорош в теннисе.
Ло окончил школу, переехал в Лондон, волочился за женщинами, покупал одежду не по средствам и начал играть в азартные игры. На жаргоне того времени его звали beau («франт»), что рифмовалось с bro («брат»), что почти то же самое, но более возвышенно. Отец Ло умер, а Джон проиграл в карты все свое состояние, поэтому ему пришлось продать замок, чтобы выплатить долги. В классическом стиле bro за него поручилась мать, у которой была своя доля наследства. Она выкупила у сына замок, чтобы сохранить его в семье и вытащить Ло из тюрьмы должников.
Весной следующего года – 9 апреля 1694 года, когда ему исполнялось двадцать три года, – у Джона Ло состоялась встреча, которая в итоге привела (опосредованно, но все же) к одному из самых крупных и безумных экспериментов в истории денег.
Посреди дня Ло стоял на Блумсбери-сквер, на задворках Лондона, и тут к нему подъехала карета. Из нее вышел молодой человек, подошел к Ло и вынул шпагу. Ло вынул свою шпагу и нанес удар человеку. Тот упал замертво.
Этим человеком был Эдвард Уилсон, который, как и Ло, был молодым лондонским франтом. Это была запланированная дуэль, призванная решить спор. Никто не знает предмета ссоры, но, как это часто бывает, в деле наверняка были замешаны деньги, любовь или честь.
Уилсон был пятым сыном аристократа средней руки, погрязшего в долгах, тем не менее тот жил как самый богатый человек в Лондоне. Никто не знал, откуда он берет деньги. Некоторые шептались, что жена короля влюбилась в Уилсона и снабжала его казенными деньгами. Тридцать лет спустя вышел анонимный памфлет с другой историей: «Любовные письма между почившим аристократом и знаменитым мистером Уилсоном: настоящая история подъема и удивительного великолепия прославленного франта». Возможно, почивший аристократ давал Уилсону взятки за молчание. Один из недавних и самых тщательных биографов Ло Антуан Мерфи предполагает, что кто-то – король или аристократ – не хотел, чтобы Уилсон выдал его секреты, и каким-то образом уговорил Ло убить того.
Ло жил с женщиной, которая была замужем за другим человеком. Какое-то время сестра Уилсона жила в том же здании, что и Ло, но затем в оскорбленных чувствах покинула дом, узнав, что за грех творится под его крышей. Уилсон узнал об этом и предъявил Ло претензию. Согласно одной из версий, это и привело к дуэли.
Какой бы ни была причина конфликта, преступление было очевидно. В Англии XVII века дуэли были вне закона, и Ло арестовали, бросили в тюрьму и обвинили в убийстве Эдварда Уилсона. Его приговорили к смерти через повешение (еще четырех людей также приговорили к повешению в то же время. Двух казнили за подделку монет, одного – за срезание серебра с монет. Как и власти средневекового Китая, британское правительство убивало людей, чтобы сохранить деньги в хорошем состоянии).
Ло не думал, что приговор будет исполнен. Дуэли были обычным делом среди джентльменов, никто не помнит, чтобы кого-то за них казнили. В конце концов король дуэлянтов миловал. Но семья Уилсона настаивала на смерти виновника. Король колебался. Ло впал в отчаяние.
Затем в первую неделю 1695 года Ло сбежал из Тюрьмы королевской скамьи. Подробности неизвестны, но из писем того времени следует, что у Ло были влиятельные друзья, заставившие надзирателя отвернуться, в то время как сообщник усыплял охранников и освобождал Ло из камеры. Теперь, будучи беглым преступником, Ло отправился на лодке в Европу.
Ему предстояло совершить интеллектуальную революцию, меняющую представление людей о будущем и деньгах. Ло использует эту революцию, чтобы стать богатым.
Глава 4
Как стать богатым с высокой долей вероятности
Мало что известно о следующих десяти годах жизни Ло. Он исчезает со страниц истории, впоследствии возникая то в Париже, то в Венеции, то в Амстердаме. Каждый раз, когда он появляется из небытия, он играет в азартные игры с местной элитой. И каждый раз выигрывает. Дело не в том, что ему везло. Обман также кажется маловероятным. Ло выигрывал, потому что он открыл интеллектуальную дисциплину – целое мировоззрение, – которая в итоге сформирует образ мыслей миллионов людей, их способ восприятия бога, денег, смерти и неизвестного будущего. Эта дисциплина – теория вероятностей. Она же – основа большей части современных финансов и, если на то пошло, большей части современного мира. Ее открыли игроки.
Люди играли в азартные игры на протяжении всей истории; четырехгранные костяшки, использовавшиеся как игральные кости, находили в местах археологических раскопок по всему миру. Но, как это ни удивительно для современного разума, игроки никогда не считали. Они знали, что одни варианты вероятнее других. Но они знали об этом смутно, не в количественном выражении. Теперь они наконец начали вычислять точно, какова вероятность их выигрыша или проигрыша. Во времена, когда большинство людей считали исход игры удачей или божественным провидением, осуществление расчетов было сродни суперсиле.
Одним из самых важных игроков-математиков был странный гений Блез Паскаль. Будучи подростком, она написал трактат по геометрии, который мог бы впечатлить самого Декарта (который как раз активно разрабатывал основы современной геометрии). Он изобрел названный в свою честь (Паскалина) механический калькулятор, который никогда так и не стал популярным, вероятно из-за высокой стоимости производства. Какое-то время, когда Паскалю было за двадцать, он испытывал религиозный кризис и бросил играть. «Кто оставил меня здесь? – писал он. – Чьим приказом и предписанием было предопределено это место и время? Вечная тишина этих бесконечных пространств повергает меня в ужас». Когда ему было двадцать семь, эти глубокие вопросы вызвали своего рода физический срыв – головные боли, проблемы с глотанием, – поэтому он отвернулся от экзистенциальной бездны и вновь обратился к игральному столу.
В 1654 году французский математик и игрок шевалье де Мере́ задал Паскалю пару вопросов. Один из них касался вероятности выбросить две шестерки за несколько попыток. Другой был глубже и сложнее. Над этим игроки ломали голову больше века.
Вопрос известен как «проблема очков» и заключается в следующем. Два игрока кладут деньги в горшок и договариваются, что банк получит тот, кто выиграет определенное количество раундов. Это может быть любая игра на удачу – бросание костей, подкидывание монеты и т. д. Игроки начинают игру, но им нужно остановиться до того, как они завершат условленное количество раундов. Какой будет честная система раздела банка на основе очков, когда игра остановлена?
Эти вопросы вдохновили Паскаля написать Пьеру Ферма, юристу, который подрабатывал математическим гением. Несколько месяцев они обменивались письмами, работая над задачами. Проблема выбрасывания двух шестерок решалась легко, а вот с очками пришлось повозиться. Решение, которое разработали Паскаль и Ферма, оказало огромное влияние на историю денег и человеческую мысль.
Вот простой пример проблемы. Допустим, мы с вами положим по 50 фунтов в банк и договоримся, что все 100 фунтов достанутся тому, кто выиграет лучшую из трех серий подбрасывания монет. Вы ставите на орла, я ставлю на решку. Вы подбрасываете монету один раз, выпадает орел. Тогда мы должны остановить игру, прежде чем снова подбросить монету. У вас один к нулю. Как мы должны разделить 100 фунтов?
Идея Паскаля и Ферма заключалась в том, чтобы рассмотреть все возможные исходы игры, а затем выяснить, какой процент исходов выиграет каждый игрок, и соответственно разделить банк. Они детально проработали математику, но мы можем рассмотреть идею на простом примере, не вдаваясь в подробности.
Если мы остановим спор «лучшая серия из трех» после одного броска, когда у вас один орел, а у меня ноль решек, возможные результаты двух оставшихся бросков будут следующими:
1) орел, орел (вы выигрываете);
2) решка, орел (вы выигрываете);
3) орел, решка (вы выигрываете);
4) решка, решка (я выигрываю).
Вы выигрываете в 75 % случаев (три из четырех), а я выигрываю в 25 % случаев (один из четырех). Из 100 фунтов в банке вы должны получить 75 фунтов, а я – 25 фунтов.
Возможно, самое удивительное в этом решении то, насколько оно кажется нам неудивительным. Все так очевидно! Самое замечательное здесь то (весь смысл истории), что за тысячи лет азартных игр, насколько нам известно, никто не догадался об этом раньше, потому что люди не думали о неопределенном будущем как о чем-то, что можно рассчитать. Будущее определяла случайность, или боги, или единый Бог; но его не определяла математика. Вот почему результат двух ученых стал переломным моментом в истории мысли и денег. Вот почему один математик из Стэнфорда недавно написал целую книгу о решении этой проблемы Паскалем и Ферма: «В ней впервые изложен метод, с помощью которого люди могут предсказывать будущее».
Люди не думали о неопределенном будущем как о чем-то, что можно рассчитать. Будущее определяла случайность, или боги, или единый Бог; но его не определяла математика.
Через несколько лет после переписки с Ферма Паскаль вернулся на край экзистенциальной пропасти. Но он взял с собой этот новый тип мышления. «Бог есть или Его нет, – писал Паскаль. – Но в какую сторону нам склониться? Разум здесь ничего не может решить… На краю этого бесконечного расстояния разыгрывается игра, в которой выпадет орел или решка. На что вы поставите?
Если вы поставите на то, что “Бог есть” (для Паскаля это означало христианского Бога) и вы выиграете, то получите “вечность жизни и счастья”. Если вы ставите на то, что “Бога нет” и вы выиграете, вы оказываетесь правы. Это пари, где выигрыш для одной стороны бесконечно более значим, чем выигрыш для другой – вечность жизни и счастья в сравнении с правотой. Выбор очевиден. Тогда без колебаний держу пари, что Он есть».
Паскаль заключил это пари. Математическое мышление вдохновило его бросить математику, продать почти все, что у него было, и уйти в монастырь. Вероятностное мышление преодолело видовой барьер. Теперь дело было не только в игральных костях и деньгах, дело было во всем.
Вероятность в дикой природе
Идеи Паскаля и Ферма быстро распространились среди европейских интеллектуалов. Несколько десятилетий спустя они дошли и до Джона Ло (предположительно после того, как он чуть не проиграл семейный замок за игорным столом). «Никто не понимал вычисления и числа лучше, чем он, – писал один из друзей Ло. – Он был первым человеком в Англии, который упорно старался выяснить все вероятности на игральных костях».
Ло вручал игроку шестигранный кубик и предлагал коэффициент 10 000 к 1 против броска шести шестерок подряд. Он знал, что шансы на такой результат были примерно 1 к 50 000 (или 1 к 6 в шестой степени). Будучи беглым преступником, в Париже в начале 1700-х годов он подходил к игорным столам с мешками, полными золота. Он часто играл за заведение или в роли банкира в играх, где шансы не слишком благоприятствовали заведению. Он продолжал выигрывать. Его ставки в конце концов выросли настолько, что он отчеканил свои собственные золотые фишки.
Поскольку Ло использовал теорию вероятностей, чтобы разбогатеть, его современники использовали ее, чтобы изменить то, как люди думали о смерти (и деньгах). До этого времени люди размышляли о смерти примерно так же, как о костях: они знали, что для некоторых людей (младенцев, стариков) она более вероятна, чем для других (подростков). Но они не знали этого в цифрах. Они были похожи на игроков до открытия теории вероятностей: они не занимались математикой.
Это оказалось большой проблемой для европейских правительств, которые в то время собирали деньги не с помощью регулярных налогов, а путем продажи аннуитетов (среди других схем). Чтобы купить аннуитет, я плачу правительству единовременную сумму (скажем, £1000), а взамен правительство обещает мне фиксированную ежегодную выплату (скажем, £70) на всю оставшуюся жизнь.
Аннуитет – это, как ни грубо, ставка на то, как долго проживет покупатель. Если я сегодня куплю аннуитет, а завтра умру, правительство сохранит все мои деньги и не будет мне ничего платить. Я проигрываю – правительство выигрывает. Если я доживу до ста лет, правительство должно будет отправлять мне эти сладкие, сладкие чеки в счет аннуитета каждый год в течение десятилетий. Правительство проигрывает – я выигрываю. Во времена Джона Ло правительства и их граждане делали такие ставки, но никто не знал, как долго проживут люди. Они играли в кости, но не знали шансов.
В то время в Англии аннуитет стоил одинаково, независимо от возраста человека, который его купил. Поэтому все начали покупать аннуитеты для своих детей-подростков, которые, вероятно, проживут долго и получат огромную прибыль. Хорошо для детей, плохо для Англии.
Британский математик Эдмунд Галлей знал о работах Паскаля и Ферма и полагал, что математика для аннуитетов должна быть разрешима. К тому времени, когда ему исполнилось тридцать три года, Галлей уже объехал полмира, нанося на карту звезды, и помог своему приятелю Исааку Ньютону опубликовать «Принципы», книгу, в которой излагалась теория гравитации (пройдет еще несколько лет, прежде чем Галлей предскажет возвращение пока еще безымянной кометы). Примерно в это же время он стал редактором журнала нового вида, научного журнала, и у него была та же проблема, что и у каждого редактора каждого издания на протяжении всей истории: он должен был найти материал, чтобы заполнить страницы. Поэтому, когда он услышал о восточноевропейском городе под названием Бреслау, где велись необычайно точные записи о рождениях и смертях граждан, у него возникла идея.
В январе 1693 года Галлей опубликовал «Оценку степеней смертности рода человеческого, выведенную из любопытных таблиц рождений и похорон в городе Бреслау с попыткой установить цену пожизненных рент».
В самом первом предложении он сразу обозначает суть темы, излагая ее «кучерявыми» прописными буквами, что характерно для той эпохи: «Размышление о Смертности Человечества имеет, помимо моральных, цели физические и политические». «Да, я знаю, что смерть глубоко связана с тем, что значит быть человеком, но это также физическая вещь в мире, и мы должны понять, что это значит для нас как нации». Галлей упомянул несколько других людей, которые недавно пытались проанализировать уровень смертности жителей Лондона и Дублина, но он указал, что ни у кого из них не было доступа ко всей необходимой информации, потому что никто в Лондоне или Дублине не следил за рождениями и смертями. Теперь появились эти записи из Бреслау.
Затем Галлей начал много заниматься математикой. Несмотря на жалобы на «самый трудоемкий расчет», он точно выяснил вероятность смерти людей разных возрастов. Вероятность смерти человека, которому только что исполнилось двадцать, до его следующего дня рождения составляла 1 %. Вероятность пятидесятилетнего человека дожить до пятидесяти одного года оценивалась в 3 %. «Человек в возрасте 30 лет может обоснованно ожидать, что он проживет еще от 27 до 28 лет», – писал он. И так далее.
Галлей считал, что аннуитет будет иметь справедливую цену, если покупатель со средней продолжительностью жизни получит обратно ровно столько, сколько он вложил. Если он умрет раньше, он соберет меньше, чем вложил; если он проживет дольше, то соберет больше. И Галлей ясно видел, что Англия продает свои аннуитеты слишком дешево: каждый, кто моложе шестидесяти, скорее всего, получит больше, чем вложил.
Это был не просто случайный набор нездоровых фактов или полезный расчет. Это был метод. Учитывая данные о рождениях и смертях для данного населения, теперь любой мог вычислить, насколько вероятно, что человек в определенном возрасте умрет. Галлей решил проблему очков, но только для самой жизни.
Несколько десятилетий спустя пара сильно пьющих шотландских священников по имени Александр Вебстер и Роберт Уоллес подумали, что таблицы Галлея, построенные на данных случайного города в Центральной Европе, могут помочь им решить проблему, над которой они бились: как обеспечить жен и детей умерших молодыми шотландских священников.
Страхование жизни уже существовало, но, как и в случае с аннуитетами до появления Галлея, никто толком не имел представления о вероятности. Как и аннуитеты, страхование жизни – это ставка на то, как долго проживет застрахованный, но победители и проигравшие здесь меняются местами. Как покупатель, я выигрываю (хорош выигрыш!), если покупаю полис, а затем сразу умираю, так что моя семья получает большую выплату, тогда как я заплатил совсем немного. Но, конечно, это работает только в том случае, если у страховой компании есть деньги, чтобы заплатить. Если у компании закончились деньги, потому что она продавала полисы слишком дешево, моей семье не повезло.
Прежде чем учредить Фонд вдов шотландских священников, Уоллес и Вебстер использовали таблицы Галлея, новую науку о вероятности и помощь друга-математика, чтобы оценить, на какую сумму должен скинуться каждый священник. Уоллес и Вебстер предсказали, что через десять лет после запуска фонда в нем будет 47 401 фунт стерлингов. Предсказание оказалось феноменально точным: реальная цифра оказалась 47 313 фунтов стерлингов. Они ошиблись менее чем на 1 %. Интеллектуальная революция сделала это возможным. Люди начали мыслить по-новому – более холодно и математично, – и это связывало жизнь и смерть с деньгами.
Страхование и аннуитеты были способом вернуть принцип солидарности (но не в полном объеме), который действовал в небольших обществах, существовавших до денег. Поскольку многие священники платили страховые взносы и проживали долгую жизнь, накапливались деньги, чтобы поддерживать жен и детей священников, умиравших молодыми. Сегодня почти каждое развитое сообщество на земле имеет какой-то механизм социального страхования – например, программа «Социальное обеспечение» в Соединенных Штатах. Поскольку с каждой зарплаты миллионы рабочих вкладывают немного денег в банк, миллионы людей, которые слишком стары, чтобы работать, получают из него небольшую сумму.
Вероятностное мышление стало настолько распространенным, что мы почти перестали его замечать. Страхование, конечно, по-прежнему строится на принципах вероятности. Но так же обстоят дела и с финансами, бизнесом, спортом, политикой и медициной. Мы пришли к тому, чтобы принять как данность революционную идею о возможности предсказывать будущее.


