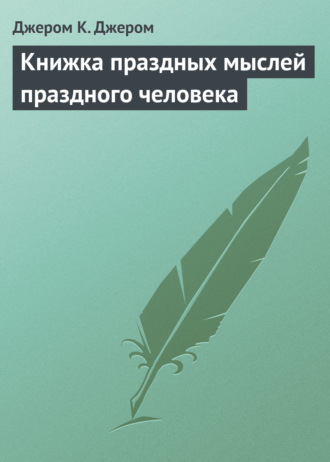
Джером К. Джером
Книжка праздных мыслей праздного человека
XI
Следует ли нам говорить, что мы думаем, или думать, что говорим?
Один из моих друзей уверяет, что самой характеристической чертой нашего времени является склонность лгать, и приводит доказательства. Докладывает, например, прислуга, что приехали мистер и миссис Б.
– Ах, черт бы их подрал! – восклицает хозяин.
– Тише! – шепчет хозяйка. – Сусанна, затворите же дверь. Сколько раз я вам говорила, что не следует оставлять двери открытыми за собою. Неужели не можете запомнить этого?
Хозяин на цыпочках прокрадывается к себе наверх, в кабинет, и запирается там. Хозяйка охорашивается перед зеркалом и пережидает, когда будет в состоянии настолько овладеть собой, чтобы не выказать обуревавших ее чувств, и только тогда спешит в гостиную.
Поцеловавшись с гостьей и пожав руку гостю, хозяйка с приветливой улыбкой щебечет о том, как она обрадована посещением дорогих гостей, и осведомляется, отчего они одни, без деточек. Почему перестал показываться молодой мистер Б.? Чем он в последнее время так занят, что забывает любящих его друзей? В конце концов придется рассердиться на него. А прелестная Флосси? Что? Слишком еще молода, чтобы часто ходить в гости? Зато она такая миленькая и так хорошо себя держит… Ах как жаль, что они остались дома! Это сильно омрачает удовольствие.
Визитеры, надеявшиеся, что хозяйки не окажется дома, и явившиеся только потому, что по этикету необходимо бывать у своих добрых знакомых или друзей никак не менее четырех раз в сезон, в свою очередь рассыпаются в уверениях о том, что чуть не умерли от тоски, не видавшись столько времени, да все никак не могли выбраться.
– Ну а нынче мы уж с утра решили, что непременно попадем к вам, что бы ни задерживало нас, – поет миссис Б., делая умильные глазки и стараясь придать своему резкому голосу как можно больше сердечности. – Я как только сегодня поутру раскрыла глаза, так сейчас и говорю мужу: «Джон, милый, как хочешь, а я во что бы то ни стало должна повидать мою дорогую миссис В., иначе с ума сойду от скуки по ней!..»
В дальнейшем гости сообщают, что к ним звонил по телефону адъютант принца Уэльского и сообщил, что его высочество желал бы приехать к ним вечером; но они сумели найти предлог, чтобы отделаться на этот раз от принца, лишь бы наконец повидаться с дорогими друзьями. И неужели бесценный мистер В. уехал надолго и как раз в этот день?.. Ах как жаль! Ах эти ужасные дела, лишающие людей самых лучших удовольствий!..
Хозяйка тревожно прислушивается к доносящемуся сверху легкому шуму, бормочет что-то о противных кошках, которые лазают повсюду и от которых только и жди всяких проказ, потом изливается в выражениях сожалений о своем бедном Джиме, которому по возвращении из экстренной деловой поездки предстоит огорчение узнать, что он был лишен самого большого своего удовольствия – видеть… Ну и так далее все в таком вымученном, нудном духе.
Такие сцены повторяются повсюду каждый день, и все по одной и той же неизменной программе. Общество проникнуто той ложью, будто бы все люди одинаково привлекательны, будто мы в восторге видеть каждого другого, будто бы каждый другой также в восторге видеть нас, будто бы и все другие и мы сами в отчаянии, когда после свидания приходится расставаться.
Что в самом деле может быть нам приятнее: спокойно сидеть у себя в кабинете или бежать в гостиную слушать, как там надрывается мисс Г.? Конечно, первое. Но в силу общественных условностей, или, точнее, в силу общественной лжи мы бросаем, быть может, даже задушевную – без кавычек – беседу с искренним приятелем и опрометью несемся в гостиную, где начинает петь мисс Г. Она вовсе не была расположена петь именно в этот раз и в этом доме, но хозяйка упросила ее, и девица, немного поломавшись, садится к роялю и насилует свой и без того немелодичный голос, который от этого звучит еще хуже. Может быть, она никогда не решилась бы демонстрировать свой голос, если бы ее не уверили другие – тоже из лживой любезности, – будто он у нее замечательно звучный и приятный, способный доставить особенное наслаждение людям с музыкальным вкусом. И вот мисс Г. вывизгивает что-то невообразимое, а мы с глупейшим видом сидим вокруг нее, притворяемся, что находимся в упоении от ее мастерского исполнения и со скрытым бешенством ожидаем окончания этой взаимной пытки. Когда же она наконец оканчивается, мы, устроив гром рукоплесканий, огорченно восклицаем:
– Неужели уже кончено? Быть не может! Помнится, там был еще один куплет, и вы утаили его, чтобы обидеть нас. Смилуйтесь, не сокращайте нам и без того короткого удовольствия слушать ваш дивный голос.
Певица уверяет, что никаких куплетов она не утаивала и песня воспроизведена ею полностью. Но если господам слушателям уж так желательно, то она готова пропеть еще одну вещичку, хотя и не чувствует себя в ударе.
И вот начинается новое всеобщее самобичевание.
Вина наших хозяев всегда объявляются нами самыми лучшими, какие нам когда-либо приходилось пробовать. Но от второго стакана мы отказываемся – злодей доктор строжайше воспретил нам пить более одного стакана. А сигары наших хозяев?.. О, нам и в голову не приходило, что есть такие чудные сигары! Как, выкурить вторую? Ах нет! Излишнее курение нам также воспрещено все тем же безжалостным и неумолимым доктором. Но если любезнейшие хозяева уж так настаивают, то, быть может, они разрешат взять вторую сигару в карман, чтобы мы потом могли насладиться ею дома? А кофе, который собственноручно сварила нам хозяйка! Не будет ли она так добра сообщить нам секрет приготовления такого превосходного кофе? А их бэби! Мы немеем от восторга! Мы знаем обыкновенных бэби, и, сказать откровенно, никогда не находили в них особенной прелести и всегда удивлялись, чего это так с ними носятся! Но их бэби – это… это, действительно, нечто сверхземное, божественное! Так и хочется спросить, откуда милые хозяева раздобылись таким чудом. Если суждено нам самим иметь бэби, то мы желали бы именно такого и благословляли бы судьбу. Декламация же пятилетней хозяйской дочки известной шутки под заглавием «Визит к дантисту» заставляете нас обалдеть от приятного изумления. Такой небывалый сценический талант в пятилетнем ребенке! О, это, несомненно, будущая мировая знаменитость, которой суждено создать совсем новую школу сценического искусства…
Каждая невеста признается нами очаровательной и ее подвенечный наряд – восхитительным (описание этого рода нарядов вы можете прочесть в любом местном листке). Каждая свадьба почитается радостным общественным событием. Держа в руке наполненный «искрометным шампанским» бокал, мы в радужных красках рисуем картину счастья, ожидающего данную парочку. Да и как не быть счастливой этой парочке, когда новобрачная – дочь образцовейшей матери, а новобрачный составляет украшение местного молодого мужского общества? (Насмешливое хихиканье плохо воспитанных девиц и фырканье в нос некоторых юнцов, занимающих нижний конец пиршественного стола, покрываются гулом одобрения степенной части компании, и оратор опускается на свое место в сознании добросовестно исполненной общественной обязанности.)
Мы вносим ложь даже в самую религию. Находясь в церкви, мы в известные промежутки фарисейски подымаем свой преисполненный гордости взор вверх и притворно-покорным голосом стараемся уверить Всевышнего в своем ничтожестве и в своей полнейшей гнусности. (Как будто Он Сам не знает этого!) Мы делаем это с гордостью, потому что воображаем, будто это требуется от нас, и чем больше мы будем самобичевать себя в этом месте, тем выше будем подниматься в глазах наших ближних.
Мы показываем вид, что считаем каждую женщину доброй, как ангел, а каждого мужчину – честным, как сама честность, и когда факты с неопровержимой ясностью свидетельствуют совсем противоположное, мы притворяемся, что никак не можем поверить этим фактам и что нам это чересчур больно. Или же, смотря по обстоятельствам, с подчеркнутым презрением и негодованием отвертываемся от уличенных и даем им понять, что, будучи сами вполне совершенными, мы не можем иметь ничего общего с такими выродками человечества.
Нашему горю по умершей богатой тетушке, которой мы прямые наследники, нет границ, и мы носим по ней глубокий траур. Одно может хоть отчасти смягчить наше отчаяние – это мысль о том, что бесценная, незабвенная тетушка отошла в лучший мир… Кстати, об этом лучшем мире. Предполагается, что каждый, ушедший из этого мира, обязательно попадает в какой-то другой, несравненно лучший. Стоя вокруг открытой могилы, мы об этом говорим друг другу, а духовенство так убеждено в этой «истине», что выработало по этому случаю особые формулы.
Еще когда я был подростком, меня поражал тот общепризнанный факт, будто бы все умершие идут прямо на небо. При мысли о той массе умерших, которая когда-либо жила на земле, мне представлялось, что небо должно быть уже чересчур переполнено. Идя дальше в своих мыслях, я невольно жалел дьявола, который должен страшно скучать в своем аду, так как никто никогда не считается подлежащим отправке туда. Няня, которой я решился высказать свое сожаление к старому несчастному дьяволу, всеми ненавидимому и избегаемому, обругала меня, пригрозила пожаловаться на меня моим родителям и в конце концов обнадежила, что если я буду продолжать вести такие безбожные рассуждения, то дьявол непременно когда-нибудь овладеет мною и потащит к себе. Вот тогда я и узнаю, каково жариться там у него в неугасимом пекле. Тогдашнее настроение моего ума было таково, что я положительно обрадовался открывшейся мне перспективе попасть в компаньоны к бедному дьяволу и доставить ему некоторое утешение своей особой. Наверное, думалось мне, он так будет тронут моей симпатией к нему и готовностью к самопожертвованию ради его удовольствия, что, в свою очередь, пожалеет меня и не станет мучить.
Каждый публичный оратор прославляется нами как самый «красноречивый и увлекательный». Марсианин, читающий наши газеты (наверное, у марсиан есть способы читать и на таком дальнем расстоянии, на какое Марс отстоит от нашей планеты), должен был убежден, что каждый член нашего парламента является великодушным, простосердечным и любвеобильным святым, обладающим обыкновенными человеческими свойствами в такой лишь степени, чтобы не давать ангелам унести себя на небо в любую минуту.
Чем выше кто-нибудь поднимается по общественной лестнице, тем шире круги тех, которые находят нужным выражать по отношению к нему обязательные чувства. Однажды у нас в Англии опасно заболел один высокопоставленный и очень добрый человек; газеты тотчас же протрубили, что вся нация погружена в скорбь. Люди, обедавшие в ресторанах и узнавшие там печальную новость, роняли голову на стол и плакали навзрыд. Встречаясь на улицах, совсем почти чужие друг другу люди останавливались, чтобы обменяться слезами. Так, по крайней мере, писалось. Я в то время находился в отсутствии в Англии, но собирался вернуться, получив же это известие, призадумался. Взглянув на себя в зеркало, я был шокирован своим видом, потому что выглядел так, точно на моей родине все благополучно. Я почувствовал, что если возвращусь домой с таким безучастным видом, то могу только увеличить горе нации. И как я ни старался, но не был в состоянии устроить нужное огорченное лицо. Обругав самого себя бесчувственнейшим в мире себялюбцем, я решил отложить свое возвращение до более благоприятного времени. Дело в том, что мне в той стране, где гостил (то есть в Америке) сильно повезло с одной из пьес, и я был в самом радужном настроении, так что готов был петь и плясать.
Однако, как нарочно, у меня так сложились обстоятельства, что я против воли был вынужден отправиться к родным пенатам. Я ожидал, что горе, постигшее мою родину, сделает таможенных чиновников настолько равнодушными к своим служебным обязанностям, что они пропустят без всякого внимания захваченный мною из-за моря ящик превосходных сигар. Однако я ошибся в расчете: дуврская таможня, как и всегда, стояла на высоте своей задачи. Ревизовав мой багаж, чиновник потребовал с меня пошлину с таким видом, точно в стране все было в обычном порядке, и даже довольно весело усмехнулся, когда заметил мою разочарованную мину. Тут же, рядом, одна девочка хохотала во все горло по поводу того, что ее мамаша уронила на пол свой раскрытый ридикюль и из него посыпался целый дождь мелких блестящих предметов, которые также оказались подлежащими оплате пошлиной. Но с детей что спрашивать? Разве они понимают что-нибудь серьезное?
Более всего меня поразило, когда я увидел в трамвае человека, читавшего юмористический листок. Положим, этот человек был настолько сдержан, что смеялся мало и тихо, но разве подавленные национальным горем граждане имеют право читать юмористические листки, да еще в публичном, так сказать, месте?
Вообще не пробыл я и часа в Лондоне, как должен был прийти к заключению, что большинство англичан действительно отличается сверхчеловеческим самообладанием, чему я раньше не верил, хотя сам имею честь принадлежать к английской нации. Судя по прочитанным мною накануне газетам, вся страна рисковала потонуть в собственных слезах, а пока, в ожидании дальнейшего, из конца в конец извивалась в судорогах безмерной скорби. Но в этот день страна, по-видимому, сказала себе: «Не следует ничего доводить до крайности. Мы целых две недели плакали день и ночь, но горю не помогли, поэтому не лучше ли снова войти в обычную колею жизни, как нам это ни горько и ни тяжело?» И, как я заметил, с этого дня английские граждане даже принялись есть по-прежнему.
Друг, о котором я упомянул в начале этой главы, пожалуй, и прав.
XII
Из какого материала созданы американские мужья
Я очень рад, что не значусь в списке американских мужей. На первый взгляд такое заявление может показаться косвенным упреком американским женам, но это ошибочно, дело совсем не в том.
Мы, европейцы, имеем полную возможность судить об американских женах. В самой Америке мы много слышим о них, читаем о них интересные истории и можем любоваться на их портреты, воспроизводимые на страницах иллюстрированных изданий тамошней повременной печати, но не видим их, так сказать, вблизи. Здесь же, в Европе, мы сталкиваемся с ними лицом к лицу, беседуем и даже иногда полегоньку флиртуем. А главное, мы воочию убеждаемся, что американские жены прелестны, очаровательны, вообще вполне достойные особы. Вот почему я и сказал, что рад не значиться в списке их мужей. Я убежден, что если бы американские мужья знали, как хороши их жены, то наверняка бросили бы все свои дела на родине и поспешили сюда, к нам, или, вернее, к своим лучшим половинам, живущим не у себя, на родине, а у нас, в Европе.
Я говорю это не шутя и сейчас приведу доказательства. Несколько лет назад, когда я только что начал колесить по Европе, мне казалось, что Америка должна быть такой страной, где мужчины обязательно мрут в самые цветущие годы и где на каждом шагу встречаются неутешные вдовы, поэтому вся обширная Страна свободы должна быть крайне грустной. Судил я так потому, что в одном только переулке в Дрездене я насчитал четырнадцать американских матерей, имевших, все сообща, двадцать девять человек детей, и среди этих матерей и детей – ни одного мужа и отца. Я рисовал себе в своем воображении четырнадцать одиноких могил, разбросанных по Соединенным Штатам; четырнадцать намогильных памятников, сделанных из самого прочного материала и покрытых высеченными на них перечнями добродетелей, украшавших при жизни четырнадцать умерших и погребенных мужей.
«Странно! – думалось мне. – Эти американские мужья должны быть особенно слабой разновидностью человеческой породы, и нужно удивляться, откуда их матери достали таких крепких детей. Большинство этих мужей женятся на красавицах, которые дарят их двумя-тремя крепышами, затем мужья спешат уйти из здешнего мира, точно с рождением второго или третьего ребенка их собственная жизненная сила совершенно истощается. Неужели нет никаких способов, посредством которых можно было бы подкрепить их слабые силы? Мало тонических средств… Я подразумеваю не те тонические снадобья, после употребления которых подагрическим старцам приходит непреодолимое желание приобрести детский обруч для катания или веревочку для прыганья через нее, – нет, я имею в виду те чудодейственные эликсиры, о которых постоянно пишут, что если, например, хоть капля такого эликсира попадет на кусок ветчины, то этот кусок тотчас же снова превращается в свинью и начинает хрюкать от удовольствия».
Я сильно опечалился, когда далее представил себе, как американские вдовы переполняют океанские пароходы, чтобы скрыть свое горе в чужих странах, где ничто не растравляло бы их свежих сердечных ран. Разумеется, одна мысль о своей родине сделалась для этих несчастных, обездоленных женщин невыносимо тяжелой. Почва, по которой некогда ступала его нога! Стены, некогда освещавшаяся его улыбкою! Словом, там все должно было напоминать о нем и не давать покоя измученному сердцу. И вот они, эти бедные вдовы, ищущие забвения былого утраченного счастья, забирают своих осиротевших детей и спешат в Париж, Флоренцию или Вену, чтобы хоть там облегчить свою скорбь…
Кроме того, я был поражен благородным самообладанием, с которым американские вдовушки скрывали свои душевные страдания от посторонних глаз. Молодые вдовы других национальностей целыми неделями ходят в виде олицетворения печали, и никто никогда не может подметить на их лицах даже подобия улыбки. Вдовы же американские, четырнадцать счетом, лично мне знакомые, потому что я жил бок о бок с ними, храбро старались быть веселыми, хотя им, наверное, это было очень нелегко. Какой пример для каждой европейской вдовы! Я иногда проводил в обществе тех четырнадцати вдовушек целые дни, начиная с утренней прогулки, переходя затем к полднику, чаю, обеду и вечеринке с танцами, и ни разу не мог подметить ни у одной из них ничего такого, что свидетельствовало бы о мучительных чувствах и мыслях, таившихся внутри них.
Я переносил свои взоры от матерей к детям и опять должен был удивляться. Глядя на спокойные и веселые розовые личики американских сироток, я начинал понимать секрет успеха Америки. Разумеется, как не перевернуть весь мир вверх тормашками, когда имеешь таких выдержанных, чисто по-спартански тренированных граждан! Наши британские дети с ума сходят по какой-нибудь потерянной шестипенсовой монете, а эти маленькие американцы и американочки потеряли отца, и то нисколько не кажутся огорченными. Такое обуздание чувств граничит уже с геройством.
Как-то раз я необдуманно осведомился у одной из американских девочек о здоровье ее отца и в тот же момент, опомнившись, готов был откусить себе язык. Ведь у бедняжки не было уже отца, и я нечаянно коснулся больного места этого юного существа! Но девочка не залилась слезами, как можно было ожидать, судя по рассказам из детской жизни, а совершенно спокойно ответила мне:
– Благодарю вас, сэр. Папа чувствует себя отлично.
– О да! – горячо подхватил я, сам чуть не плача от умиления. – Я уверен, что ваш папа чувствует себя так хорошо, как заслужил этого, и что когда-нибудь вы вновь с ним увидитесь.
– Конечно, увижусь, – подхватила девочка, и мне показалось, что личико ее осветилось лучом радости. – Мама говорит, что ей надоело быть тут одной, без папы, и она думает вернуться со мной к нему.
Глубоко потрясенный, я поспешил отвернуться от девочки, чтобы не показать ей своей слабости, которая должна была быть постыдной в ее глазах. Бедная вдова! Как она тосковала о муже! Как она стремилась скорее соединиться с ним в том, последнем жилище! И даже своего ребенка… Я не мог додумать этой грустной мысли и как сумасшедший бросился бежать от великого в своей трогательной наивности ребенка.
Мне особенно было жаль одну из американских вдовушек, миловидную миссис А. Она приехала на чужбину недавно, последней из всех четырнадцати, и горе ее поэтому должно было быть совсем свежим. И никто из многочисленных посетителей, ежедневно пользовавшихся ее гостеприимством, никогда, насколько мне было известно, не утешал ее, не высказывал сожаления о ее горькой участи. Это казалось мне прямо жестоким и бесчеловечным. Говорят, переполненное скорбью, печалью и отчаянием сердце, не находящее исхода своим мучительным чувствам, не выносит и разрывается. Этого я не мог допустить, не попробовав хоть немного облегчить тяжелое горе неутешной вдовы. Улучив момент, я подсел к ней и участливо спросил:
– Вы давно уже здесь, в Дрездене?
– Около пяти лет, – ответила она.
Пять лет! а я думал – пять месяцев. Но это не уменьшило моей симпатии и моего сочувствия к несчастной.
– И все это время вы тут одни? – продолжал я тоном, вызывающим на откровенность.
– О нет, вовсе не одна! – возразила она с резнувшею меня по сердцу покорностью. – Ведь со мною мои дети. Кроме того, меня не оставляют и добрые друзья, которых, слава богу, набралось немало за эти пять лет, и время благодаря им проходит у меня незаметно. Потом здесь есть и опера, и симфонические концерты, и танцевальные вечера по подписке, и картинная галерея, и прочее… Нет, было бы грешно, если бы я стала жаловаться на одиночество, – заключила она.
– Гм… Все это прекрасно, – согласился я, – но разве вам не тягостно отсутствие вашего супруга?
Сам не знаю, как я мог решиться так прямо поставить этот вопрос. Я хотел как-нибудь иначе заставить свою собеседницу открыть мне свою душу, чтобы ей было легче, но не сумел. По миловидному лицу американки пробежало облачко, и она отрывисто проговорила:
– Пожалуйста, не говорите о муже: слишком грустно для меня вспоминать о нем.
Но я, точно сорвавшийся с привязи молодой резвый конь, уже не мог остановиться. Закусив удила, я понесся дальше и так же неожиданно для себя выпалил второй решительный вопрос:
– Отчего он, бедный, умер у вас?
Миссис А. окинула меня таким взглядом, которого я никогда не забуду.
– Мой муж… умер?! – крикнула она звенящим голосом. – Кто вам сказал это?
– Простите… я действительно думал… не знал… – совсем растерявшись, бормотал я, не зная, куда деваться от смущения.
– А может быть, тут потихоньку от меня идут такие разговоры? – продолжала миссис А. – Может статься, кто-нибудь из наших даже получил известие… Скажите прямо, – молящим тоном обратилась она ко мне.
– Никто не говорил, – уверял я. – Но я полагал…
– Так это ваше собственное умозаключение? Ошиблись, друг мой, сильно ошиблись! Насколько мне до сих пор известно, мой муж здравствует и благоденствует.
Я сказал, что мне очень жаль – не то, конечно, что ее муж здравствует и благоденствует, а то, что я, по своей искренней симпатии к ней, нечаянно задел такой щекотливый предмет.
– Какой щекотливый предмет? – спросила моя собеседница.
– Да вашего супруга, – пояснил я.
– Господи, да почему же он у вас попал в щекотливые предметы? – недоумевала она, опять начиная волноваться и подозрительно глядя на меня.
– Да ведь, судя по всему, вы с ним не сошлись характерами, и наверное… не по своей вине, – старался я выпутаться из создавшегося неловкого положения.
– Ну и это вы совсем напрасно заключили, мой друг, – отрезала она. – Если вы не хотите серьезно поссориться со мной, то никогда не смейте думать что-нибудь дурное о моем муже. Он очень хороший человек и ровно ничем не провинился передо мной.
– Почему же вы в таком случае развелись с ним? – не утерпел я, чтобы не задать этого третьего, еще более щекотливого вопроса.
Я до такой степени был сбит с толку этой семейной загадкой, что никак не мог спокойно решить ее, не роняя при этом своего достоинства. Бывают же такие глупые положения!
Нисколько времени миссис А. сидела молча, очевидно, соображая, как ей поступить: выбранить и прогнать меня, или разыграть жестоко обиженную и расплакаться, или, наконец, принять все в шутку и рассмеяться. Она решилась на последнее и, громко захохотав, вскричала:
– Час от часу не легче! Теперь вот уж и о разводе зафантазировали… Не понимаю, что с вами сегодня сделалось, какая муха вас укусила, что вы понесли такую околесицу? Успокойтесь, мы с мужем и не думали разводиться… да, наверное, никогда и не подумаем.
– Очень рад, – ответил я, стараясь скрыть свое смущение и придавая себе вид самого отчаянного сорвиголовы.
Раз вляпавшись в такой конфуз, я хотел, по крайней мере, извлечь что-нибудь интересное, добравшись до дна этой сильно заинтриговывавшей меня тайны.
– Но в чем же тогда у вас дело, если ваш муж не умер и вы с ним не разведены? Где же он? – с храбростью отчаяния лез я напролом.
– Конечно, у себя дома. Где же ему еще быть? – ответила американка.
– Где же это у себя?
– Да, разумеется, у нас на родине, в Америке…
– А что же он там делает? – не унимался я, оглядывая богатую и уютную обстановку гостиной, в которой сидел, и невольно мысленно высчитывая, сколько должна стоить одна она в обширной квартире, занимаемой предполагаемою вдовушкой. Если и у ее мужа такая же обстановка, а может быть, и еще лучше, сколько же тогда стоит ему удовольствие жить на два дома!
– Почем я знаю, что он там теперь делает? – уже совершенно просто ответила миссис А., как бы против своей воли поддаваясь моей упорной настойчивости. – Что люди обыкновенно делают дома, то, наверное, делает и мой муж.
– А почему же вы живете здесь, а не с ним? Простите, меня это так интересует, что я никак не могу…
Она не дала мне договорить и, снова рассмеявшись, поспешила пояснить:
– Очень просто: чтобы поразвлечься в чужой стране… Муж любит доставлять мне удовольствие… Притом я воспитываю здесь наших детей.
– Но ведь все ваши дети находятся в закрытых учебных заведениях, тогда как сами вы пользуетесь полной свободой, – начал я уж и морализировать. – Разве в Америке нельзя поместить детей в такие заведения? Потом, когда вы в последний раз видели своего мужа?
– Кажется, в прошлое Рождество… Ах нет, нынешней зимой я была в Берлине, а с мужем мы виделись именно здесь… Значит он приезжал сюда позапрошлой зимой, на Рождество…
– Гм… Странно!.. Вы говорите, что ваш муж – лучший из людей, а между тем даже забываете, когда виделись с ним в последний раз. Почему же вы так редко видитесь с ним? Ведь это…
– Как это вам не надоест предлагать вопросы, один… наивнее другого? – снова прервала меня миссис А., нисколько, впрочем, уже не сердившаяся. – Как же мы можем часто видеться, когда он в Америке, а я – в Германии? Может быть, он приедет летом, если позволят дела… Да к чему, собственно, нужно вам знать все это?
– Сначала я завел этот разговор с вами из простого дружеского сострадания, – сознался я. – Но так как он пошел по совсем неожиданному пути, то я захотел дойти до конца. Это очень естественно… Скажите мне вот что еще: неужели у вас, американок, считается в порядке вещей, чтобы жена развлекалась на чужбине, а муж надрывался у себя на родине каторжным трудом добывания денег для житья его семьи на два дома?
– Разумеется, раз делается так, – совершенно резонно ответила миссис А.
– Ну, в таком случае я должен сказать, что американские мужья какие-то совсем особенные, – резюмировал я свою мысль. – Должно быть, они созданы из каменного материала, и вы, их жены, испытываете степень прочности своих мужей. Но ведь это игра очень опасная: когда-нибудь, если постоянно бросать его обо что попало, и самый прочный материал может разбиться. Едва ли это будет приятно для его владелицы. То есть, говоря проще, настанет день, когда ваши мужья поймут, что своей крайней снисходительностью они так избаловали вас, что заглушили в вас всякое здравое чувство. Ну какой может быть у вашего мужа дом в Америке, когда его жена и дети находятся по ту сторону Атлантического океана? Хорош дом, где возвращающегося после трудового дня хозяина встречает только жуткая пустота и мертвая тишина, нарушаемая лишь его собственными шагами!..
Много еще я наговорил на эту тему, разошедшись так, как редко бывает со мной. Миссис А. все смеялась и говорила, что я премилый молодой сумасброд, воображающий, что весь свет должен смотреть сквозь его строгие английские очки. Тем не менее мы расстались прежними друзьями, и я еще не раз после того виделся с нею.
Прожив зиму в Дрездене, я вернулся на родину и сначала переписывался с миссис А., но потом наша переписка прекратилась, и я теперь не знаю, все ли еще в Германии эта американская «вдовушка» или нашла наконец нужным пожить хоть немного и у себя дома.
Вообще же американских жен, живущих без мужей, говорят, рассеяно по Европе и теперь не меньше, чем во время моего пребывания в Дрездене.







