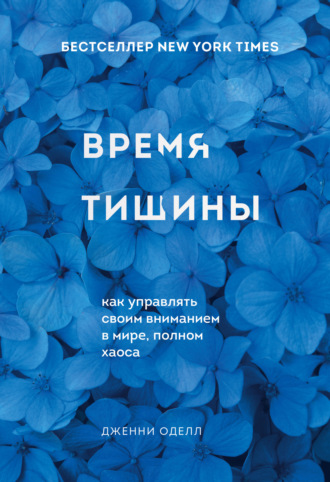
Дженни Оделл
Время тишины. Как управлять своим вниманием в мире, полном хаоса
Глава 1
Пример ничегонеделания
* просыпается и смотрит на телефон*
«ах, давай посмотрим, какие новые ужасы меня ждут на устройстве свеженьких ужасов»
ТВИТ @MISSOKISTICINA ОТ 10 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
В начале 2017 года, вскоре после инаугурации Трампа, меня попросили выступить с основным докладом на Eyeo, конференции по искусству и технологиям в Миннеаполисе. Меня все еще лихорадило от выборов, и как и многим другим художникам, которых я знала, было трудно продолжать что-либо делать. Вдобавок ко всему Окленд был в трауре после пожара на «Корабле-призраке»[6] в 2016 году, унесшего жизни многих художников и общественных деятелей. Глядя на пустое поле, в которое нужно было ввести название доклада, я думала, о чем могла бы рассказать, что могло бы иметь значение в такой момент. Еще не зная, о чем будет разговор, я просто напечатала: «Как ничего не делать».
После этого я решила провести дискуссию в определенном месте: в Морком Роуз Гарден в Окленде, Калифорния, иначе известном просто как Розарий. Я сделала это отчасти потому, что именно в Розовом саду начала продумывать свое выступление. Но также я осознала, что сад включает в себя все, что мне хотелось охватить: практика ничегонеделания, архитектура «ничего», важность общественного пространства, этика ухода и обслуживания.
Мой дом находится в пяти минутах ходьбы от Розового сада, и с тех пор как я переехала в Окленд, это первое место, куда я убегаю от компьютера, где делаю бо́льшую часть своей работы, занимаюсь творчеством и прочим. А после выборов я стала ходить в Розарий почти каждый день.
Это было не осознанным решением, а, скорее, внутренним позывом, как у оленя, постоянно стремящегося найти соль, или козы, скачущей на вершину холма. Что я делала там – ничего. Просто сидела. И хотя мне было немного не по себе от того, насколько все выглядело нелепо – красивый сад против ужасающего мира, – это действительно казалось необходимой тактикой выживания. Я узнала это чувство в отрывке из «Переговоров» Жиля Делёза:
Мы пронизаны бессмысленными разговорами, безумным количеством слов и образов. Глупость никогда не бывает слепой и немой. Таким образом, проблема заключается не в том, чтобы заставить людей выражать свое мнение, а в том, чтобы оставить их на непродолжительное время в уединении и тишине, когда они, в конце концов, могут найти что сказать. Репрессивные силы не мешают, а, скорее, заставляют людей выражать себя; какое облегчение, когда можно молчать, есть право ничего не говорить, потому что только тогда появляется шанс представить ту самую, все более редкую вещь, о которой в принципе стоит говорить.
Он написал это в 1985 году, но я могу подтвердить, что настроение в 2016-м все то же почти до боли. Функция «ничего» здесь – чтобы ничего не говорить – в том, что оно предшествует тому, чтобы что-то сказать. «Ничего» – это не роскошь и не пустая трата времени, а необходимая часть осмысленной речи.
Конечно, как художник я давно ценила возможность ничего не делать – или, точнее, «делать ничего». Я была известна тем, что собирала сотни скриншотов ферм или прудов с химическими отходами из Google Earth, вырезала их и составляла композиции, похожие на мандалы. В «Бюро отстраненных предметов», проекте, над которым я работала, проживая в Recology SF, я потратила три месяца, фотографируя, каталогизируя и исследуя происхождение двухсот выброшенных на свалку вещей. Я представила их в виде просматриваемого архива, в котором люди могли увидеть рукописную бирку рядом с каждым объектом и узнать о его производстве, материале и истории компании. На открытии ко мне повернулась смущенная и полная негодования женщина со словами: «Подождите… так вы вообще что-нибудь сделали? Или вы просто разложили вещи по полкам?» Я часто говорю, что для меня важен контекст, поэтому ответ был положительным на оба вопроса.
В большей степени я выбрала такой формат, потому что считаю существующие вещи гораздо более интересными, чем все, что могла бы сделать сама. «Бюро отстраненных предметов» было для меня просто поводом разглядывать удивительные вещи на свалке – перчатку Nintendo Power Glove, нагромождение банок 7UP двухсотлетнего выпуска, банковскую книгу 1906 года – и уделить каждому объекту особое внимание. Это всепоглощающее увлечение чьими-то предметами я назвала «эросом наблюдений». Нечто подобное есть во введении к «Консервному ряду» Джона Стейнбека, где он описывает терпение и заботу, связанные с внимательным наблюдением за особями:
Когда вы собираете морских животных, встречаются плоские черви, настолько тонкие, что их практически невозможно поймать целиком, поскольку они рвутся от прикосновения. Вы должны позволить им просочиться и заползти по лезвию ножа, а затем осторожно погрузить их в бутылку с морской водой. И возможно, это может быть способом написать эту книгу – открыть страницу, и пусть истории ползут сами по себе.
К слову сказать, наверное, неудивительно, что одно из моих любимых произведений паблик-арта принадлежит режиссеру-документалисту. В 1973 году Элинор Коппола реализовала проект паблик-арта под названием «Окна», который, в сущности, состоял только из карты с датой и списком мест в Сан-Франциско. Согласно формуле Стейнбека, окна в каждом месте были бутылками, а все, что происходило за ними, было рассказами, которые «заползли внутрь». Карта Копполы гласит:
Элинор Коппола отметила окна во всех частях Сан-Франциско как визуальные ориентиры. Ее цель в этом проекте – привлечь внимание сообщества к искусству, которое существует в своем собственном контексте, где оно находится, не изменяясь и не удаляясь, независимо от галереи.
Мне нравится рассматривать это произведение в сравнении с другими проектами паблик-арта. Как правило, они представляют собой гигантскую стальную вещь, которая выглядит так, как будто приземлилась на общественную площадку из космоса. Вместо этого Коппола бросает тонкую рамку на весь город; легкий, но значимый штрих, распознающий искусство, которое существует там, где оно уже есть.
Более поздний проект, производящий схожее впечатление, – это «Воодушевленные аплодисменты» Скотта Полаха. Он был организован в Национальном парке Кабрильо в Сан-Диего в 2015 году. На скале с видом на море, за сорок пять минут до заката, встречающий регистрировал гостей в специальной зоне, уставленной раскладными креслами и формально обнесенной красной веревкой. Их провожали на свои места и напоминали, чтобы они не фотографировали. Гости наблюдали закат, и, когда солнце садилось, все аплодировали. После этого подавались закуски.
Эти проекты имеют нечто общее. В каждом из них художник создает структуру – будь то карта или огороженная территория (или даже скромный набор полок), – которая удерживает пространство для созерцания вопреки силе привычки, знаниям и отвлекающим факторам, которые часто представляют собой угрозу. Об этой привлекающей внимание архитектуре я часто думаю в Розовом саду. В отличие от типичного плоского квадратного сада с рядами роз он расположен на холме с бесконечной системой дорожек и лестниц, проходящих вокруг кустов роз, решеток и дубов. Я заметила, что в саду люди ходят очень медленно, останавливаются и нюхают розы. Существует, вероятно, сотня возможных маршрутов по саду и столько же мест, где можно посидеть. С архитектурной точки зрения Розовый сад определенно хочет, чтобы вы задержались там на какое-то время.
Вы можете увидеть этот эффект в действии в круговых лабиринтах, созданных не для чего иного, как для вдумчивой ходьбы. Лабиринты функционируют аналогично тому, как они выглядят, обеспечивая своего рода плотное сосредоточение внимания; только благодаря двухмерному дизайну они позволяют не пересекать пространство насквозь и не стоять на месте, а двигаться сквозь что-то манящее внутри них самих. Я обнаружила, что тяготею к такого рода местам – библиотекам, маленьким музеям, садам, колумбариям – из-за их способности раскрывать тайные и разнообразные перспективы даже на довольно небольшой территории.
Но, конечно, это сосредоточение внимания необязательно должно быть осязаемым или визуальным. В качестве аудиопримера я обращаюсь к Deep Listening[7], наследию музыканта и композитора Полины Оливерос. Имея классическое музыкальное образование, Оливерос преподавала экспериментальную музыку в Калифорнийском университете в Сан-Диего в 1970-х годах. Она начала разрабатывать совместные групповые техники (такие как выступления, в которых люди слушали и импровизировали, как бы отвечая друг другу и окружающей звуковой среде), где звук был призван привнести умиротворение в атмосферу насилия и беспорядков времен войны во Вьетнаме.
Deep Listening было одним из таких способов. Оливерос определяет эту практику как «всестороннее слушание всего, что только можно услышать, независимо от того, что вы делаете. Такое интенсивное слушание включает в себя восприятие звуков повседневной жизни, природы, собственных мыслей, а также музыки». Она проводила различие между слушанием и слышанием: «Слышать – это физический процесс, обеспечивающий слуховое восприятие. Слушать – значит уделять внимание тому, что воспринимается как акустически, так и психологически». Целью и главным достижением Deep Listening было обострение восприимчивости и изменение обычного культурного опыта, который учит нас быстро анализировать и делать выводы, а не просто наблюдать.
Узнав о Deep Listening, я поняла, что некоторое время практиковала его невольно – только в контексте наблюдения за птицами. Мне всегда казалось забавным, что это называется наблюдением за птицами, потому что половину (если не больше!) времени, наблюдая за птицами, вы их на самом деле слушаете. (Я лично считаю, что «наблюдение» должно быть переименовано в «заметки о птицах».) Как бы то ни было, эта практика имеет много общего с Deep Listening – наблюдение за птицами требует от вас буквально «бездействия». Наблюдение за птицами – это противоположность поиску чего-либо в интернете. Вы действительно не можете искать птиц, вы не можете заставить птицу выйти и идентифицировать себя. Самое большее, что вы можете сделать, – это подойти тихо и дождаться какого-либо звука, а затем стоять неподвижно под деревом, руководствуясь своими животными чувствами, чтобы выяснить, где и что это.
В наблюдении за птицами меня поразило и тронуло то, как оно изменило детализацию моего восприятия, которая, к слову, была довольно «низкой». Сначала я стала больше замечать пение птиц. Конечно, я всегда обращала на него внимание, но теперь слышала его почти везде, весь день, все время. А потом, одну за другой, начала выучивать каждую песню и ассоциировать ее с птицей; так что теперь, направляясь в Розарий, я невольно воспроизвожу их у себя в голове, как если бы они были людьми: «Привет, ворон, малиновка, певчий воробей, синица, щегол, тауи, ястреб, поползень…» и так далее. Звуки стали мне настолько знакомы, что я больше не пытаюсь их идентифицировать; вместо этого они регистрируются как речь. Это может показаться знакомым любому, кто когда-либо изучал другой (человеческий) язык, будучи взрослым. Действительно, диверсификацию того, что раньше называлось «птичьим пением» – отдельными звуками, которые что-то значат для меня, – я могу сравнить только с моментом, когда поняла, что моя мама говорила на трех языках, а не на двух.
Мама всегда разговаривала со мной только по-английски, и в течение долгого времени я предполагала, что всякий раз, общаясь с другим филиппинцем, она говорит на тагальском языке. У меня не было веских причин думать так – я просто знала, что она действительно говорит на тагальском, и все это звучало для меня как тагальский. Но на самом деле мама говорила на тагальском очень редко. В большинстве случаев она использовала илонгго, а это совершенно другой язык страны, откуда она родом. Языки не совпадают, и один из них не является диалектом другого. На самом деле на Филиппинах полно языковых групп, которые, по словам моей мамы, имеют так мало общего, что говорящие не смогли бы понять друг друга, и тагальский – только один из них.
Это неловкое открытие – когда то, что вы считали одним целым, на самом деле представляет собой две вещи, а каждая из них имеет еще десять составляющих – касается продолжительности и качества нашего внимания. Приложив усилия, мы можем настраиваться на вещи, улавливать, а затем, надеюсь, различать все более и более тонкие частоты каждый раз.
Очень важно, что момент остановки, чтобы прислушаться, имеет нечто общее с архитектурой (наподобие лабиринта), удерживающей внимание: каждый по-своему совершает своего рода прерывание, выпадение из привычной среды. Каждый раз, когда вижу или слышу необычную птицу, время останавливается, и позже я задаюсь вопросом, где была все это время; точно так же, как блуждание по незнакомому секретному проходу может ощущаться выпадением из линейного времени. Даже если они кратковременные или мимолетные, эти места и моменты являются уединением и, как и более долговременное уединение, влияют на наше восприятие повседневной жизни, когда мы действительно к ней возвращаемся.
Место для Розового сада при возведении в 1930-х годах было выбрано специально из-за естественной чашеобразной формы ландшафта. Пространство ощущается физически и акустически замкнутым, заметно отделенным от всего, что его окружает. Когда вы сидите в Розовом саду, то действительно сидите в нем. Точно так же лабиринты в силу своей формы привлекают наше внимание к их маленькому округлому пространству. Ребекка Солнит в книге «Страсть к путешествиям», описывая прогулку по лабиринту внутри собора Грейс в Сан-Франциско, говорит, что с трудом ощущала себя в городе: «Круг был настолько захватывающим, что я потеряла из виду людей поблизости и почти не слышала гула улицы и колоколов, пробивших шесть часов».
Это не новая идея, и она также применима к более длительному периоду времени. Большинство людей пережили – или знают кого-то, кто пережил, – период «удаления», коренным образом изменивший их отношение к миру, куда они впоследствии вернулись. Иногда это вызвано чем-то ужасным, например болезнью или утратой, а иногда может быть добровольным, но, несмотря на это, временная пауза часто является единственным, что может ускорить изменения на определенном уровне.
У одного из известных исследователей, Джона Мьюира, был именно такой опыт. Прежде чем стать естествоиспытателем, он работал контролером на вагонном заводе и время от времени что-нибудь изобретал. (Я подозреваю, он был озабочен производительностью, поскольку одно из его изобретений, рабочий стол, одновременно служил будильником и таймером, открывал книги на определенное время и закрывал их.) Уже увлекшись изучением ботаники, Мьюир временно ослеп в результате несчастного случая, что заставило его переосмыслить свои приоритеты. Он провел в затемненной комнате шесть недель, в течение которых не был уверен, сможет ли когда-нибудь снова увидеть свет.
Издание «Сочинений Джона Мьюира» 1916 года разделено на две части, одна до и другая после несчастного случая, каждая со своим введением, написанным Уильямом Фредериком Баде. Во втором введении Баде пишет, что в этот период размышлений Мьюир пришел к выводу, что «жизнь была слишком короткой и неопределенной, а время слишком драгоценным, чтобы тратить его на ремни и пилы; что, пока он вкалывал на вагоностроительном заводе, Бог создавал мир, и он решил, если его зрение восстановится, посвятить остаток жизни изучению этого процесса». Сам Мьюир сказал: «Это несчастье привело меня к кисельным берегам».
Как выяснилось, мой отец пережил свой собственный так называемый период удаления, когда был в моем возрасте и работал техником в районе залива. Он устал от работы и решил, что накопил достаточно, чтобы все бросить и какое-то время жить очень скромно. Это продолжалось два года. Когда я спросила его, как он провел эти годы, отец сказал, что много читал, катался на велосипеде, изучал математику и электронику, ходил на рыбалку, беседовал со своим другом и соседом по комнате и сидел на холмах, где самостоятельно учился игре на флейте.
Через некоторое время отец понял, что собственный гнев по поводу работы и внешних обстоятельств влияет на него гораздо сильнее, чем он думал. Как он выразился: «Вы всегда наедине с самим собой и собственным дерьмом, и вам с этим жить». Но это время также научило его многому – он познал состояние творчества и открытости и, возможно, даже скуки или ничегонеделания. Мне вспоминается лекция Джона Клиза (из «Монти Пайтона») 1991 года о творчестве, в котором два из пяти обязательных факторов, которые он перечисляет, – это время:
1. Пространство.
2. Время.
3. Время.
4. Уверенность.
5. Утонченный юмор.
Итак, в конце концов отец огляделся в поисках другой работы и понял, что прошлая на самом деле была не так уж и плоха. К счастью, его без колебаний взяли обратно. Но поскольку отец открыл для себя нечто, необходимое для его собственного творчества, в этот раз все было уже совсем не так, как раньше. С новой энергией и взглядом на свою работу он прошел путь от техника до инженера и на настоящий момент имеет около двенадцати зарегистрированных патентов. По сей день он настаивает, что все лучшие идеи приходят к нему на вершине холма после долгой поездки на велосипеде.
Это натолкнуло меня на мысль, что, возможно, уровень детализации внимания, достигаемый вовне, распространяется и внутрь, так что по мере того как детали восприятия нашего окружения раскрываются удивительным образом, то же самое происходит и с нашим внутренним миром со всеми его сложностями и противоречиями. Мой отец сказал, что выход за привычные рамки заставил его понять свое отношение не только к работе, а к целому миру, и впредь после этого все, что происходило на службе, казалось ему лишь небольшой частью чего-то намного большего. Это напоминает мне, как Джон Мьюир называл себя не натуралистом, а «поэтом-бродягой-геологом-ботаником или орнитологом-натуралистом и т. д. и т. п.», или как Полина Оливерос описывала себя в 1974 году:
Полина Оливерос – двуногое существо, женщина, лесбиянка, музыкант и композитор среди всего прочего, что также способствует ее идентичности. Она сама по себе и живет со своим партнером… вместе со сборной солянкой из птиц, собак, кошек, кроликов и тропических раков-отшельников.
Конечно, есть очевидно слабое место во всем этом, и дело в том, что это все может быть обусловлено привилегиями. Я могу ходить в Розарий, смотреть на деревья и часто подолгу сидеть на холмах, потому что у меня есть преподавательская работа, которая требует, чтобы я была в кампусе только два дня в неделю, не говоря уже о целом ряде других привилегий. Одна из причин, по которой мой отец бросил работу, заключалась в его вполне обоснованной уверенности, что он сможет найти другую. Если вам посчастливилось работать там, где подобные привилегии есть, вполне возможно представить, что бездействие – это роскошь, позволяющая потворствовать своим желаниям, эквивалент психического здоровья.
Но здесь я возвращаюсь к «праву ничего не говорить» Делёза, и тот факт, что в этом праве отказано многим людям, не делает его менее важным или даже не правом. Еще в 1886 году, за десятилетия до того, как это было окончательно закреплено в законодательстве, рабочие в США настаивали на введении восьмичасового рабочего дня: «Восемь часов на работу, восемь часов на отдых и восемь часов на то, что мы хотим». На знаменитой эмблеме Федерации организованных торгов и профсоюзов Соединенных Штатов и Канады девиз соответствует трем временам дня: текстильщик на своем рабочем месте, ноги спящего, торчащие из-под одеяла, и пара в лодке на озере, читающая профсоюзную газету.
У этого движения даже была своя песня:
Мы хотим все исправить;
Мы устали от бесполезного труда,
Но достаточно бедны, чтобы жить:
Ни часа на размышления.
Мы хотим наслаждаться солнечным светом;
Мы хотим нюхать цветы;
Мы уверены, что Бог пожелал этого,
И хотим иметь восемь часов.
Мы собираем наши силы
С верфи, цеха и мельницы:
Восемь часов на работу, восемь часов на отдых,
Восемь часов на то, что желаем мы!
Больше всего меня поразили вещи, связанные с категорией «Что мы хотим»: отдых, размышления, цветы, солнце. Это телесные, человеческие вещи, и я вернусь к этой телесности. Когда Сэмюэл Гомперс, возглавлявший рабочую группу, которая организовала эту конкретную итерацию восьмичасового движения, выступил с речью под названием «Чего хотят трудящиеся?», он провозгласил такой лозунг: «Нам нужна Земля во всей ее полноте». И мне кажется важным, что это не восемь часов, скажем, на «досуг» или «обучение», а «восемь часов на то, что мы хотим». Здесь может быть и досуг, и образование, наиболее правильный способ описать этот отрезок времени – отказаться от его определения.
Эта кампания была посвящена разграничению времени. Очень интересен и определенно тревожен тот факт, что упадок профсоюзов в последние несколько десятилетий произошел наряду с аналогичным упадком в демаркации общественного пространства. Настоящие общественные места, наиболее очевидными примерами которых являются парки и библиотеки, являются местом – и, следовательно, пространственной основой – того, «чего мы хотим». В общественном некоммерческом пространстве от вас ничего не требуется ни для того, чтобы войти туда, ни для того, чтобы задержаться там. Наиболее очевидное различие между общественным пространством и другими местами состоит в том, что вам не нужно ничего покупать или делать вид, что вы хотите что-то купить, чтобы быть там.
Сравним настоящее общественное место – городской парк – и искусственное общественное пространство, такое как Universal CityWalk, сквер на выходе из тематического парка Universal Studios. Поскольку он находится во взаимодействии и с тематическим парком, и с фактическим городским пространством, CityWalk располагается где-то посередине, почти как съемочная площадка, где посетители могут ощутить предполагаемое разнообразие городской среды, наслаждаясь чувством безопасности, которое является результатом ее фактической однородности. В своем эссе Эрик Холдинг и Сара Чаплин называют CityWalk «сценарным пространством», то есть пространством, которое исключает, направляет, контролирует, создает и организует его использование». Любой, кто когда-либо пробовал заниматься развлекательным бизнесом в искусственном публичном пространстве, знает, что такие места не просто создают сценарии действий, они контролируют их. В общественном пространстве в идеале вы – гражданин, обладающий свободой воли; в искусственном публичном пространстве вы либо потребитель, либо угроза его концепции.
Розовый сад – это общественное место. Это проект Works Progress Administration (WPA) 1930-х годов, и как и все проекты WPA, он был создан людьми, которых федеральное правительство нанимало на работу во время Великой депрессии. Каждый раз, увидев его величественную архитектуру, я вспоминаю истоки: этот Розарий, невероятное общественное благо, возник в результате программы, которая сама по себе была общественным благом. Тем не менее для меня не было ничего удивительного в том, что район, в котором находится Розарий, как я недавно узнала, в 1970-х годах чуть не превратился в кондоминиум. Я огорчена, но не удивлена. Я также не удивлена, что местным жителям потребовались согласованные усилия по изменению целевого назначения земли, чтобы этого не произошло. Причина в том, что подобные вещи, кажется, происходят всегда: пространства, которые считаются коммерчески непродуктивными, находятся под угрозой, поскольку то, что они «производят», нельзя измерить, использовать или даже попросту идентифицировать – несмотря на то что любой в округе может сказать, насколько огромную ценность представляет сад.
Я вижу аналогичную битву, разыгрывающуюся в настоящее время, колонизацию нас самих капиталистическими идеями производительности и эффективности. Можно сказать, что парки и библиотеки всегда можно превратить в кондоминиумы. В книге «После будущего» теоретик марксизма Франко «Бифо» Берарди связывает поражение рабочих движений в 1980-е годы с появлением идеи о том, что все мы должны быть предпринимателями. В прошлом, отмечает он, экономический риск был делом капиталиста-инвестора. Однако сегодня «мы все капиталисты»… И поэтому мы все должны рисковать… Основная идея состоит в том, что мы все должны рассматривать жизнь как экономическое предприятие, как гонку, в которой есть победители и проигравшие».
Описание Берарди рабочей силы будет знакомо любому, кто связан с личным брендом, как и любому водителю Uber, модератору контента, трудолюбивому фрилансеру, начинающей звезде YouTube или адъюнкт-профессору, объезжающему три кампуса за неделю:
В глобальной цифровой сети труд превращается в небольшие сгустки нервной энергии, собранные рекомбинирующей машиной… Рабочие лишены всякой индивидуальности. Собственно говоря, рабочих больше нет. Их время существует, их время где-то рядом, они постоянно доступны для связи, чтобы «производить» в обмен на временную зарплату.
(Выделено мной.)
Устранение экономической безопасности для трудящихся стирает эти границы – восемь часов на работу, восемь часов на отдых, восемь часов на то, что мы хотим, – так что у нас остается двадцать четыре потенциально монетизируемых часа, при этом зачастую не берется в расчет ни часовой пояс, ни период для сна.
В ситуации, когда каждый момент бодрствования стал временем, в которое мы зарабатываем на жизнь, и когда мы даже свой досуг проводим, занимаясь подсчетом лайков в Facebook и Instagram, постоянно проверяя курсы акций, отслеживая текущее развитие нашего личного бренда, время становится экономическим ресурсом, который мы больше не можем тратить впустую. Это не обеспечивает возврата инвестиций; это просто слишком дорого. Это жестокое слияние времени и пространства: так же как мы теряем некоммерческое пространство, мы рассматриваем все свое время и действия как потенциально коммерческие. Подобно тому как общественное пространство уступает место фальшивым торговым площадям или странным корпоративным приватизированным паркам, нам продают идею скомпрометированного досуга, бесплатного досуга, который очень далек от того, «что мы хотим».
В 2017 году, работая художником в интернет-архиве в Сан-Франциско, я провела много времени, просматривая рекламу в старых выпусках BYTE, журнала для любителей компьютерных технологий 1980-х годов. Среди неумышленно сюрреалистичных изображений – жесткий диск, подключенный к яблоку, мужчина, борющийся со своим настольным компьютером, или золотодобытчик из Калифорнии, держащий поддон компьютерных чипов и кричащий: «Эврика!» – я наткнулась на большое количество рекламы о компьютерах, главный посыл которой заключался в том, что они сэкономят ваше рабочее время. Больше всего мне понравилась реклама NEC, девиз которой был «Довести это до предела». В рекламе под названием «Энергетический ланч» изображен мужчина, печатающий на домашнем компьютере, на экране которого отображается гистограмма возрастающих значений. Он выпивает небольшой пакет молока, но его бутерброд остается нетронутым. Действительно, до предела.
Отчасти это изображение неприятно еще и тем, что мы знаем, чем эта история заканчивается; да, работать стало легче. Везде. Все время! В качестве экстраординарного примера возьмем Fiverr, сайт микрозадач, на котором пользователи продают различные задачи – в основном единицы своего времени – по пять долларов каждая. Эти задачи могут быть любыми: редактировать, снять видео, на котором они делают что-то по вашему выбору, или притворяться вашей девушкой на Facebook. Для меня Fiverr – это высшее выражение «фракталов времени и пульсирующих клеток труда» Франко Берарди.
В 2017 году Fiverr запустил рекламу, аналогичную рекламе NEC «Энергетический ланч», но без ланча. В этом кадре худощавый двадцатилетний мужчина пристально смотрит потухшими глазами в камеру, сопровождаемый следующим текстом: «У вас кофе на обед. Вы завершаете свою работу. Бессонница – ваш любимый наркотик. Вы можете быть деятелем». Здесь, по сути, высмеивается то, что вы даже тратите какое-то время на еду. В статье New Yorker, удачно озаглавленной «Гиг-экономика празднует работу до смерти», Джиа Толентино заключает после прочтения пресс-релиза Fiverr: «Это жаргон, с помощью которого каннибалистическая природа гиг-экономики прикрывается эстетикой. Никто не хочет кофе на обед или впадать в бессонницу, или отвечать на звонок клиента во время секса, как рекомендовано в рекламном видео (Fiverr)». Когда каждый момент становится рабочим, энергетический ланч определяет энергичный образ жизни.
Хотя наиболее ярко это выражено в таких вещах, как реклама Fiverr, подобное явление – метастазирование работы на протяжении всей остальной жизни – не ограничивается гиг-экономикой. Я узнала об этом за несколько лет работы в отделе маркетинга крупного бренда одежды. В офисе было введено понятие «Results Only Work Environment»[8], или ROWE, что означало упразднение восьмичасового рабочего дня и позволяло вам работать в любое время из любого места. Это прозвучало достаточно привлекательно, но что-то в названии меня беспокоило. В конце концов, что такое E в ROWE? Если вы можете решать рабочие задачи в офисе, в машине, в магазине, дома после обеда – разве все это не «рабочая среда»? В то время, в 2011 году, у меня еще не было телефона с электронной почтой, а с введением этого нового рабочего дня я отложила его покупку еще надолго. Я точно знала, что произойдет в тот момент, когда им обзаведусь: что каждую минуту каждого дня я буду в ответе перед кем-то, даже если мой поводок будет намного длиннее.
Обязательно рекомендую прочитать книгу «Офис в стиле фанк. Манифест удаленной работы», написанную создателями ROWE, которая кажется хорошо продуманной, поскольку авторы попытались описать добросердечное ослабление рабочей модели «Сидеть в офисе с 9 до 17». Но меня, тем не менее, беспокоило, что в тексте сливаются воедино интересы, связанные и не связанные с работой. Они пишут:
Если у вас есть время на себя и на работу, вы можете жить и быть личностью, тогда вопрос, которым вы задаетесь каждый день, звучит не так: действительно ли мне сегодня нужно идти на работу? Но: как я могу внести свой вклад в то, что называется жизнью? Что я могу сделать сегодня, чтобы принести пользу своей семье, своей компании, себе?
По мне, слово «компания» в этой фразе лишнее. Даже если любишь свою работу! Если в вас или вашей работе нет чего-то особенного, что требует этого, нет ничего хорошего в том, что вы постоянно связаны, постоянно продуктивны, с того момента, как открываете глаза утром – и, по моему мнению, никто не должен принимать это ни сейчас, ни когда-либо. Как говорил Отелло: «Оставь меня побыть наедине с собой».


