
Дженди Нельсон
Небо повсюду
© Денисова П., перевод на русский язык, 2022
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022
* * *
Дорогой читатель,
я написала «Небо повсюду», когда переживала катастрофическое горе от потери близкого человека. В это неспокойное время я мечтаю о таком мире, в котором жизни не тратятся напрасно и семьям не приходится бороться за жизнь без тех, кого они любят и ценят больше всего. Я очень надеюсь, что вам понравится эта история о любви и горе, радости и печали.
Дженди Нельсон
Моей матери
Часть первая
Глава 1
Бабуля беспокоится обо мне. Не только потому, что моя сестра Бейли умерла месяц назад, и не только потому, что я уже шестнадцать лет ни слова не слышала от мамы, и даже не из-за того, что внезапно все мои мысли заняты исключительно сексом. Она забеспокоилась, потому что на одном из ее комнатных растений появились пятна.
Почти все семнадцать лет моей жизни бабуля верила, что этот конкретный цветок (понятия не имею, как он называется) отражает мое физическое, эмоциональное и духовное состояние. Со временем я и сама в это поверила.
Я сижу в комнате. В противоположном ее углу бабуля (сто восемьдесят сантиметров, облаченные в платье с цветочным орнаментом) нависла над пятнистой листвой.
– Только не говори, что на этот раз он не поправится! – обращается она к дядюшке Бигу. Этот местный арборист, любитель марихуаны и вдобавок ко всему безумный ученый знает обо всем понемножку. Но о растениях ему известно решительно все.
Задавая этот вопрос, бабушка смотрит на меня. Любому постороннему наблюдателю это показалось бы странным, нелепым даже, но дядюшка Биг все понимает: он тоже не отрывает от меня взгляда.
– На сей раз болезнь крайне серьезна, – зычно провозглашает он, словно стоит на сцене или читает проповедь с кафедры. Что бы ни говорил дядюшка, слова его звучат значительно. Даже просьба передать соль в его устах кажется библейской заповедью.
Бабуля в отчаянии закрывает лицо руками, а я принимаюсь записывать стихи на полях «Грозового перевала». Я уютно устроилась в углу дивана. Говорить сейчас бесполезно, да можно хоть полный рот скрепок напихать, никто и не заметит.
– Но раньше цветок выздоравливал! Помнишь, когда Ленни сломала руку…
– …тогда листья пошли белыми пятнами.
– Или прошлой осенью. После прослушиваний на первого кларнетиста, когда ее оставили на второй партии.
– Теперь пятна бурые.
– Было еще…
– На сей раз все иначе!
Я поднимаю взгляд. Эта парочка долговязых таращится на меня с тревогой и скорбью в глазах.
Цветоводческая компания Кловера может по праву гордиться садом бабули. Во всей Северной Каролине вы не встретите ничего подобного. Розы тут по весне взрываются таким безумным фейерверком красок, что перед ним меркнут все закаты, а благоухание от них разносится такое густое, что городские предания гласят: вдохнешь его – и в ту же секунду падешь жертвой любви. Но, сколько бы бабуля ни старалась, ее усилия и талант в случае с этим цветком не приносили никаких плодов: он отражал события моей жизни, не подчиняясь естественным законам и не обращая внимания на уход.
Я кладу книжку и ручку на стол. Бабушка склоняется к растению и шепчет ему, как важно сохранять joie de vivre, а потом шаркает к дивану и садится рядом со мной.
Громадный Биг плюхается рядом с ней. Мы так и сидим весь день втроем, уставившись в пустоту, а наши одинаковые шевелюры напоминают взъерошенных ворон с блестящими черными перьями.
Мы так живем с тех пор, как месяц назад моя сестра Бейли внезапно скончалась от аритмии, репетируя сцену из «Ромео и Джульетты» для местного театра. Будто, пока мы смотрели в другую сторону, кто-то пропылесосил горизонт – и мир исчез.
Глава 2
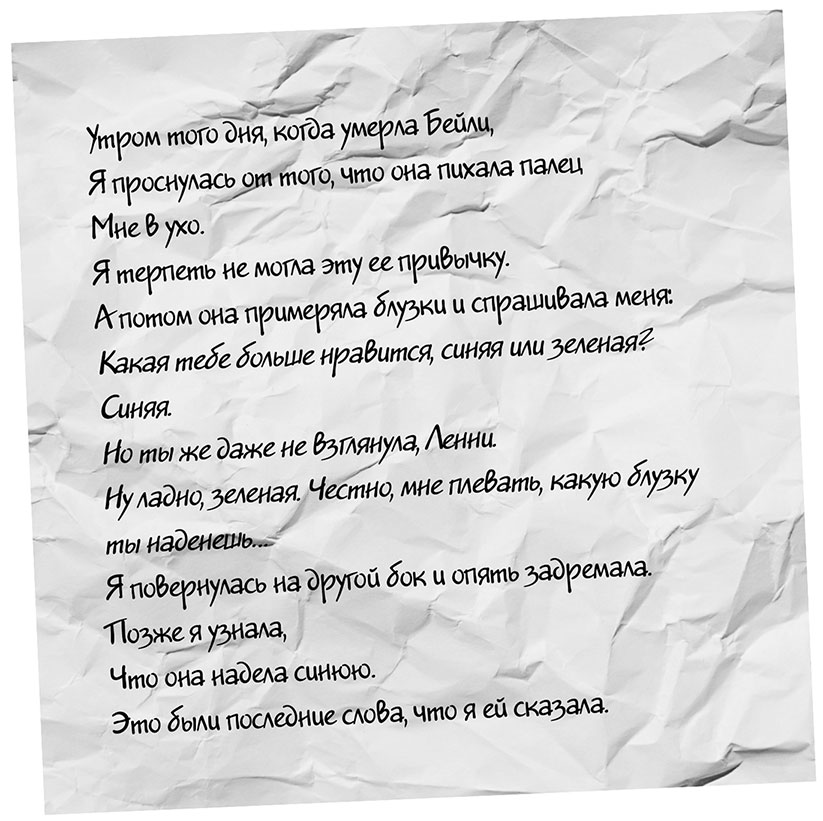
(Написано на обертке от чупа-чупса, которую нашли на тропинке к реке Рейни.)
Я возвращаюсь в школу. Да, я так и думала: толпа расступается передо мной, как Красное море перед иудеями. Разговоры стихают. Глаза блестят от взволнованного сочувствия. Все смотрят на меня, не отрываясь, словно я сжимаю в объятиях бездыханное тело Бейли. Наверное, так оно и есть. Ее смерть охватывает меня со всех сторон. Я вижу ее, и остальные тоже видят. Словно стоит прекрасный солнечный день, а я с ног до головы закутана в мешковатое черное пальто. А вот чего я не ожидала, так это внезапной шумихи вокруг новичка по имени Джо Фонтейн. Он появился, пока меня не было в школе. Куда бы я ни пошла, везде слышу одни и те же разговоры.
– Ты уже видела его?
– Он похож на цыгана.
– На рок-звезду.
– На пирата.
– Я слышала, он играет в группе. Называется «Дайв».
– Он вроде гениальный музыкант.
– Кто-то мне сказал, что раньше он жил в Париже.
– Выступал на улицах.
– Ты уже видела его?
Я его уже видела. Когда я вернулась на свое обычное место в оркестре, там сидел он. Даже оглушенная горем, я все же оглядела его: черные ботинки, бесконечные ноги, обтянутые джинсами, столь же длинный торс и, наконец, лицо: такое оживленное, что мне становится неловко – похоже, я прервала его разговор с моим пюпитром.
– Привет! – спрыгивает он с места. Ну и каланча. – Ты, должно быть, Леннон, – он указывает на имя, что написано на стуле. – Я слышал… Мои соболезнования.
Я замечаю, как он держит кларнет. Совсем не церемонится, вцепился в шейку, как в рукоять меча.
– Спасибо, – отвечаю я, и его лицо, до последнего миллиметра, превращается в улыбку. Ого! Его что, ветром из иного мира в нашу школу занесло? Чувак всеми порами источает счастье. В нашем обществе, где все из кожи вон лезут, чтобы выглядеть унылыми, он кажется инопланетянином. Его густые каштановые кудри торчат во все стороны, а ресницы так длинны, что напоминают паучьи лапки. Когда он моргает, похоже, что он строит вам глазки. Лицо его можно читать как открытую книгу, или нет, скорее как граффити на стене. Внезапно я поняла, что выписываю у себя на коленке пальцем слово «вау». Уж лучше заговорить и прервать эту неожиданную игру в гляделки.
– Обычно меня называют Ленни, – реплика не слишком оригинальная, но все же лучше, чем единственная альтернатива, а именно: восклицание «Хых!». Слова мои производят нужный эффект. Джо переводит взгляд на пол, и у меня есть время перевести дыхание перед очередным глядетельным состязанием.
– Мне вот интересно, Леннон – это в честь Джона?
А мне интересно, хлопнусь я сейчас в обморок или нет. Он не отводит от меня взгляда. Я лишусь чувств? Или меня разорвет от их избытка?
Я киваю:
– Мама была хиппи.
В конце концов мы же живем на севере Северной Каролины – на последнем рубеже Страны чудаков. В выпускном классе у нас учится девочка по имени Электричество, есть мальчик по имени Волшебный Автобус и бесчисленные цветочки: Тюльпан, Бегония, Маков Цвет. Эти имена придуманы родителями и записаны в свидетельствах о рождении. Двухметровый громила Тюльпан был бы звездой футбольной команды, если бы в нашей школе она была. Но ее нет. Мы по утрам собираемся в спортзале на факультативные занятия медитацией.
– А, ага, – отвечает Джо, – моя мама тоже. И папа. А еще дяди, дяди, братья, двоюродные братья и сестры… Добро пожаловать в коммуну семьи Фонтейн!
Меня охватывает смех:
– Ясно!
Хотя погодите-ка, мне вообще можно так запросто смеяться? И нормально ли, что мне весело? Должно ли мне быть хорошо? Я будто прыгаю в прохладную речную воду.
Интересно, на нас кто-нибудь смотрит? Я оборачиваюсь. И как раз вовремя: в музыкальную комнату только что вошла (вернее, ворвалась) Сара. Мы с ней не виделись чуть ли не с самых похорон. Меня охватывает смутное чувство вины.
– Ленни-и-и! – Она несется прямо к нам. На ней первоклассный костюм готической девушки-ковбоя: винтажное черное платье в обтяжку, грубые тяжелые ботинки, светлые волосы выкрашены в такой ядрено-черный цвет, что кажутся синими; на голове крутейшая широкополая шляпа. Сара приближается с такой ошеломительной скоростью, что не успеваю я подумать: «Она что, собирается мне на руки прыгнуть?» – как она кидается на меня, и мы обе кубарем летим на Джо. Он каким-то чудом сохраняет равновесие, и мы не вылетаем в окно.
Такова Сара в своем самом спокойном состоянии.
– Как мило, – шепчу я ей на ухо, пока она сжимает меня в медвежьих объятиях (и как только это получается у такой хрупкой пташки?), – нашла способ сбить с ног шикарного новичка!
Как странно и как прекрасно чувствовать, как кто-то трясется от смеха, а не от отчаяния.
Сара – самый вдохновенный циник на всей планете. Из нее получилась бы идеальная чирлидерша, если бы ее не воротило от так называемого школьного духа. Мы с ней помешаны на книгах, но она выбирает только самые мрачные книги. Прочла «Тошноту» Сартра в десятом классе – именно тогда она начала носить черное (даже на пляже), курить (и все равно выглядит она как самая здоровая девчонка в мире) и носиться со своим экзистенциальным кризисом (не переставая кутить ночи напролет).
– Рад снова видеть тебя, дорогая Ленни, – слышу я. Это мистер Джеймс. Про себя я зову его магистром Йодой – и за внешность, и за недюжинный музыкальный талант. Он встает из-за рояля и смотрит на меня с тем выражением беспредельной скорби, к которому я уже привыкла. Все взрослые теперь смотрят так на меня. – Прими наши глубочайшие соболезнования.
– Спасибо, – в сотый раз за день отвечаю я. Взгляды Сары и Джо тоже устремлены на меня. В глазах подруги читается беспокойство, а улыбка новичка скоро станет шире, чем континентальная часть Штатов. Интересно, он на всех так глядит? Может, он просто тупой? Впрочем, что бы там с ним ни было, это, видимо, заразно. Не успела я опомниться, как к Америке на моем лице добавляются Гавайи и Пуэрто-Рико. Наверное, я сейчас похожа на веселую плакальщицу. Черт! И это еще не все. Теперь я думаю о том, каково было бы его поцеловать… по-настоящему! Ох! Это уже проблема. Такая проблема, какую прежняя Ленни и выдумать бы не могла. Что вообще за хрень происходит? Это началось во время похорон. Я захлебывалась тьмой, и внезапно все парни в зале словно засияли. Коллеги и одноклассники Бейли (я почти никого из них не знала) подходили и подходили ко мне, выражали соболезнования. Может, потому, что я похожа на сестру, а может, им просто было меня жаль. Так или иначе, я стала ловить на себе их многозначительные напряженные взгляды. И представляете, я внезапно поняла, что отвечаю на их взгляды. Словно это и не я была, не ко мне в голову приходили все эти дикие мысли, да еще и в церкви (ужас какой!), да еще во время похорон сестры.
Но из всего класса теперь для меня сиял только этот мальчишка. Видимо, он родом из какой-то очень дружелюбной части галактики, думаю я, пытаясь убрать с лица эту улыбочку чокнутой, и едва удерживаюсь, чтобы не брякнуть Саре: «Он так похож на Хитклиффа!» Потому что внезапно понимаю, что, если бы не его жизнерадостность, он и правда вылитый Хитклифф. И тут я чувствую удар под дых – жизнь валит меня на холодный асфальт. Я вспомнила, что не могу после школы побежать домой и рассказать Бейлз о новом мальчике из оркестра.
Весь день моя сестра умирает заново. Раз за разом.
– Лен? – Сара трогает меня за плечо. – Все хорошо?
Я киваю, силой мысли пытаясь остановить поезд горя, который несется прямо на меня.
Кто-то начинает играть «Приближающуюся акулу» – главную тему из фильма «Челюсти». Я оборачиваюсь и вижу, как к нам не идет, а прям-таки скользит Рейчел Бразил. «Ну просто обхохотаться», – бормочет она на ходу Люку Джейкобусу (так зовут саксофониста, который исполнил этот аккомпанемент). Он один из многих оркестрантов, павших жертвой ее чар. Парней вечно сбивает с толку, что этот ужас, летящий на крыльях ночи, заключен в столь потрясающую оболочку. Еще больше их обескураживают огромные, как у лани, глаза и золотые кудри. Мы с Сарой считаем, что бог, создавая Рейчел, пребывал в ироническом расположении духа.
– Глядите-ка, ты уже познакомилась с маэстро, – обращается она ко мне. Грациозно опускаясь на сиденье (место для первого кларнета, там должна была сидеть я!), она походя гладит Джо по спине. Рейчел открывает футляр и начинает собирать инструмент.
– Джо учился в консерватории во Фра-а-анции. Он тебе рассказал? – Конечно, ей обязательно тянуть первую гласную в слове «Франция», по-человечески разговаривать она не может.
Я физически ощущаю, как бесится Сара. Она терпеть не может Рейчел; не выносит ее с тех самых пор, как та увела у меня из-под носа место первого кларнетиста. Но даже Сара не знает, что тогда произошло на самом деле. Никто не знает.
Рейчел так туго затягивает лигатуру на мундштуке, словно пытается задушить свой инструмент.
– Пока тебя не было, Джо потряса-а-ающе играл вторую партию, – она тянет «а» до самой Эйфелевой башни.
Я чуть не выпаливаю: «Рада, что у тебя все так отлично, Рейчел», но сдерживаюсь. Почему я не могу просто сжаться в комочек и укатиться отсюда? Сара оглядывает комнату с таким видом, словно ищет боевой топор.
Комната наполняется какофонией звуков.
– Заканчивайте настройку, сегодня я хотел бы начать вовремя, – обращается к нам мистер Джеймс из-за рояля, – и приготовьте карандаши. Я немного изменил аранжировку.
– Пойду постучу обо что-нибудь, – говорит Сара, бросает на Рейчел исполненный отвращения взгляд и удаляется к своим литаврам.
Рейчел пожимает плечами и улыбается Джо. Вернее, нет, не улыбается – сияет. Проклятие!
– Истинная правда! – снова обращается она к нему. – Ты играл, вернее, играешь потрясающе.
– Ты мне льстишь! – Джо наклоняется, чтобы убрать кларнет в футляр. – Я только заменял настоящего музыканта. Стул грел. А теперь пришла пора возвращаться туда, где мне место, – он указывает кларнетом на секцию горнов.
– Ты просто скромничаешь! – Рейчел перекидывает свои волшебные локоны через спинку стула. – В твоей музыкальной палитре так много оттенков.
Я смотрю на Джо, ожидая, что его тоже скрючит от этих нелепых слов, но вижу нечто совершенно иное: он улыбается Рейчел. Географически улыбается! У меня аж кровь к шее прилила.
– Ты же знаешь, что я буду скучать, – Рейчел корчит недовольную гримаску.
– Мы еще встретимся когда-нибудь, – отвечает Джо, хлопая ресницами, – например, на следующем уроке – у нас вместе история.
Меня словно не существует, и это только к лучшему: внезапно я забываю, что вообще нужно делать со своим лицом, телом и растоптанным сердцем. Я сажусь на свое место, попутно отметив, что ошибалась: этот ухмыляющийся и хлопающий ресницами дурень из Фра-а-анции совсем не похож на Хитклиффа.
Я открываю футляр, достаю оттуда и кладу в рот трость, чтобы немного смочить ее. И раскусываю ее напополам.
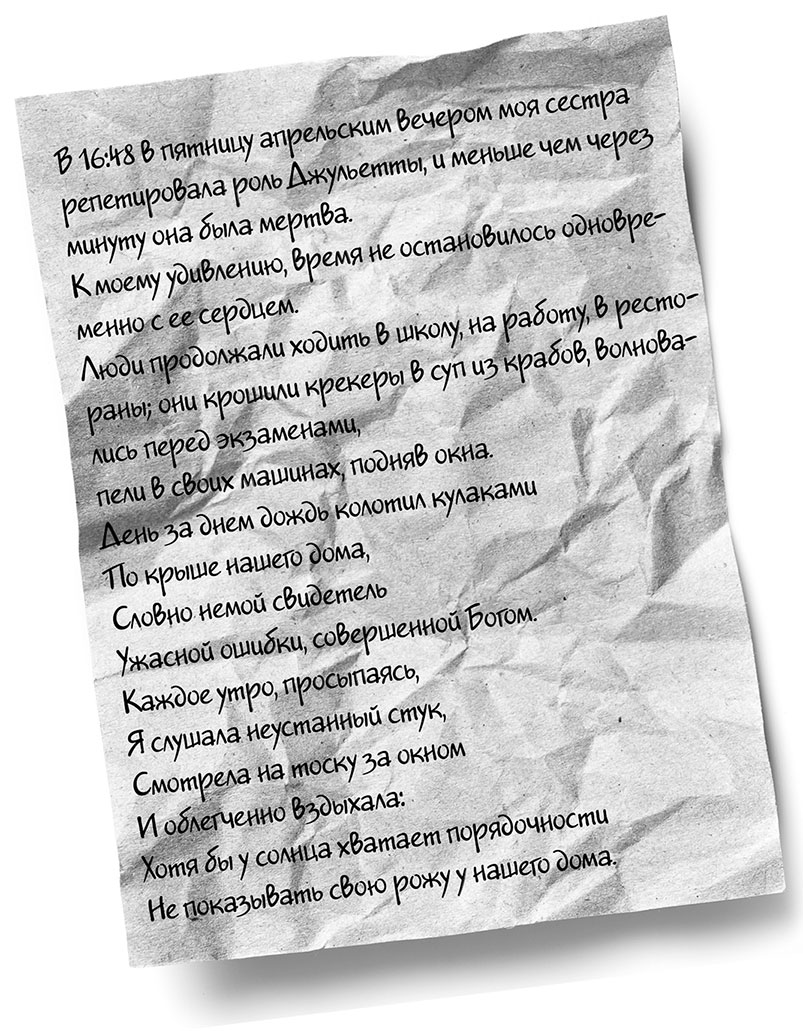
(Найдено на листке с партитурой, приколоченном к дереву в ущелье Флаинг-Мэн.)
Глава 3
Остаток дня проходит как в тумане. Я сбегаю с последнего урока и ныряю в лес. Не хочу идти домой по дороге: так я рискую встретить кого-нибудь из школы. Особенно я опасаюсь Сары. Она сообщила мне, что, пока я скрывалась от глаз людских, она читала книги о потере близких. Эксперты как один уверяют, что мне пора поделиться с кем-нибудь своими чувствами. Но и она, и эксперты, и, если уж на то пошло, бабуля – все они ничего не понимают. Я не могу поделиться. Для этого нужно было бы изобрести новый язык: язык падения, движения тектонических плит, глубокой всепоглощающей тьмы.
Я иду через сосновый лес, и мои кроссовки жадно глотают влагу многодневных дождей. Всю дорогу я размышляю, зачем люди вообще придумали траурную одежду: скорбь сама по себе составляет весь необходимый гардероб. Увидев ее, никто не ошибется. Единственным, кто не заметил ее на мне (помимо Рейчел, которая в любом случае не считается), был новенький. В его глазах у меня словно никогда и не было сестры.
Я замечаю на земле обрывок бумаги, он не совсем вымок, и на нем еще можно писать. Я сажусь на камень, достаю ручку (теперь я всегда ношу ее в заднем кармане) и быстро записываю одну из наших бесед с Бейли на эту тему, а затем складываю бумажку и закапываю во влажную почву.
Когда я выбегаю из леса на дорожку к нашему дому, меня охватывает облегчение. Мне хочется поскорее оказаться дома, где присутствие Бейли еще так ощутимо, где я вижу, как она высовывается из окна (черные кудри разметались по плечам) и зовет меня: «Ленни, давай сбегаем к реке! Быстрее!»
– Привет! – Я вздрагиваю. Голос Тоби застал меня врасплох. Они с Бейли встречались два года. Этот полуковбой-полускейтер был по уши влюблен в мою сестру, а последнее время не появляется, сколько бы бабуля ни приглашала его в гости. Она постоянно повторяет, что мы должны протянуть ему руку помощи.
Тоби лежит посреди сада в компании рыжих соседских собак Люси и Этель, которые расположились по обе стороны от него. Весной такое происходит постоянно: когда расцветает сирень и распускается дурман, сад бабули превращается в живое снотворное. Пара минут среди цветов – и вот даже самые энергичные посетители уже лежат в траве и считают облака.
– Я тут… это… пропалывал сорняки, бабуля попросила… – Заметно, как он стесняется своей расслабленной позы.
– Ага, этой участи не избегают даже лучшие из нас.
Со своей гривой волос и широким веснушчатым лицом Тоби настолько похож на льва, насколько вообще это возможно для человека. Бейли впервые увидела его, когда мы читали, шагая по дороге (вся семья грешит этим; наши немногие соседи прекрасно об этом осведомлены и поэтому, возвращаясь домой, пускают машину черепашьим шагом. Так, на всякий случай, если кого-то из нас слишком захватит чтение). Я, как обычно, взяла с собой «Грозовой перевал», а Бейли погрузилась в свою любимую книгу «Как вода для шоколада». И тут по направлению к перевалу мимо нас рысью проскакал восхитительный гнедой конь. «Отличная лошадь», – подумала я и вернулась к Кэти и Хитклиффу. А через несколько секунд услышала стук – это упала на землю книжка Бейли. Она буквально застыла в паре шагов позади меня.
– Что случилось? – поинтересовалась я, глядя на свою внезапно остолбеневшую сестру.
– Ты видела этого парня, Ленни?
– Какого парня?
– Боже, да что с тобой не так! Этого роскошного парня на лошади. Он будто из моей книги выпрыгнул. Поверить не могу, что ты его не заметила! – Ее так же бесило мое равнодушное отношение к мальчикам, как меня – ее повышенный интерес к ним. – Он промчался мимо нас, но обернулся и улыбнулся, глядя на меня! Такой красавчик! И очень похож на революционера из книги… – Она наклонилась, подняла свой томик и смахнула с него пыль. – Ну на того самого, что в порыве страсти сажает Гертруду на лошадь и увозит…
– Да и фиг с ним! – Я снова утыкаюсь в книгу. Когда мы доходим до дома, я падаю в кресло на крыльце и тут же теряюсь в дебрях всепоглощающей страсти, что сотрясала английские пустоши. Я ничего не имею против любви, когда она надежно заперта между страницами книг, но уж точно не в сердце моей сестры. Стоило Бейли влюбиться, как она на целые месяцы забывала обо мне. Поднимая взгляд от книги, я неизменно видела ее стоящей на камне у дороги. Она делала вид, что читает, но притворство ее было видно невооруженным глазом. Сложно поверить, что она собирается стать актрисой! Она проторчала там несколько часов, дожидаясь возвращения своего революционера. И он в конце концов появился, но совсем с другой стороны. Он успел где-то обменять своего коня на скейтборд. Выходит, он не из книги появился, а с Кловер-Хай, как и все мы. Только тусовался он с фермерскими ребятами и скейтерами, и поэтому их дороги с моей сестрой, театральной дивой, до сего дня не пересекались. Но его происхождение уже ничего не значило: проскакав мимо, он опалил сердце Бейли и лишил ее способности здраво рассуждать.
Сама я от Тоби была не в восторге. Ни его ковбойские замашки, ни то, что он может подпрыгнуть на скейте, а потом прокатиться по бордюру спиной вперед, не могли искупить его вины: сестра превратилась в безвольную марионетку любви и, похоже, навсегда.
Вдобавок к этому на меня он обращал не больше внимания, чем на печеную картофелину…
– Как ты? – спрашивает Тоби, возвращая меня к реальности.
И я почему-то не вру ему: отрицательно мотаю головой туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда – от отрицания к отчаянию и обратно.
– Я знаю! – Он приподнимается, и по затравленному выражению его лица я понимаю, что это правда.
Мне хочется поблагодарить его за это молчаливое понимание, но я ничего не говорю. Солнце, словно из кувшина, льет жаркий свет на наши ошеломленные макушки. Тоби хлопает ладонью по земле рядом с собой, приглашая меня сесть. Я вроде как и хочу, но не решаюсь. Раньше мы в отсутствии Бейли как-то не общались.
Я показываю на дом:
– Мне нужно зайти.
Мне и правда нужно. Я хочу вернуться в Убежище, полное название: Внутреннее Тыквенное Убежище. Я переименовала нашу комнату несколько месяцев назад, когда Бейли убедила, что стены спальни должны быть оранжевыми – вызывающе огненно-рыжими. С тех пор при входе к нам желательно надевать темные очки. Уходя сегодня в школу, я заперла дверь, жалея, что не могу забаррикадировать ее от бабули и ее картонных коробок. Пусть Убежище останется таким, как сейчас. Как раньше. Для бабули такое мое желание значит только одно: я спрыгнула со своего дерева и мчусь по парку сломя голову. Если переводить с бабулиного на человеческий, это значит «окончательно свихнулась».
– Горошинка, – она появляется на крыльце, облаченная в пурпурное платье с узором из ромашек. В руках у нее кисточка, впервые с того дня, как умерла Бейли. – Как прошел первый день в школе?
Подхожу к ней и вдыхаю привычный запах: пачули, краска, свежая земля.
– Ничего, – отвечаю я.
Она вглядывается в мое лицо, будто собираясь рисовать меня. Мы молчим, и тишину привычно нарушает лишь тиканье часов. Я чувствую бабулино замешательство: она словно готова взять меня за плечи и потрясти, точно книгу, в надежде, что из меня посыплются слова.
– У нас в оркестре новенький.
– Правда? И на чем он играет?
– Похоже, что на всем.
Перед тем как сбежать в лес, я заметила их с Рейчел. Они шли по школьному двору, и у Джо в руках была гитара.
– Ленни, я тут подумала… Может, тебе поможет… подбодрит, знаешь ли…
Ох, я знаю, к чему она ведет.
– Ну помнишь, когда ты занималась с Маргарет, тебя было не оттащить от инструмента.
– Люди меняются, – перебиваю я ее.
Сколько уже можно это обсуждать? Я обхожу бабушку, чтобы войти внутрь. Мне хочется запереться в шкафу Бейли, вжаться в ее платья, втянуть запах прибрежных костров, кокосового масла для загара, розовых духов… ее запах.
– Слушай, – она протягивает свободную руку, чтобы поправить мне воротник. – Я пригласила Тоби на ужин. Он со своего дерева спрыгнул. Сходи к нему в сад, помоги с прополкой… или что он там делает.
Наверное, она и ему чего-то такого наболтала, чтобы он наконец пришел в гости. Ох!
И тут она бесцеремонно мажет мне по носу кисточкой.
– Бабуля! – воплю я ей в спину, потому что она уже повернулась и заходит в дом. Пытаюсь стереть рукой зелень с носа. Бабушка вечно подстерегала нас с Бейлз и измазывала краской – всегда-всегда зеленой. Все стены нашего дома покрыты ее картинами сверху донизу. Картины громоздятся за диванами и стульями, стопками лежат под столами, в шкафах, и каждая из них свидетельствует о неувядающей любви бабушки к зеленому цвету. У нее есть вся палитра: от лаймового до травянистого. Рисует она каждый раз одно и то же: стройных гибких девушек, полумарсианок-полурусалок.
– Это мои барышни, – говорила она нам с Бейлз, – живут между тем миром и этим.
Следуя ее просьбе, я оставляю футляр и рюкзак в доме и перебираюсь на теплую траву, под бок к Тоби. Он лежит на спине, и спящие собаки помогают ему «полоть сорняки».
– Племенной знак, – объясняю я, показывая себе на нос.
Он безразлично кивает, погруженный в цветочную кому. Теперь я для него зеленоносая картошка. Шикарно!
Я ложусь на спину, поджав колени к груди и приподняв голову. Мой взгляд перебегает от сирени на шпалерах к островкам ирисов, что перешептываются на ветерке. Один факт неоспорим: весна сегодня сбросила дождевик и резвится вокруг. Меня тошнит. Неужели мир уже забыл, что случилось с нами?
– Я никогда не уберу ее вещи в коробки, – выпаливаю я, – никогда.
Тоби перекатывается на бок, рукой прикрыв глаза от солнца, смотрит на меня и говорит, к моему изумлению:
– Ну конечно же нет.
Я киваю. Он кивает в ответ. Я снова откидываюсь в траву и закрываю лицо руками, чтобы он не заметил, что я слегка улыбаюсь в ладони.
И вот внезапно солнце уходит за гору. Эта гора – мой дядя Биг. Он нависает над нами. Наверно, мы с Тоби оба отрубились.
– Я чувствую себя доброй волшебницей Глиндой из страны Оз, – говорит он. – Смотрю тут сверху вниз на Дороти, Страшилу и двух Тотошек, задремавших на маковом поле.
Пара снотворных цветков бессильны перед громогласным басом дяди Бига.
– Если вы не проснетесь, придется мне наслать на вас снежную бурю.
Я сонно улыбаюсь его огромным подкрученным усам. Они величественно восседают над его верхней губой, точно само воплощение чудачества. В руках у дяди небольшой красный морозильник, который он держит непринужденно, точно портфель.
– Как идет раздача продуктов? – Я стучу по морозильнику ногой. Мы столкнулись с непредвиденным ветчинным затруднением. Похоже, после похорон в Кловере вышел указ о том, чтобы все останавливались у нашего дома с куском ветчины. Она была повсюду: ею были забиты холодильник и морозилка, заставлены полки и плита; ветчина лежала в раковине и в выключенной духовке. Когда соседи заходили выразить свои соболезнования, их встречал в дверях дядя Биг. Мы с бабулей то и дело слышали, как он гудел: «О, ветчина! Спасибо вам за заботу, заходите, пожалуйста». Шли дни, и реакция дяди Бига на ветчину становилась все более бурной. Каждый раз, когда он восклицал: «Ветчина!», – мы с бабулей переглядывались, стараясь подавить неподобающее хихиканье. Теперь дядя поставил себе целью добиться, чтобы в каждом доме на двадцать миль вокруг люди хотя бы раз в день съедали бутерброд с ветчиной.
Он ставит морозильник на землю и протягивает мне руку, помогая подняться.
– Возможно, через несколько дней мы станем безветчинными.
Как только я оказываюсь на ногах, Биг целует меня в макушку и протягивает руку Тоби, а потом обнимает его. Тоби, и сам паренек весьма внушительный, целиком исчезает в этом медвежьем объятии.
– Ну что, ковбой, как живешь-можешь?
– Так себе, – признается тот.
Биг отпускает его, оставляя одну руку у Тоби на плече, а второй приобнимает меня. Он переводит взгляд с меня на него и обратно.
– Это нужно просто пережить… всем нам, – он провозглашает это, точно Моисей, и мы киваем, приобщившись великой мудрости. – А пока давай-ка найдем для тебя скипидара.
Он подмигивает мне. Дядюшка Биг – великий мастер подмигивать, и пять его жен тому доказательство. После того как пятая покинула его, бабуля настояла, чтобы он перебрался к нам.
– Ваш бедный дядюшка изморит себя голодом, если будет и дальше страдать от безнадежной любви, – объяснила она. – Разбитое сердце – плохой повар.
А теперь она собственным примером подтверждала эту поговорку: все, что она готовит, по вкусу напоминает пепел.
Мы с Тоби идем за дядей в дом. Внутри дядя Биг останавливается перед изображением сестры – моей пропавшей мамы Пейдж Уокер. Еще до того, как она исчезла шестнадцать лет назад, бабуля рисовала ее портрет. Закончить картину не удалось, но бабушка все равно повесила ее на стену. Пейдж парит над камином в гостиной: полумама с зелеными волосами, что струятся вокруг ее недорисованного лица.
Бабуля всегда уверяла нас, что наша мать вернется. Она говорила об этом так, словно мама отправилась в магазин купить яиц или ушла искупаться. Бабуля так часто и с такой убежденностью повторяла это, что мы до поры до времени не сомневались в ее словах. Просто ждали, когда зазвонит телефон, раздастся стук в дверь, придет письмо.
Я легонько касаюсь руки дяди Бига, он уставился на полумаму так, словно ведет с ней молчаливый разговор. Дядя вздыхает, обнимает нас с Тоби, и мы плетемся на кухню, как трехголовый шестиногий мешок скорби весом в десять тонн.
Ужин наш вполне предсказуем: запеканка из ветчины с пеплом. Мы ковыряем вилками в тарелках.
Потом мы с Тоби садимся на полу в гостиной, слушаем любимую музыку Бейли, разглядываем бесчисленные фотоальбомы и, собственно говоря, разбиваем свои сердца на мелкие осколочки.
Я украдкой бросаю на него взгляды через комнату и чуть ли не наяву вижу, как она бросается к нему, подбегает со спины и привычно обвивает его шею руками. Она шептала ему на ухо возмутительные непристойности, и он дразнил ее в ответ, словно меня и не было рядом.
– Я чувствую, что Бейли тут, – говорю я наконец. Ощущение ее присутствия заполняет меня целиком, – в этой комнате, с нами.
Он в удивлении поднимает глаза от альбома, что держит на коленях:
– Я тоже.
– До чего хорошо, – выпаливаю я, чувствуя огромное облегчение.
Он улыбается, щурясь, словно сидит на солнце.
– Точно, Ленни.
Я вспоминаю, что Бейли однажды рассказывала мне: с людьми Тоби не особенно общителен, но ему хватает пары слов, чтобы приручить норовистую лошадь на ранчо. Как святой Франциск, сказала я тогда. Теперь я понимаю, о чем она говорила. Его неторопливая тихая речь и правда успокаивает – как волны, что плещутся по ночам о берег.
Я возвращаюсь к фотографиям Бейли: вот она в начальной школе, играет Венди в школьной постановке «Питера Пена». Мы больше не говорим об этом, но весь вечер я продолжаю чувствовать радость от присутствия сестры.
Позже мы прощаемся с Тоби в саду. Нас окутывает пьянящий, дурманящий аромат роз.
– Так здорово было посидеть с тобой, Ленни. Мне стало лучше.
– И мне тоже, – бормочу я розовому кусту и обрываю лепесток с лаванды, – намного лучше. Правда.
Я говорю это очень тихо. Не уверена, хочу ли я, чтобы он слышал мои слова. Поднимая глаза, я вижу, что лицо его потеплело, и он теперь больше похож на львенка, чем на взрослого льва.
– Ага, – отзывается он, и его темные глаза печально сверкают. Тоби поднимает руку, и на секунду мне кажется, что он собирается погладить меня по щеке. Вместо этого он запускает пальцы в солнечную гриву своих волос.
Мы медленно проходим последние несколько шагов до дороги. Из ниоткуда появляются Люси с Этель, они прыгают на Тоби, и он опускается на колени, чтобы попрощаться с собаками. В одной руке у него скейт, а другой он гладит собак, неслышно что-то им нашептывая.
– Так ты и правда святой Франциск?
У меня слабость к святым (по части чудес, а не умерщвления плоти).
– Так про меня говорили, – по его широкому лицу скользит неуловимая улыбка и останавливается в глазах, – в частности, твоя сестра.
На долю секунды меня охватывает желание рассказать ему, что это была я, а не Бейли.


