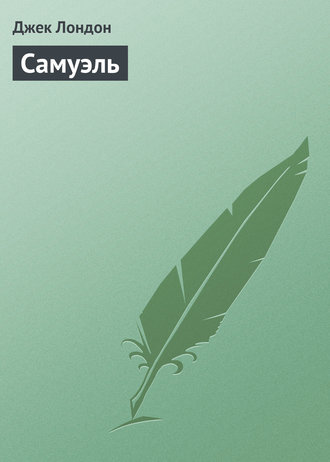
Джек Лондон
Самуэль
– Это был не ребенок, а золото, – говорила мне Сара Дэк.
Я познакомился с Сарой Дэк, когда она была уже почтенной старушкой, лет шестидесяти, причем ей сопутствовала такая трагическая и необыкновенная репутация, что если бы ее язык болтал еще десятки лет, то и тогда она продолжала бы оставаться героиней всех местных кумушек.
– Да, не ребенок, а золото, – повторяла Сара Дэк. – Он никогда не капризничал, а сидел себе спокойно на солнышке, пока, бывало, не проголодается. А какой он был сильный! Он сжимал ручками, как взрослый мужчина. Через несколько часов после рождения он так схватил меня, что я закричала от боли. И какое у него было превосходное здоровье! Он спал, ел, рос и никому не мешал. Он ни разу никого не разбудил ночью, даже когда у него прорезывались, зубы. А Маргарэт носила его на руках и все говорила, что второго такого красавца нет во всем Соединенном Королевстве.
А как он рос! Как быстро он рос и как много ел! В год он был ростом с иного двухлетнего. Только в ходьбе и в разговоре он почему-то отставал. Ползал на четвереньках, издавал горлом какие-то звуки – и больше ничего. Это, конечно, можно было объяснить его чересчур быстрым ростом. А он все рос и становился все здоровее. Сам Старый Хэнэн удивлялся его силе и говорил, что в Великобритании не найти другого такого мальчугана. Доктор Холл первый высказал одно подозрение, но тогда, помню, я и не подумала, чем это может кончиться. Я припоминаю, как он показывал маленькому Сэмми какие-то вещицы, производившие шум. Он подносил их ему к ушам, потом показывал издалека. Кончив свое исследование, доктор ушел, хмуря лоб и недовольно качая головой, словно ребенок был болен. Но я готова была поклясться, что он здоров: об этом свидетельствовали его быстрый рост и хороший аппетит. Доктор Холл не сказал Маргарет ни слова, и я никак не могла понять, что его огорчает.
Я хорошо помню, как маленький Самми в первый раз заговорил. Ему было всего два года, но ростом он был с пятилетнего ребенка, и все ползал на четвереньках, никому не мешая и всегда довольный, если его часто кормили. Я как раз развешивала белье, вдруг он вылез на четвереньках, болтая головой и моргая от яркого солнца. И вот тут он заговорил. Я так испугалась, что едва не умерла: я сразу поняла, почему доктор Холл печально качал головой. Да, он заговорил. Смею вас уверить, что ни один еще ребенок на острове Мак-Джилле не говорил так громко. Я так и задрожала от ужаса. Маленький Самми вопил, он выл как осел, – да, именно, как осел. Он ревел так громко, весело и долго, что казалось, у него лопнут легкие.
Самми был идиотом, – ужасным, чудовищным идиотом, и доктор Холл сказал об этом Маргарет, после того как мальчик заговорил. Но мать не хотела ему верить. Она утверждала, что это обойдется, и приписывала все слишком быстрому росту.
«Подождите, – говорила она, – вы увидите».
Но старый Том Хэнэн понял в чем дело, и с тех пор его трудно было узнать. Он ненавидел это существо, не хотел даже касаться до него, хотя когда-то любовался им целыми часами. Я часто видела, как он с ужасом смотрел на него из-за угла. А когда мальчик начинал реветь, старый Том затыкал себе уши, и на него страшно и жалко было смотреть.
Как мальчуган ревел! Больше он ни на что не был способен, разве только на то, чтобы расти. Когда он был голоден, он начинал завывать, и унять его можно было только пищей. Каждое утро он на четвереньках вылезал из дома, грелся на солнце и ревел. Из-за этого-то рева он и погиб в конце концов.
Я очень хорошо все это помню. Ему было всего три года, хотя на вид ему можно было свободно дать все десять. А старый Том чувствовал себя хуже и хуже: ходит в поле за плугом и все разговаривает сам с собой, бормочет.
Я помню, как он сидел в тот день на скамейке у кухонной двери и прилаживал новую рукоятку к своему заступу. Вдруг выполз его ужасный сын и начал реветь, по обыкновению, жмурясь от солнца. Я видела, как старый Том выпучил глаза и смотрел на чудовище, ревевшее перед ним, точно осел. Том не мог этого выдержать, и что-то стряслось с ним. Он вдруг вскочил и изо всех сил хватил чудовище рукояткой заступа по голове, и все бил и бил, словно это была бешеная собака. Затем он прямо отправился в конюшню и повесился там на перекладине. Ну, после этого я уже не могла оставаться у них и перешла к своей сестре, которая вышла за Джона Мертина и отлично живет.
Сидя на скамейке возле кухни, я поглядывал на Маргарэт Хэнэн, которая в это время прижимала табак в трубке заскорузлым пальцем и смотрела на поля, подернутые вечерним сумраком. На этой скамейке сидел и Том Хэнэн в тот ужасный день его жизни. А Маргарэт сидела на тех самых ступеньках, где грелся на солнце, мотал головой и ревел страшный идиот. Мы беседовали с ней около часу, и она все время говорила с той медлительностью, которая так шла к ней: она словно созерцала вечность.
Я никак не мог понять, какими мотивами руководствовалось в своем упорстве это удивительное существо. Хотела ли она пострадать за правду? Или она втайне поклонялась какому-то неизвестному божеству? Может быть, она думала, что служит отвлеченной правде – высшей цели человека – в тот далекий день, когда назвала своего первенца Самуэлем. Или это было просто ослиное упрямство? Упорство кобылы с норовом? Тупое упрямство крестьянского ума? Или это было капризом? Фантазией? Была ли она безумною только в этой части своего рассудка, или, напротив, в ней жил дух Бруно[1]?
Была ли она убеждена в своей логической последовательности? Хотела ли она воспротивиться глупому суеверию своих сограждан, или, наоборот, ею самою руководило суеверие, особого рода фатализм, альфой и омегой которого было старинное имя – Самуэль.
– Скажите, – говорила она мне, – неужели, если бы я назвала второго Самуэля Лэри, он не сварился бы в котле с кипятком? Скажите, сэр, это останется между нами, – вы как будто образованный человек, – неужели имя играет какую-нибудь роль? Неужели я бы не стирала в тот день, если бы он был Лэри или Майкель? Неужели кипяток не был бы кипятком, и неужели он не ошпарил бы ребенка, если бы его звали не Самуэлем, а иначе?
Я подтвердил правильность ее рассуждений, и она продолжала:
– Неужели имя может изменить предначертание господа? Значит, мир управляется кем-то другим, а бог – просто слабое капризное существо, которое решается изменять вечный ход вещей только потому, что какой-то червь – Маргарет Хэнэн – назвала своего ребенка Самуэлем. Вот, например, мой сын Джэми не взял в свою команду какого-то Рушэн-Фэнна, говоря, что тот накличет на них бурю. Что это, по-вашему? Неужели бог, создавший мир, будет слушаться какого-то вонючего Рушэн-Фэнна, сидящего где-то на борту грязной шхуны?
Я сказал, что она безусловно права; но она продолжала развивать свою мысль.
– Неужели бог, который управляет движением небесных светил, и для могучих ног которого весь мир только подставка, – неужели вы думаете, что он может назло Маргарет Хэнэн послать огромную волну, которая бы смыла ее сына у Мыса Доброй Надежды только потому, что она назвала его Самуэлем?
– Но почему именно Самуэль?
– Не знаю. Так мне захотелось.
– Но почему вам этого хотелось?
– Да как же я могу вам на это ответить? Я думаю, никто в мире этого не знает. Разве можно ответить, почему или отчего? Мой Джэми, например, так любит сливки, что когда нет их, он, по его собственному выражению, готов проглотить язык. А Тимоти сливок в рот не берет. Я вот люблю слушать, как гремит гром, а моя Кэтти во время грозы залезает под перину. Только бог может знать, почему или отчего. Мы, смертные, этого не знаем. Довольно с нас того, что нам нравится или не нравится. Мне нравится – вот и все. А почему нравится, – этого никто не может знать. Мне вот нравится имя Самуэль. Это чудесное имя, и в самом звуке есть что то непостижимое и чарующее.







