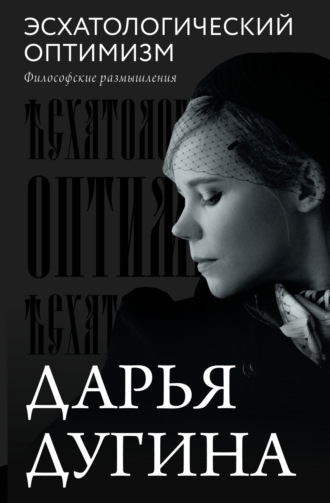
Дарья Дугина
Эсхатологический оптимизм. Философские размышления
По и Бодлер
Вопрос: Эдгар По – эсхатологический оптимист? Его последняя книга «Эврика» о нашей трагической вселенной, финальность которой тождественна раскрытию, заключенному в несчастье.
Дарья Дугина: Благодарю Вас, Валентин. Я об этом не думала. Обязательно перечитаю в этом контексте.
Вопрос: Что можете сказать о творчестве Бодлера в аспекте «Цветов зла»[32]?
Дарья Дугина: Для меня Бодлер тоже своего рода эсхатологический оптимист. У меня на полке на самом виду стоит томик Бодлера, подаренный Аленом де Бенуа – «Мое обнаженное сердце»[33]. Мне кажется, во французской декаданс-среде эсхатологический оптимизм очень чувствуется. Поэтому, да, как раз Бодлер – и именно Бодлер – вполне может считаться представителем эсхатологического оптимизма.
Радикальный Субъект
Вопрос: Какое место в концепции эсхатологического оптимизма занимает Радикальный Субъект[34]?
Дарья Дугина: По сути дела, Радикальный Субъект – это и есть носитель эсхатологического оптимизма, как и «дифференцированный человек» Эволы. Радикальный Субъект – это именно тот человек, который в отсутствии Традиции становится носителем этой Традиции, кто в то время, когда на небе нет звезд, говорит вопреки всему: «Восстань душа», «Auf! O Seele!», если цитировать барочного поэта Христиана Хоффмана фон Хоффмансвальдау. Поэтому, Елена, у Вас очень точное понимание. Именно эсхатологический оптимизм связан с концепцией Радикального Субъекта. Именно про это я хотела сказать, но воздержалась, а Вы догадались.
На стороне зла
Вопрос: Как вы относитесь к эсхатологическим пессимистам, которые служат фанатично силам зла, самой тьме, через грязные подлые дела на земле? Они ваши враги или, может быть, Вы философски к ним относитесь?
Дарья Дугина: Я отношусь к ним с уважением, потому что, если человек выбирает волевую стратегию, если он признает конечность этой иллюзии, даже если он осознанно идет на разрушение этой иллюзии, то я воспринимаю это как волевой акт, и, безусловно, для меня это ценно. Но, другое дело, конечно, что я предпочитаю находиться в пространстве эсхатологического оптимизма, осуществляя положительное волевое решение – попытку выйти из этой иллюзии в направлении неизреченного Верха, непознаваемой бездны вверху. Меня эта концепция гораздо больше привлекает. Зло легко найти и легко увидеть. Для того чтобы увидеть зло, нужно идти вверх, а не вниз. Зло и то, что, на самом деле, страшно, то, что пугает, может быть достижимо наверху. Я говорю это с точки зрения христианского мистицизма. Вспомните: больше всего бесов приходит именно к монахам, к священнослужителям. Именно они испытывают самые страшные муки, когда осознают силу своего греха и глубину своего грехопадения. Они-то и призваны держать свой ум в аду. Представьте, святые люди, которые мучаются, терзаются бесами, они и познают настоящее зло. А не какие-то мелкие пакостники. Потому что, когда вы идете вверх, движетесь в направлении Абсолюта, только тогда вы начинаете понимать, насколько там впереди страшно. А сколько в этом движении может обнаружиться несовершенств внутри вас самих… Зла не надо искать специально. Его, во-первых, достаточно, а во-вторых, истинный объем зла открывается только при приближении к чистому Благу.
Гностики
Вопрос: Гностические системы – это скорее эсхатологический пессимизм или оптимизм?
Дарья Дугина: Вот с гностиками – сложно. Изначально я хотела про них говорить, но потом поняла, что я просто не смогу все объять. Гностические системы бывают разными. Мне кажется, что гностики все же – это эсхатологические пессимисты, но при этом они все равно тоже могут иметь какое-то эсхатологически-оптимистическое измерение. Здесь нужно смотреть, кого именно вы имеете в виду. Сейчас мне только гностик Валентин приходит в голову. Хотя есть и другие намного более пессимистичные системы и авторы. Мне кажется, что Валентин был вполне себе гностическим эсхатологическим оптимистом. Но гностицизм, безусловно, требует отдельного исследования. В этой лекции я в большей степени фокусировалась на платонизме. Поэтому я думаю, что, если я буду разрабатывать доктрину эсхатологического оптимизма дальше, то я, конечно, уделю особое внимание и гностицизму.
Фэнтэзи
Вопрос: Ваше отношение к философии фэнтези. Стоит ли искать глубинные смыслы в работе Warhammer и «Игре престолов»?
Дарья Дугина: Ой, про эсхатологический оптимизм в «Игре престолов» я совсем не задумывалась. Хотя, глубинный смысл надо искать везде и всегда, во всем, что нас окружает. Даже в кинематографе. То, что вы видите на экране и что якобы сделано на потребу непросвещенной недалекой публики, есть ни что иное как результат работы трехсот лет истории философии, если не четырехсот. Та реальность, которую мы принимаем за подлинную, на самом деле – работа конструирования Нового времени. Если бы античные философы видели любой элемент нашей реальности, они бы совершенно иначе его воспринимали, нежели мы. Они бы воспринимали то, что мы называем «реальность», лишь как доксу, мнение, но не как то, что есть на самом деле. Поэтому, я думаю, во всем нужно искать глубокое измерение. В фэнтези, в том числе и в «Игре престолов», в частности. В «Игре престолов» я больше люблю прослеживать проблемы геополитического противостояния, Севера и Юга, двух цивилизационных моделей – культурологической цивилизации Кибелы и цивилизации Аполлона. Warhammer я не знаю, я никогда не играла в компьютерные игры.
Эсхатологический пессимизм
Вопрос: Такой вопрос еще, расскажите, пожалуйста, чуть подробнее про эсхатологический пессимизм, полностью ли он противоположен оптимизму?
Дарья Дугина: Нет, он не полностью противоположен, потому что он тоже эсхатологический. Он подразумевает мир как нечто конечное, тленное и профанное, но при этом он считает, что необходимо воздержаться от каких-либо действий, поскольку все бесполезно. Такой эсхатологический пессимизм – это нигилизм в его худшем проявлении. Фактически, он ведет к пассивному принятию этого профанного мира. Это, по сути, как остывание тела. Это грустная и пассивная позиция, основанная на понимании того, что все конечно и все кончено. Чоран, кстати, мечется между этими эсхатологическим пессимизмом и эсхатологическим оптимизмом. У него в некоторых работах есть прямой призыв к восстанию. Он как будто говорит: «Все бессмысленно, поэтому я должен в себе взрастить противостояние этому бессмысленному. Зачем? Я сам не знаю. Да, это будет так же бессмысленно, но все равно я должен взрастить в себе это начало, я должен взрастить в себе противостояние». Его бросает из глубокого эсхатологического пессимизма в эсхатологический оптимизм.
Вопрос: Получается, что в условиях последних времен две противоположные позиции – эсхатологический оптимизм, как радикальное непринятие смерти и тьмы, и эсхатологический пессимизм, как пассивное принятие смерти и согласие с растворением в ничто – каким-то образом сочетаются и имеют схожие пропорции. При первом рассмотрении их сложно отличить, это напоминает проблематику Радикального Субъекта и его дубля[35]. Что Вы думаете по этому поводу?
Дарья Дугина: Гениальный вопрос! Очень, очень тонкий. Да, это, действительно, похоже на Радикальный Субъект и его дубль. То есть, вроде бы, одновременное принятие профанности мира, его конечности. Но в одном случае – это принятие на себя волевого решения по его преодоления, с другой стороны – это отказ от каких-либо действий. Да, это очень интересная тема.
Вопрос: «Миф о Сизифе»[36] Камю свидетельство эсхатологического пессимизма?
Дарья Дугина: Да, это именно тот момент, когда мы имеем дело с настоящим эсхатологическим пессимизмом.
Вопрос: Значит ли, что на пике достижения определенного духовного состояния как восхождения и преодоления себя, как человека, стирается грань между эсхатологическими оптимистами и пессимистами, где оба в конечности и перед бесконечным сливаются с ничто?
Дарья Дугина: Я бы так не сказала. Состояние выхода, трансгрессии, в принципе, может быть довольно схожим, но при этом опыт выхода эсхатологического оптимиста будет все же представлять некоторое единение с Божественным, с потусторонним миром, с Абсолютом. В то время как опыт эсхатологического пессимиста будет опытом столкновения с ничто. И, на мой взгляд, здесь идет речь о разных ничто – о ничто сверху и ничто снизу. Мне несколько неудобно рассуждать про такие вопросы, потому что мы уже вышли в горизонты мистики – ничто сверху, ничто снизу. Но я бы ответила Вам именно этими словами: у эсхатологического оптимиста есть цель выхода к бездне сверху, а у эсхатологического пессимиста есть только перспектива падения в бездну снизу.
Камю и Батай
Вопрос: Можно ли «прыжок веры» Кьеркегора считать признаком эсхатологического оптимизма?
Дарья Дугина: Да, возможно: у Кьеркегора довольно много элементов эсхатологического оптимизма. То отчаяние Авраама, которое сопровождает жертвоприношение Исаака… Вот это осознание необходимости столкновения со смертью, возможно, также является признаком эсхатологического оптимизма.
Вопрос: Жорж Батай оптимист или пессимист?
Дарья Дугина: Я думаю, что он – эсхатологический пессимист, раз он обращает свой взгляд на нижнее ничто, движется в бездну снизу. Я очень люблю Батая, особенно его работы «по внутреннему опыту»[37], где он разбирает мистику, трансгрессию, и его прозу тоже. Но все же он – эсхатологический пессимист.
Акселерационизм
Вопрос: Являются ли акселерационисты эсхатологическими оптимистами?
Дарья Дугина: Мне кажется, нет. Они не ассоциируют с материей конечность, тленность. Они принимают эту материю, они живут по ее законам, стараются следовать за ней, подражать ей. Они принимают неизбежность движения этой профанической материи, принимают ее в себя целиком.
Вопрос: Как отличить ничто верхнее от нижнего в условиях абсолютного конца: не есть ли, в конечном счете, эти две бездны – одно?
Дарья Дугина: Мне кажется, этот вопрос риторический. Мне страшно брать на себя функцию ответить на него. Сказать: «Ну что Вы, верхнее ничто принципиально отличается от нижнего. Верхнее следует определять по таким признакам, а нижнее – по таким». Так можно было бы поступить, но это – ложный путь. Вопрос, как отличить бездну сверху от бездны снизу – это вопрос, который, мне кажется, тревожил очень многих глубоких мыслителей, философов, писателей. И я думаю, что далеко не все из них – даже гении – нашли ответ на этот вопрос. Так что давайте оставим этот вопрос открытым.
Ведущий: Спасибо большое, Вам, Дарья, за то, что согласились выступать на нашем лекториуме, это была потрясающая лекция.
Эсхатологический оптимизм и метафизика войны[38]
Вкусившему от горнего, легко пренебречь дольним; не вкусивший от горнего подобен скоту, дольним наслаждающемуся.
Иоанн Лествичник. Лествица. Слово 17.
Несчастье быть. Пессимизм по-румынски
Введение концепта. Ключевые авторы
Здравствуйте, друзья и коллеги! Сегодня я хотела бы поговорить о теме эсхатологического оптимизма. Тема звучит броско, ярко и красиво, но то, что сегодня я собираюсь вам озвучить – это всего лишь гипотеза, набросок философского подхода. Когда я работала с текстами Чорана, Эволы, Юнгера и других мыслителей, мне хотелось объединить их учения в одну группу, обозначить одним именем. Долгое время я не могла найти для них обобщающего понятия. Было очевидно, что это должно было быть как-то связано и с резким апокалиптическим чувством приближающегося конца, но при этом и с волевой ориентаций на участия в битве, на восстание. Слово «традиционализм» подходило для ряда авторов: в меньшей степени – для Чорана и Юнгера, в большей – для Эволы, но тем не менее не описывало в достаточной мере суть того, что меня в их теориях привлекало.
Сегодня попробуем разобрать три основные концепции:
• философию Эмиля Чорана в более широком контексте румынской метафизики ХХ века;
• концепции Юлиуса Эволы, прежде всего – его воззрения, касающиеся темы войны, типов героизма, восстания против современного мира, тезиса «оседлать тигра»;
• творчество Эрнста Юнгера – прежде всего, на основе его довольно известного манифеста «Уход в лес», революционного и яркого, с которым здесь многие должны быть знакомы.
Эсхатологический оптимизм – это не готовая и законченная концепция, не общепризнанная категория в философско-исторической традиции, это лишь гипотеза, предложение по прочтению, по интерпретации текстов. Это комплекс воззрений, которые базируются на признании материального мира своего рода иллюзией, но с одновременным принятием решения о волевом сопротивлении этой иллюзии.
Тут есть две установки, которые нужно зафиксировать.
Первая: тот мир, который нас окружает, непосредственная данность – это иллюзия. Помните, у Рене Генона были важные слова: «La fin d’un monde n’est jamais et ne peut jamais être autre chose que la fin d’une illusion»[39]. («Конец мира никогда не является и не может являться ничем иным, кроме как концом иллюзии»).
Вторая: окружающий мир совершенно бессмысленен, он потерял смыслы, он является жертвой регресса, «он истлел», по Аполлинеру. Les dentelles s’abolissent – одна из моих любимых фраз. Речь идет об «истлевании кружевов смысла». Это чувство абсолютной потерянности в разных философских контекстах может быть названо «богооставленностью», «отсутствием смыслов» или «Кали-югой». Про Кали-югу мы сегодня еще поговорим. Сразу замечу, что этимология слова «Кали-юга» (kali-yuga) происходит не от имени богини Кали (Kālī – черная), а от имени демона Кali, чье имя означает «смешение», «потрясение», «насилие». Есть еще санскритский термин kāla («время», а также «время смерти»), но это третий семантический узел. Все эти концепции в индуизме строго различаются. Для меня это было интересным откровением, с которым я ознакомилась во время подготовки к этой лекции. В индуистской эсхатологии финальная битва, которая завершит конец времен, будет битвой богини Кали (благой) против демона (асуры) Кали или против самой Кали-юги как эпохи правления асуры Кали. Вместе с тем, Кали – это ипостась Шивы, бога вечности. Можно сказать, что Кали-вечность будет сражаться с Кали-временем и победит его. Тогда придет десятый аватара Калки. Вот сколько смыслов сразу в Кали-юге.
Соответственно, в стратегии сопротивления миру как иллюзии ключевым моментом является война. Это вызов миру, восстание против него, желание его подчинить священной воле, оседлать его как силу, как поток и произвести в нем переворот во имя высших ценностей. Каких ценностей? Здесь мы пока остановимся, потому что следует двигаться последовательно, чтобы не скатиться в банальность.
Для тех авторов, которых мы сегодня рассматриваем, вопрос, ради чего, ради какой цели ведется метафизическая война, не совсем очевиден. Подчас для них самих это большой знак вопроса. Авторы, которых мы разберем, практически всегда говорят о необходимости войны и восстания, но вот для чего эта война, это восстание, эта революция часто не называется напрямую, составляет фигуру умолчания. В этом есть апофатическое – подобно тому, как во времена апостолов в Афинском Ареопаге стоял алтарь «Неведомому богу». Эти авторы опасаются говорить, что там или кто там по ту сторону иллюзии – Бог или не Бог, или что-то Превысшее. Они предпочитают оставлять это место пустым. Мы и не будем его заполнять, это не наша цель. Наша цель – разобраться в том, как, учитывая иллюзорность мира, можно противостоять ему, и зачем это нужно, какова мотивация этого переворота, восстания и этой борьбы.
Принципы эсхатологического оптимизма: опыт разрыва
Зафиксируем основные положения, которые представляются нам наиболее важными в эсхатологическом оптимизме.
Первое. Эсхатологический оптимизм у авторов, которых мы сегодня рассматриваем, и тех, которых мы не рассматриваем, но будем рассматривать в дальнейшем, связан с опытом разрыва. У Юлиуса Эволы опыт разрыва дан в формуле la rottura del livello. Порыв с иллюзорностью и приход к иному, разрыв инертности материи, привязки к этой материи, отделение себя от мира, который есть данность и одновременно есть иллюзия.
Второе. Это – иерархия. Эсхатологический оптимизм считает, что в мире есть высшее и низшее, есть то (иное) и есть это (данное). Это противостояние образует войну. Война, что ведется в рамках эсхатологического оптимизма, это война иллюзорности, т. е. низшей данности, с тем, что находится по ту сторону, что является нас превосходящим наши границы. Это то, что неоплатоники называли ἐπέκεινα τῆς οὐσίας (эпикейна тес оусиас), «по ту сторону сущности». Эту формулу используют, чтобы сказать об апофатическом Едином, о высшем начале.
Несчастье «быть между» и преодоление времени
В эсхатологическом оптимизме одной из самых важных характеристик является несчастность. Человек, который бросает вызов данности, идет на восстание, провозглашает категорическое «нет», выражает тотальное несогласие с тем, что вокруг него – такой человек является несчастным. Ведь он отказывается от состояния, который Ницше обнаружил у последних людей: «Счастье найдено нами», – говорят последние люди и моргают».[40] Он отказывается от зрелищ, развлечений, от созерцания канатного плясуна. Он хочет иного, он бросает вызов данности, и он рискует, так как он бросает вызов и самому себе, направляя свою волю и посылая свой внутренний удар вовне.
Пытаясь выйти за границы себя, эсхатологический оптимист, этот «метафизический пограничник», пребывает в сфере одновременно удержания и данного и броска к не данному, на границе потустороннего и здешнего. Такова структура разрыва – его руки разведены в разные стороны: одна держит небо, а другая попирает землю, пытается от нее оттолкнутся.
В эсхатологическом оптимизме важной характеристикой является необходимость преодоления времени. Время, согласно Платону, это движущееся подобие вечности. Но это подобие в чем-то бракованно. Во имя возврата к вечности оно должно быть преодолено.
Крайне скептическое рассуждение о времени мы встречаем у Чорана – особенно ярко в работах, посвященных истории, где Чоран радикально критикует историю как таковую, говорит о том, что необходимо пробить дно времени и вырваться к вечности. Мы встречаем это и у Юнгера, когда он утверждает, что тот, кто уходит в лес, помещает себя на территорию вечности. Он не работает в плоскости времени, он не подвержен ни прогрессу, ни регрессу. Он меняет свой вид – отныне он больше не состоит из того, из чего состоит время.
Неизбежность существования «между», человеческая фигура, с одной поднятой, а другой опущенной рукой, которую мы можем увидеть на многих традиционных изображениях[41] – вот эта фигура обозначает заброшенность в область, расположенную между тут и там. Сейчас на ум пришли египетские изображения божеств, парящих в промежуточном пространстве, без прикосновения к чему-либо. Они находятся между апофатическим здесь и апофатическим там. Постепенно вырисовывается фигура метафизического пограничника – эсхатологического оптимиста, человека, который существует на разрыве, на грани, между двумя мирами.
Предшественники эсхатологического оптимизма
Когда я взялась разбирать проблему эсхатологического оптимизма и делала первую вводную лекцию на проекте «Сигма», я начинала с Платона. И я тогда сказала, что платонизм – это опыт эсхатологического оптимизма. Потом, через какое-то время работы над темой, я поняла, что это была анахроничная попытка увидеть в Платоне то, что на самом деле проявляется только в нигилистическую эпоху. Поэтому поправкой к моей первой лекции станет видение эсхатологического оптимизма как процесса, который проявляется в конце XIX-го – начале XX-го веков. Предшественниками эсхатологического оптимизма являются эсхатологические пессимисты – те, кто вскрывают нигилистическую сущность Модерна, кто видят в Новом времени и его культуре лишь ничто и сталкиваются с этим ничто, но отчаянно, пассивно.
Фридрих Ницше представляет собой предвестника эсхатологического оптимизма. Какие-то его работы и фрагменты можно прочесть с точки зрения эсхатологического оптимизма – особенно пассажи про преодоление «стадии льва» и «фазы младенца» в превращениях духа, про «играющего бога» Диониса. Но тем не менее, его философия находится в конце старого начала. Это – пограничная область между старым началом и новым. Тут я обращаюсь к характеристике Мартина Хайдеггера. В его анализе формулы Ф. Ницше «Бог мертв»[42] Ницше описан как выразитель последней стадии европейской метафизики, т. е. старого начала.



