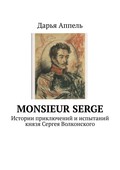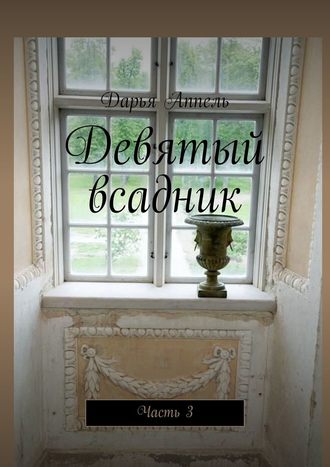
Дарья Аппель
Девятый всадник. Часть 3
Что же касается моей частной жизни… Скажу сразу – тогда все было лучше. Гораздо лучше, чем потом. Мое счастье несколько омрачала необходимость постоянно присутствовать рядом с государем в поездках, но они не были продолжительными, и, как известно, разлука только обостряет любовь. К концу сего «золотого века» моего бренного существования я впервые стал отцом и неожиданно для себя почувствовал, что вполне подхожу для этой роли.
Но обо всем по порядку.
Итак, я сохранил дружбу Государя, да и всех при Дворе, включая особ вышестоящих. Могу сказать, что единственный из них, кто питал ко мне некоторую неприязнь (не назову это ненавистью или враждой) – цесаревич Константин. Чем заслужил я его немилость – не скажу. Мы даже не соприкасались друг с другом ни по каким делам. Так полагал я тогда.
Однако теперь я могу сказать, что для этого нужно немногое. Но он в целом личность не самая дружелюбная, готовая искать врагов во всех. Нынче уже привык, что некоторым не нравлюсь самим фактом своего существования, но двадцать пять лет назад был охвачен желанием сделаться всеобщим любимцем или хотя бы не нажить врагов. Оттого-то я и сблизился с «квартетом вольнодумцев», каждый из которых при менее благоприятных обстоятельствах мог бы стать моим врагом.
Но сближение это произошло далеко не сразу. И протекало весьма неровно, а то и причудливо. Со множеством взаимных обид и разногласий. Окончилось глубоким разочарованием с обеих сторон, обменом «любезностями» и одновременной порчей репутаций друг другу. Не хотелось бы о сем вспоминать, но надо. Для исторической верности. Люди, о которых пойдет речь ниже, уже перестали что-то значить на политической арене, а кое-кто и мертв (и снится мне во снах, после которых у меня в душе – странное волнение).
Итак, из нас всех император Александр отобрал четырех, которых полагал наиболее просвещенными, толковыми и удачливыми. Многие с этим выбором не были согласны, видя на месте Новосильцева, Строганова, Чарторыйского и Кочубея самих себя или кого-то из собственной партии. Скажем, мой друг князь Долгоруков всячески досадовал на то, что эти четыре человека пользуются всеми видами власти и влияния на государя. И было, за что. Они единственные, кто могли в любое время заходить к государю без доклада. Говорили, что каждый из них носит при себе ключ к потайной двери в императорские покои, чтобы без лишних проволочек и свидетелей переговорить с Александром, когда им хочется. Не буду тут повторять слухи о затеваемых «молодыми друзьями» проектах. Слова «революционеры», «якобинцы», «безумцы» повторялись в их адрес с завидной регулярностью. Правда, произносили их, в основном, люди пожилые и благонамеренные. Мои ровесники не скрывали, что откровенно завидуют «квартету». Но у тех было хотя бы, что предложить Государю. Мы (те самые завистники) пока не думали ни о чем. Нам нечего было предложить. И меня это весьма напрягало, если честно.
…Когда узнают, что я пять лет водил дружбу с графом Строгановым, обязательно спросят: «А он показывал вам свой проект Конституции?» или «А о чем они совещались с Чарторыйским и Новосильцевым?» (бедного Виктора Кочубея всегда задвигают). Вероятно, те, кто прочтет когда-либо эти строки, начнут в нетерпении перелистывать страницы, отчаянно ища описаний заседаний Негласного комитета, которые я переложил здесь со слов своего друга. Отвечу сразу: Комитет потому и назывался «Негласным», что в его деятельность было посвящено как можно меньше людей. Я имел достаточно такта, чтобы не давить на графа Поля с требованием пересказывать мне все обсуждаемое, и чтобы не напрашиваться в члены Комитета самому. Ведь иначе бы меня возненавидели очень многие. В том числе, собственные родственники. Но расскажу все по порядку.
Коронация государя была назначена на сентябрь. В августе всему Двору предстояло переезжать в Москву. В июне в Петербурге объявился Чарторыйский, четвертый из основных приближенных к государю лиц, и они открыли первое свое заседание. О нем я, разумеется, не знал, так как тайна была сохранена. У меня были другие дела и заботы, – точнее, в кои-то веки полное их отсутствие. Нанять дачу на Каменном острове оказалось блестящей идеей. Наверное, только в детстве я ощущал себя столь свободным и не обязанным никому ничего. Просыпаться тогда, когда хочется, а не когда надо – бесценно. Я всю жизнь ненавидел подниматься до рассвета и, признаюсь, большой любитель поваляться в кровати до полудня, и в кои-то веки смог предаться своей страсти вдоволь, благо Государь не требовал меня к себе ранее трех часов пополудни. Столь же прекрасно проводить вечера, ужиная на веранде, держать большие французские окна открытыми в сад, вдыхать дивный запах белой сирени, растущей прямо под окнами в спальню, и слушать фортепиано, и читать «Песни Оссиана», представляя совсем иные берега, давая своему воображению полную волю… А недалеко была купальня, я любил приходить туда после заката и переплывать неглубокий пруд от края до края. Как сейчас иногда делаю в Ричмонде.
Прожил бы я в подобной неге всю жизнь? Вряд ли, сразу говорю. Дотти явно скучала, хотя и гуляла по саду вовсю. Я купил ей пару лошадей, весьма смирных, одну белую, вторую каурую, которым она придумала невероятные клички – одна у нее прозывалась «Элеонорой», другая – «Кастильоной». Всему живому надо давать имена – мое неотложное правило. И имя должно быть у каждого свое. Этому я учу всех, кто готов учиться. И первый урок, который я преподал Доротее, звучал именно так. Она оказалась весьма смышленой ученицей. Во многом превзошедшей своего учителя, это так.
Помимо этого, я учил ее выездке. Странно было рассказывать ей основы мастерства, коим овладел почти в бессознательном возрасте. Даже нужных слов не находилось. Впрочем, ездить в дамском седле на смирной кобыле – это не особенно сложная наука. Могла и самостоятельно ее освоить.
Но дело было далеко не только в настроении моей супруги. Я тоже на третий примерно день эдакой беззаботной жизни начинал не находить себе места, и, в конце концов, выезжал в город видеться с приятелями и смотреть, что творится в свете. Приглашал и сюда людей, разрушавших мою тщательно выверенную атмосферу своими разговорами, громкими голосами, размашистыми жестами. Они создавали из моего уютного парадиза нечто свое, отчего он утрачивал первоначальные черты и превращался в обычный «открытый дом». И, самое нехорошее, что я сам не замечал поначалу, когда и как именно мой тщательно выстроенный Heim превращается в «место для всех». Наверное, то была репетиция той жизни. Когда почти все выставлено напоказ, для гостей, и мы сами как-то должны проводить в подобных интерьерах свою частную жизнь, будучи практически ежедневно вынужденными готовиться к приему высочайших гостей.
На коронацию Дотти не поехала, очень переживая по этому поводу. По ее словам, ее туда не пустила Мария Федоровна, которая наотрез отказалась видеть триумф сына, по ее мнению, неправедно получившего власть. Весь «малый двор» остался в Павловске, и моя супруга, которая к нему принадлежала, никуда не поехала. Я, естественно, отправился туда, так как являлся генерал-адъютантом Государя.
«Малый двор»… Одно из ненавистных мне мест. Хорошо, что нынче самого такого понятия не существует. В первые годы правления императора Александра Павловск – и само окружение вдовствующей императрицы – моментально сделались прибежищем тех, кто по каким-то причинам был недоволен «молодыми друзьями» и затеваемыми ими преобразованиями. Или кто, как мы, был кровно связан со вдовствующей императрицей. Я старался пореже там бывать, но, конечно, приходилось, потому как тогда на меня начинала обижаться матушка, тоже ничуть не потерявшая в своем влиянии, – напротив, своим твердым и мужественным поведением в роковую ночь на 12 марта укрепившая его. Стоило мне появиться у нее в гостиной, как на меня набрасывались с расспросами – что и как происходит при «большом дворе», что собирается делать государь, правда ли, что в России будет Конституция и Парламент, почему мы не разорвем отношения с Францией, а наоборот, собираемся возобновить мирный договор с нею, и будет ли война в обозримом будущем, etc, etc… Я обыкновенно ссылался на то, что занят по службе, мне недосуг вступать в философские и умозрительные разговоры, но матушка на меня весьма давила, требуя решительных ответов. Я догадывался, что эти ответы будут обсуждаться на все лады, частенько в перевранном виде, а потом итоги этих обсуждений будут известны государю и его ближайшему окружению. Во всей этой суете проходили весна и осень 1801 года. К октябрю дело достигло критической отметки. За государевым столом я замечал, что граф Строганов смотрит на меня, как на злейшего своего врага. Его кузен Новосильцев не отставал от него, и пару раз сказанул известное про «немцев, которые получают все». Моего приятеля Долгорукова не было. Тот отправился в Вильно, инспектировать губернию, коей отослали управлять Беннигсена. Государь устранил от себя всех убийц своего отца, и с Беннигсеном, присутствовавшим в той самой спальне, поступили лучше всех.
Может быть, и к лучшему, что князя Петра рядом со мной не было тогда. Тот бы своим неловким вмешательством натворил дел, доведя меня чуть ли не до дуэли.
…После того обеда я отправился к себе в тяжких раздумьях. Мне – равно как и тому «квартету» – не нужно было открытое противостояние. Я не мог не признать, что нет смысла унижать их в глазах государевых, как постоянно предлагали мне что «старики» из круга вдовствующей императрицы, что князь Долгоруков, потому как против них лично ничего не имел. Завидовать – не завидовал, скорее, сожалел. Ведь по себе знаю, что значит близость к государю. Да, входить без доклада в любое время дня и ночи – это, на первый взгляд, величайшая честь, но по здравому рассуждению – и обуза. Я сам пять лет пользовался сей «милостью», и могу сказать – ничего в сем хорошего нет. Тогда я только радовался, что меня держали на расстоянии вытянутой руки. Да, государь обращался ко мне только по имени и на «ты», но не обсуждал со мной всех своих планов и затей. Я занимался только тем, что входило в круг моих компетенций как начальника Feldkanzelerei, и лишь радовался тому, что мне не нужно более обременять чем-то иным. Но времена менялись стремительно, и каждый день приносил что-то новое. Нужно было к сим изменениям приспосабливаться, иначе мне оставалось бы только ворчать, как старый дед, в гостиной моей матушки. Отмечу еще тот факт, что я искренне любил своего Государя и хотел принести ему пользу. А окружение Марии Федоровны видело в нем самое большее – мальчишку, не способного управиться с элементарными делами.
Итак, что же мне оставалось делать? Я отписался Армфельду, пребывавшему в Берлине, и тот ответил мне так: «Делать великие дела, потому как время для этого самое благоприятное». Далее он написал: «В благополучные времена многие предпочитают почивать на лаврах или же предаваться безделью, думая, что этого заслужили. И лишь в грозу жизни своей развивают активную деятельность. Но тогда зачастую слишком поздно что-то делать. Не трать время, проявляй себя, не дожидаясь бури… Я знаю, о чем пишу, ибо сам когда-то был праздным во времена затишья, растрачивая впустую драгоценные мгновения мира…»
Все на бумаге звучало отлично. Но как я мог быть полезен? Единственное решение – подружиться с «квартетом». Войти в их круг. Долгоруков этого бы мне вряд ли простил. Да и не думаю, что они встретили бы меня с распростертыми объятьями. Но спокойно взирать на то, как они смотрят на меня и на моих друзей, я более не мог. Тут либо откровенно ссориться с ними – со всеми последствиями – либо терпеть.
К тому же, то, чем они занимались, тоже было мне не чуждым. Так как свободного времени у меня стало поболее, чем раньше, я снова предался чтению разнообразных книг – как исторических, так и философских, какие мог достать. Даже завел себе тетрадь, в которую выписывал различные понравившиеся цитаты и любопытные мысли, которые хотелось бы развить. Я всегда был человеком практичным, поэтому в книгах искал то, что могло быть применено к реальной жизни и было бы созвучно с моим личным опытом. К тому же, я осознал в себе амбиции государственного деятеля. Не помню, в какой именно момент своей жизни я понял, что мне недостаточно просто служить государю и выполнять его приказания, с покорностью подчиняясь переменам, которые вносят в жизнь люди, обладающие истинной властью. Потому как, несмотря на все атрибуты высокого положения, знатность и богатство, я в реальности не обладал даже властью над собственной участью, не говоря о чем-то ином. События прошлого царствования, слишком отчетливо сохранившиеся в памяти, это со всей отчетливостью показали. Возможно, кстати, что стремительные преобразования, которые ознаменовали «дней Александровых прекрасное начало», как написал один талантливый поэт, были вызваны именно реакцией на тиранию убитого государя.
Я знаю, что проекты того времени, многие из которых никогда не были реализованы, приписывают исключительно «избранному квартету»: нашим «братьям Гракхам», Строганову и Новосильцеву, а также присоединившимся к ним польскому и малороссийскому магнатам. Понятно, что им было выгодно представить дело так, будто Негласный комитет оказался один против косного большинства, не понимающего и половины тех проблем, против которых они собирались бороться. Как представитель сего «большинства», скажу, что все было не совсем так. Конечно, имелись отдельные личности, которых приводил в шок простой факт, что мы собираемся ограничить (даже не отменить покамест) крепостную зависимость крестьянства и позволить получившим вольную рабам приобретать землю, которые называли тех, кто поддержал этот проект, «опаснейшими якобинцами. Будете смеяться, но в ту пору и ваш покорный слуга заслужил среди определенного круга единомышленников репутацию «вольнодумца», лишь только я заикнулся о необходимости как-то улучшить положение зависимых от меня людей. К счастью, большинство умных и просвещенных соотечественников поддержало мои взгляды.
Однако, что касается тех, кого я знал близко, моих ровесников, занимающих похожее положение при Дворе и в свете, то назвать их «стариками-консерваторами» было бы абсурдно. Каждый из нас хотел тоже стать сподвижником Государя, и некоторая неприязнь к «квартету» состояла именно в том, что они монополизировали место преобразователей. Князь Долгоруков предлагал в открытую воевать с ними, но я понимал, что этим мы только уроним себя в глазах императора и света. Пьер Волконский своего мнения на этот счет не имел и, в целом, поддерживал мое видение. Он-то мне и предложил составить проект о том, что меня волнует, и представить его на рассмотрение кому-нибудь из Негласного комитета. Поначалу я несколько возмутился. А если они присвоят мои труды себе? «Я не думаю, что они настолько бесчестны», – твердо проговорил князь в ответ на мои сомнения. – «Наоборот, кто-то из них тебя поддержит непременно».
«Но кто же?» – спросил я.
Мы тогда сидели у него на даче, которую он нанял недалеко от меня – место оказалось модным и все больше приближенных ко Двору людей нанимало там дома на лето или даже строилось – и глядели на закат. Мы только что вернулись с коронации, вдохновленные речами, произнесенными государем, и обдумывали, как нам применить себя в грядущем раю свободы, равенства и братства, обещанном нам.
Услышав мой вопрос, Волконский помедлил, затянувшись сигарой. Я и так был удивлен слышать от него подобные речи, весьма здравые и обдуманные. Честно говоря, доселе я полагал его глуповатым, – в основном, из-за немногословия и постоянного спокойствия, – разделяя распространенное заблуждение, будто бы молчаливый человек таков только потому, что ему нечего сказать.
После паузы, показавшейся мне затянувшейся, князь Петр произнес:
«Я бы на твоем месте первым обратился к графу Строганову».
«Он же… краснее красного», – тихо отвечал я, на миг усомнившись в здравомыслии своего друга.
Волконский улыбнулся.
«Был. В пятнадцать лет», – проговорил он тихо. – «Вспомни, кем ты был в том возрасте?»
Я вздохнул.
«Кем-кем? Большим идиотом».
«Как и все… Не знаю, что бы из меня выросло, додумайся мой папенька поручить мое образование гувернеру-якобинцу…»
«Про него говорили, будто бы он выдал королевскую семью Конвенту, когда они пытались сбежать», – неуверенно произнес он.
«Ты сам веришь в то, что от какого-то русского отрока могло столь многое зависеть?» – Пьер взглянул на меня весьма насмешливо, и я мигом устыдился всей абсурдности моих слов.
«Но почему именно он?»
«Как почему? Я бываю при государе чаще, чем ты, и могу тебе рассказать, почему», – есть у этого моего друга одна не самая приятная особенность – сей «prince de Pierre» становится весьма разговорчивым, стоит его подпоить как следует, и потому он чаще всего воздерживается от вина. Но в тот вечер он, видно, от усталости, выпил чуть больше обыкновенного, да и мне доверял, поэтому мог говорить свободно.
«Так вот», – продолжил он. – «Новосильцев – пьянь и дрянь, уж извини. Бастард – он и есть бастард. Князь Адам ненавидит всех русских, хоть и тщательно притворяется, что наш лучший друг. Ты, впрочем, можешь с ним попытать свое счастье, ибо у тебя не русское имя. Но я бы все равно не советовал… Вставит в спину кинжал тогда, когда ты этого не подозреваешь. Что касается Кочубея, то я покамест не понял, что он такое… Понял только, что он большой тихоня. А такие меня всегда настораживают»
«То есть, Строганова ты избрал методом исключения?» – усмехнулся я.
«Не совсем. Я вижу, как он общается с государем, со мной… Это искренний и откровенный человек. Если уж тебя невзлюбит, так ты узнаешь об этом первым. А дружбу его сможешь приобрести – так, значит, другом он и останется. Если не навсегда, то надолго».
Мне нечего было на это сказать.
«Кроме того, он единственный живет открытым домом. Ибо женат, а супруге его, как понимаешь, хочется видеть людей. Очень образованная женщина, признаться», – продолжал князь Петр.
«Ты у них бывал?» – спросил я.
«Не имел чести, увы», – развел он руками. – «Но если напросишься к ним в гости…»
«Что значит „напросишься“?» – мне тоже стоит быть более умеренным в выпивке, так как я мигом становлюсь злым и начинаю придираться к словам. Это, кстати, наследственное, поэтому со своими родными братьями я никогда не пью – поубиваем же друг друга.
«Извини. Я хотел сказать – если он тебя позовет», – поправился Волконский. – «Так вот, если граф Попо тебя пригласит к себе, то не забывай, что у него столуется Новосильцев. Большой повеса, если честно. Все переводит в шутку. Многие не понимают, за что его держат в „квартете“. Однако, когда он трезв и лишен привычных развлечений, граф Николай весьма деятелен. Кузен имеет на него большое влияние и может направить его кипучие силы в нужное русло».
«Ты боишься, что он меня споит?» – спросил я. – «Не бойся, и не с такими я дело имел».
«Попробуй тебя споить. Тут в другом дело. Как раз он и способен присвоить твои мысли и выдать их за свои. Так что осторожнее высказывайся в его присутствии, даже если он, как тебе покажется, на ногах не стоит. Я знаю такую породу. Они склонны притворяться глупее и беспорядоченнее, чем есть на самом деле. В их присутствии расслабляешься, а потом удивляешься, кто ж тебя эдак подвел…»
«Откуда ты все это знаешь?» – удивленно спросил я, несколько возмущенный тем, что князь Петр еще и учить меня вздумал.
«А я смотрю за всеми и пытаюсь понять, что они скрывают», – признался он. – «Надо же с пользой время проводить».
«Воистину», – вторил я, и далее мы заговорили на совсем иную тему.
…После этого разговора я действительно получил приглашение на ужин у графа Строганова. Понятия не имею, почему именно он обо мне вспомнил. Возможно, Волконский был достаточно близок к нему. На ужин была еще звана моя супруга, которая охотно приняла приглашение. Значит, ничего серьезного обсуждаться не должно было. Скорее всего, думал я, собираясь на soiree, нынешний визит – простое знакомство. Ко мне решили приглядываться. Что ж, приглашение следовало принять и к обоюдной пользе. Мне тоже были любопытны эти люди, которых я так мало знал, но про которых так много слышал (в основном, как понимаете, нелицеприятного).
Я не стану здесь описывать, как выглядел Строгановский дворец. Род моего приятеля относился к богатейшим в России, он полагал себя наследником миллионного состояния – впоследствии, спустя 10 лет, выяснилось, что долги, оставленные графом Попо от отца, перевешивают все богатства, и, соответственно, роскошь была неимоверная. Доротея откровенно озиралась, запоминая убранство интерьера – она как раз затеяла полностью переделать наше жилище с учетом новых вкусов и положения, поэтому всегда присматривалась к красивым вещам, увиденным где-то. Что ж, особняк Строгановых мог стать источником вдохновения для любого, ценящего толк в красивом убранстве. Не буду всего описывать, но упомяну, что в ту пору я еще только вырабатывал в себе привычку к роскошному образу жизни. Выработал-таки, и этого не отнять. Оказалось, что у меня и вкус имеется, а он часто отсутствует у тех, кто вырос, как я, в бедности. Обычно бедняки, резко разбогатев, покупают все, что выглядит явно дорогим
Помимо графини Софьи Владимировны, красота которой была равна ее блестящему уму, и, собственно, хозяина дома, молодого человека моих лет и счастливой наружности, присутствовал тот самый Николай Новосильцев, про которого предупреждал меня князь Петр. Он преувеличенно – более графа Павла – обрадовался моему явлению, из чего я сделал вывод, возможно, несколько поспешный, о том, что именно он стал инициатором моего приглашения.
…Вы, возможно, слышали о Новосильцеве как о жестоком наместнике Польши. И впрямь, большего ненавистника поляков тяжело было сыскать. Мы с Алексом это тоже обсудили, и мой beau-frere проговорил, что сам указал государю на сию кандидатуру. Я заметил, что сие решение не слишком мудро.
Новосильцев мог бы быть послом в Лондоне вместо меня. Тогда на него все общественное мнение указывало. Мол, человек прожил там несколько лет, посещал выступления Парламента, знает лично немало людей из тамошнего establishment’а, а кто таков сей Ливен? Марионетка, простой офицер без собственного мнения, без связей и знакомств – не более того. Я и сам, признаюсь, удивлялся, почему при выборе подходящего кандидата для столь высокого и ответственного дипломатического поста отдали предпочтение именно мне. Возможно, результаты моей деятельности в Пруссии государя впечатлили, вопреки моим ожиданиям. Возможно, мне доверяли в ту пору больше, чем графу Николаю. В любом случае, нынче на моем месте сложно представить кого-либо другого, а тем более, Новосильцева.
Но тогда, разумеется, никто из нас не знал, как в дальнейшем будут развиваться наши судьбы и карьеры.
Не буду передавать всех застольных бесед, потому что в начале они не заключали в себе ничего серьезного. Обычный обмен светскими новостями, разговоры о том, что дают в театре, о последних новинках литературы и музыки (здесь я постыдно замолк, но Дотти мигом вспомнила названия всех романов и фортепианных пиес, которые выписывала по почте, сумев оживить table-talk). О политике речь не шла. Всякий раз, когда беседа выворачивала на государя, Двор, военные действия или на заграничные дела, мои хозяева как-то умолкали и переводили разговоры на куда более невинные темы. По наивности я счел, что Новосильцев и Строганов так поступают для удобства присутствующих дам. Однако графиня Софья могла превосходно поддержать разговоры отнюдь не только о кружевах, французских романах и сочинениях Чимарозы. Я невольно был зачарован ее изложением, ее манерами и умением держать себя в обществе. Она сочетала в себе все лучшее, что я до этого видел в светских дамах. Я полагал Строганова счастливцем и, признаться, досадовал на то, что Доротея, в силу своей тогдашней молодости, а также быстро завершившегося формального образования, не сравнится с ней.
Теперь, вспоминая об этом, я смеюсь: Дотти переплюнула графиню Строганову, да и многих других, став настоящей salonniere во всем. Пусть, возможно, она не столь начитана и просвещенна. Ее сила в ином. И предназначение ее немного иное.
К тому же, что она, что я прекрасно знаем: когда принимаешь важных гостей, от мнения которых может зависеть удача вашего предприятия, ни в коем случае не следует сразу же переходить к делу. Нужно хотя бы полчаса занимать их пустой болтовней, обязательно чем-нибудь вкусным кормить и чем-нибудь качественным поить, и только потом, если важный гость того возжелает, переходить к делу. Главное, опять же, в этом не переборщить, особенно когда имеешь дело с англичанами. Те твердо верят, что time is money, посему только злятся, если их настойчиво отвлекать от цели визита. Всегда необходимо знать золотую середину. Ранее я был склонен немедленно обсуждать дела, чтобы не терять лишнего времени, и даже полагал это особого рода тактикой – не давать времени на уловки, принудить говорить истину, и но с годами становлюсь все более неспешен.
Что ж, Строганов и Новосильцев знали это золотое правило, поэтому вечер всё тянулся, а к сути моего визита мы не приступали. Под конец, оставив дам развлекаться, мы прошли в малую гостиную. Меня усадили на диван, предложили на выбор несколько трубок и сортов табака. Мой выбор Новосильцева, признаться, весьма удивил.
«Но это же самый крепкий, какой есть», – проговорил он изумленно. – «Неужто вы такое предпочитаете?»
«Это не самый крепкий», – разуверил я его. – «Но мне такой весьма нравится».
За мной ухаживали, как за барышней, предупреждая все мои желания, отчего я чувствовал себя неловко. «Что они от меня хотят?» – постоянно вертелось в моей голове.
«Скажите, как поживает ваш друг Долгоруков?» – любезно поинтересовался у меня Строганов.
«Уже более месяца как я его не вижу. Он, как вы, вероятно, уже знаете, в отъезде», – отвечал я немного досадливым тоном.
«Вчера государь получил от него реляцию. Как я вижу, он времени не теряет», – произнес Новосильцев, подливая нам всем вина. Я почти не притрагивался к напитку, но и он, несмотря на свою репутацию запойного пьяницы, покамест не пил. Очевидно, терять концентрацию ему было не с руки нынче.
«Я только завидую этому его качеству», – подхватил его кузен Поль. – «Быстроте и умению угадывать момент».
«Да, этого у него не отнимешь», – подтвердил я, чуть не сказав: «Знаете ли, если вам так надобен князь Долгоруков, то дождитесь его возвращения и пригласите сюда уже его. Причем здесь я».
«А знаете, что самое интересное, Ваше Сиятельство?» – любезно проговорил граф Николай, не отводя от меня пытливого взгляда своих черных глаз. – «По итогам сей ревизии государь жалует графа Беннигсена полным генералом. Неплохо так, да?».
Новость должна была для меня что-то значить, поэтому и произнесена была подобным тоном. Но я промолчал, не до конца поняв, каким образом все это связано со мной.
«Как полагаете, действительно ли дела в Литве обстоят так, как описывает про то князь?» – снова задал каверзный вопрос Новосильцев. Его кузен помалкивал и казался безучастным. Я даже подумал, будто граф Павел хотел нас покинуть, присоединиться к дамам, и только некий долг удерживал его в нашей компании.
Я пожал плечами. Откуда ж мне такое знать? В Литве я не бывал, с Беннигсеном особо не знаком, он мне всегда был неприятен.
«А вот князь Чарторыйский утверждает, что там все далеко не так радужно», – продолжал наседать на меня Новосильцев.
«И вы полагаете, будто князь Долгоруков врет», – произнес я твердо.
Мои простые слова вызвали подобие паники на самоуверенном лице графа Николая. Казалось, он не ожидал от меня них. Строганов тоже посмотрел на меня взволнованно. Было понятно, что последнему разговор неприятен. Он даже бросил выразительный взгляд на своего кузена и проговорил тихо:
«Ну причем тут оно, Ники?»
«Врет» – чересчур резко сказано», – уклончиво улыбнулся мой собеседник. – «Скорее, видит не всю правду. Но что ж, похоже, что Беннигсену везет. В отличие от всех остальных».
«Вам тоже весьма везет», – произнес я ровно с такой же улыбкой.
Строганов вновь взглянул на меня с каким-то даже суеверным ужасом. Я ломал все их представления о том, как должен был вести себя с ними, прекрасно это сознавал и даже был немного город собой.
Повисла пауза, после которой граф Павел сказал, побледнев (в этом у нас имелась схожесть – он вообще отличался склонностью бледнеть от волнения и гнева; обычно люди, испытывая подобные чувства, багровеют):
«Mon cher cousin, прошу тебя, дай нам час поговорить с графом наедине».
Новосильцев оскорбленно взглянул на него и произнес:
«Ладно, поступай, как знаешь».
Затем он удалился из комнаты, громко закрыв за собой дверь. Я подумал было, что обзавелся в его лице очередным недоброжелателем, а то и врагом.
«Прошу прощения», – искренно проговорил Строганов.
«Я вовсе не обижен, право слово», – напустив в голос притворного изумления, отвечал я.
«Так вы и впрямь полагаете, будто мы стали приближены к государю лишь благодаря удаче?» – спросил мой собеседник, и в голосе его не послышалось ни ерничания, ни усмешки. Ему действительно было важно знать мое мнение. Такая прямота меня подкупила, и я снова вознес мысленные хвалы Пьеру Волконскому за прозорливость.
«Почему ж? Государь приблизил к себе достойных и просвещенных», – произнес я, стараясь, чтобы в моем голосе не звучало ни намека на зависть или досаду. – «И не в моих правилах оспаривать его выбор приближенных».
«Но ведь и вы всегда являлись таким приближенным».
«У нас с вами разные задачи», – я уже докуривал сигару, и обратил внимание на то, что хозяин дома не курил. И ничего не пил. И вообще держался так, словно это он у меня в гостях, а не наоборот, и должен уже скоро меня покинуть.
«Напротив», – горячо ответил граф Поль. – «Я полагаю, что нечего разделяться на партии и группировки, когда нам предстоит пережить большие изменения. Чем больше будет раздоров и партий, тем медленнее будет продвигаться наше дело».
«Но недоброжелатели того и желают», – дополнил его я.
«Да, в том-то и дело!» – воскликнул Строганов. Его голубые глаза зажглись ясным огнем, и от него теперь сложно было отвести глаз. – «Я могу понять, когда нас не любят люди пожилые, привыкшие к совсем иным порядкам. Или когда против нас выступают невежды, едва обученные грамоте. Но я совершенно теряюсь, сталкиваясь с противостоянием тех, кто должен был быть за нас».