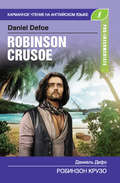Даниэль Дефо
Робинзон Крузо
Я зарядил все мои пушки (как назвал я мушкеты, стоявшие у меня на лафетах вдоль наружной стены) и все пистолеты и решил защищаться до последнего вздоха. В этом положении я пробыл два часа, не получая никаких вестей извне, так как у меня не было лазутчиков, которых я бы мог послать на разведку.
Просидев еще несколько времени и истощив свое воображение, я не в силах был выносить долее неизвестность и полез на гору тем способом, который был описан выше, т. е. при помощи лестницы, приставляя ее к уступу горы, спускавшейся в мою сторону. Добравшись до самой вершины, я вынул из кармана подзорную трубу, которую захватил с собой, лег брюхом на землю и, направив трубу на то место берега, где я видел огонь, стал смотреть. Я увидел человек десять голых дикарей, сидевших кружком подле костра. Конечно, костер они развели не для того, чтоб погреться, так как стояли страшные жары, а, вероятно, Затем, чтобы состряпать свой варварский обед из человечьего мяса. Дичина, наверно, была уже заготовлена, но живая или убитая – я не знал.
Дикари приехали в двух лодках, которые теперь лежали на берегу: было время отлива, и они, видимо, дожидались прилива, чтобы пуститься в обратный путь. Вы не можете себе представить, в какое смятение повергло меня это зрелище, а главное то, что они высадились на моей стороне острова, так близко от моего жилья. Впрочем, потом я немного успокоился, сообразив, что, вероятно, они всегда приезжают во время прилива и что, следовательно, во все время прилива я смело могу выходить, если только они не высадились до его начала. Это наблюдение успокоило меня, и я, как ни в чем не бывало, продолжал уборку урожая.
Как я ожидал, так и вышло: лишь только начался прилив, дикари сели в лодки и отчалили. Я забыл сказать, что за час или за полтора до отъезда они плясали на берегу: я ясно различал в трубку их странные телодвижения и прыжки. Я видел также, что все они были нагишом, но были ли то мужчины или женщины – не мог разобрать.
Как только они отчалили, я спустился с горы, вскинул на плечи оба свои ружья, заткнул за пояс два пистолета, тесак без ножен и, не теряя времени, отправился к тому холму, откуда открыл первые признаки этих людей. Добравшись туда (что заняло не менее двух часов времени, так как я был навьючен тяжелым оружием и не мог итти скоро), я взглянул в сторону моря и увидел еще три лодки с дикарями, направлявшиеся от острова к материку.
Это открытие подействовало на меня удручающим образом, особенно когда, спустившись к берегу, я увидел остатки только что справлявшегося там ужасного пиршества: кровь, кости и куски человеческого мяса, которое эти звери пожрали с легким сердцем, танцуя и веселясь. Меня охватило такое негодование при виде этой картины, что я снова стал обдумывать план уничтожения первой же партии этих варваров, которую я увижу на берегу, как бы ни была она многочисленна.
Не подлежало, однако, сомнению, что дикари посещают мой остров очень редко: прошло пятнадцать слишком месяцев со дня последнего их визита, и за все это время я не видел на их самих, ни свежих следов человеческих ног, вообще ничего такого, что бы указывало на недавнее их присутствие на берегу. В дождливый же сезон они наверно совсем не бывали на моем острове, так как, вероятно, не отваживались выходить из дому, по крайней мере, так далеко. Тем не менее все эти пятнадцать месяцев я не знал покоя, ежеминутно ожидая, что ко мне нагрянут незваные гости и нападут на меня врасплох. Отсюда я заключаю, что ожидание зла несравненно хуже самого зла. особенно когда этому ожиданию и этим страхам не предвидится конца.
Все это время я был в самом кровожадном настроении и все свои свободные часы (которые, к слову сказать, я мог бы употребить с гораздо большей пользой) придумывал, как бы мне напасть на них врасплох в ближайший же их приезд, особенно, если они опять разделятся на две партии, как это было в последний раз. Но я упустил из виду, что, если я перебью всю первую партию, положим, в десять или двенадцать человек, мне на другой день или через неделю или, может быть, через месяц придется иметь дело с новой партией, а там опять с новой, и так без конца, пока я сам не превращусь в такого же, если не худшего, убийцу, как эти дикари-людоеды.
Мои дни проходили теперь в вечной тревоге. Я был уверен, что рано или поздно мне не миновать лап этих безжалостных зверей, и, когда какое нибудь неотложное дело выгоняло меня из моей норы, я совершал свой путь с величайшими предосторожностями и поминутно озирался кругом. Вот когда я оценил удобство иметь домашний скот: моя мысль держать коз в загонах была поистине счастливая мысль. Стрелять я не смел, особенно в той стороне острова, где обыкновенно высаживались дикари: я боялся всполошить их своими выстрелами, потому что если бы они на этот раз убежали от меня, то, наверное, явились бы снова через несколько дней уже на двухстах или трехстах лодках, и я знал, что меня тогда ожидало.
Но, как уже сказано, только через год и три месяца я снова увидел дикарей, о чем я вскоре расскажу. Возможно, впрочем, что дикари не раз побывали на острове в течение этого года, но должно быть они никогда не оставались надолго, во всяком случае я их не видел; но в мае двадцать четвертого года моего пребывания на острове (как выходило по моим вычислениям) у меня произошла замечательная встреча с ними, о чем в своем месте.
Не могу выразить, каким тревожным временем были для меня эти пятнадцать месяцев. Я плохо спал, каждую ночь видел страшные сны и часто вскакивал, проснувшись в испуге. Иногда мне снилось, что я убиваю дикарей и придумываю оправдания для этой расправы. Я и днем не знал ни минуты покоя. Но оставим на время эту тему.
В середине мая, а именно 16-го, если верить моему жалкому деревянному календарю, на котором я продолжал отмечать числа, с утра до вечера бушевала сильная буря с грозой, и день сменился такою же бурною ночью. Я читал библию, погруженный в серьезные мысли о своем тогдашнем положении. Вдруг я услышал пушечный выстрел и, как мне показалось, со стороны моря.
Я вздрогнул от неожиданности; но эта неожиданность не имела ничего общего с теми сюрпризами, которые судьба посылала мне до сих пор. Нового рода были и мысли, пробужденные во мне этим выстрелом. Боясь потерять хотя бы секунду драгоценного времени, я сорвался с места, мигом приставил лестницу к уступу горы и стал карабкаться наверх. Как раз в тот момент, когда я взобрался на вершину, передо мной блеснул огонек выстрела, в через полминуты раздался второй пушечный выстрел. По направлению звука я без труда различил, что стреляют в той части моря, куда когда то меня угнало течением вместе с моей лодкой.
Я догадался, что это какой нибудь погибающий корабль подает сигналы о своем бедственном положении, и что невдалеке находится другой корабль, к которому он взывает о помощи. Несмотря на все свое волнение я сохранил присутствие духа и успел сообразить, что, если я не могу выручить из беды этих людей, зато они, может быть, меня выручат. Не теряя времени, я собрал весь валежник, какой нашелся поблизости, сложил его в кучу и зажег. Сухое дерево сразу занялось, несмотря на сильный ветер, и так хорошо разгорелось, что с корабля, – если только это действительно был корабль, – не могли не заметить моего костра. И он был, несомненно, замечен, потому что, как только вспыхнуло пламя, раздался новый пушечный выстрел, потом еще и еще, все с той же стороны. Я поддерживал костер всю ночь до рассвета, а когда совсем рассвело и небо прояснилось, я увидел в море, с восточной стороны острова, но очень далеко от берега, не то парус, не то кузов корабля, – я не мог разобрать даже в подзорную трубу из-за тумана, который на море еще не совсем рассеялся.
Весь день я наблюдал за видневшимся в море предметом и вскоре убедился, что он неподвижен. Я заключил отсюда, что это стоящий на якоре корабль. Легко представить, как не терпелось мне удостовериться в правильности моей догадки; я схватил ружье и побежал на юго-восточный берег к скалам, у которых я когда-то был унесен течением. Погода между тем совершенно прояснилась, и, придя туда, я, к великому моему огорчению, отчетливо увидел кузов корабля, наскочившего ночью на подводные рифы, которые я заметил во время путешествия в лодке; так как эти рифы преграждали путь морскому течению и порождали как бы встречное течение, то я обязан избавлением от самой страшной опасности, которой я когда либо подвергался за всю свою жизнь.
Таким образом то, что является спасением для одного, губит другого. Должно быть эти люди, кто б они ни были, не зная о существовании рифов, совсем закрытых водой, наскочили на них ночью благодаря сильному в.-с.-в. ветру. Если бы на корабле заметили остров (а, я думаю, его едва ли заметили), то спустили бы шлюпки и попытались бы добраться до берега. Но то обстоятельство, что там палили из пушек, особенно после того, как я зажег свой костер, породило во мне множество предположений: то я воображал, что, увидев мой костер, они сели в шлюпку и стали грести к берегу, но не могли выгрести из за волнения и потонули, то мне казалось, что они лишились всех своих шлюпок еще до момента крушения, что могло случиться вследствие многих причин: например, при сильном волнении, когда судно зарывается в воду, очень часто приходится выбрасывать за борт или ломать шлюпки. Возможно было и то, что погибший корабль был лишь одним из двух или нескольких судов, следовавших по одному направлению, и что, услыхав сигнальные выстрелы, эти последние корабли подобрали всех бывших на нем людей. Наконец, могло случиться и так, что, опустившись в шлюпку, экипаж корабля попал в упомянутое выше течение и был унесен в открытое море на верную смерть и что теперь эти несчастные умирают от голода и готовы съесть друг друга.
Так как все это были простые догадки, то в моем положении я мог только пожалеть несчастных. Благотворной для меня стороной этого печального происшествия было то, что оно послужило лишним поводом возблагодарить провидение, которое так неусыпно заботилось обо мне, покинутом и одиноком, и определило так, что из экипажей двух кораблей, разбитых у этих берегов, не спаслось ни души, кроме меня. Я получил, таким образом, новое подтверждение того; что, несмотря на всю бедственность и ужас нашего положения, в нем всегда найдется за что поблагодарить провидение, если мы сравним его с положением еще более ужасным.
А каково именно было, по всей вероятности, положение экипажа разбившегося корабля; трудно было допустить, чтобы кому нибудь из людей удалось спастись в такую страшную бурю, если только их не подобрало другое судно, находившееся поблизости. Но ведь это была лишь возможность, да и то очень слабая; по крайней мере, никаких следов другого корабля я не видел.
Где я найду слова, чтобы передать ту страстную тоску, те горячие желания, которые овладели мной, когда я увидел корабль. С моих губ помимо моей воли беспрестанно слетали слова: «Ах, если бы хоть два или три человека… нет, хоть бы один из них спасся и приплыл ко мне! Тогда у меня был бы товарищ, был бы живой человек, с которым я мог бы разговаривать». Ни разу за все долгие годы моей отшельнической жизни не испытал я такой настоятельной потребности в обществе людей и ни разу не почувствовал так больно своего одиночества.
Есть тайные пружины страстных влечений, которые, будучи приведены в движение каким либо видимым предметом или же предметом, хотя бы и невидимым, но оживленным в нашем сознании силой воображения, увлекают душу к этому предмету с такой неистовой силой, что его отсутствие становится невыносимым.
Таким именно было мое горячее желание, чтобы хоть один человек из экипажа разбившегося корабля спасся. «Ах, хоть бы один! Хоть бы один!» Я повторял эти слова тысячу раз. И желание мое было так сильно, что, произнося их, я судорожно сжимал руки, и пальцы мои вонзались в ладони, так что, находись у меня там мягкий предмет, я невольно раздавил бы его; и я так крепко стискивал зубы, что потом не сразу мог разжать их.
Пускай ученые доискиваются причины этого рода явлений, я же только описываю факт, который так поразил меня, когда я его обнаружил. Но хоть я не берусь объяснить его происхождение, все же он был, несомненно, результатом страстного желания и нарисованных моим воображением картин счастья, которое сулила мне встреча с кем либо из моих братьев-христиан.
Но надо мной или тяготел злой рок, или же люди, что плыли на разбившемся корабле, были обречены на погибель, только мне не суждено было тогда изведать это счастье. Так до последнего года моего житья на острове я и не узнал, спасся ли кто нибудь с погибшего корабля. Я только сделал через несколько дней одно печальное открытие: нашел на берегу против того места, где разбился корабль, труп утонувшего юнги. На нем были короткие холщевые штаны, синяя холщовая же рубаха и матросская куртка. Ни по каким признакам нельзя были определить его национальность; в карманах у него не оказалось ничего, кроме двух золотых монет да трубки, и, разумеется, последней находке я обрадовался гораздо больше, чем первой.
После бури наступил полный штиль, и мне очень хотелось попробовать добраться в лодке до корабля. Я был уверен, что найду там много такого, что может мне пригодиться; но собственно не это прельщало меня, а надежда, что может быть на корабле осталось какое нибудь живое существо, которое я могу спасти от смерти и таким образом, скрасить свою печальную жизнь. Эта мысль овладела всей моей душой: я чувствовал, что ни днем, ни ночью не буду знать покоя, пока не попытаюсь добраться в лодке до корабля, положившись на волю божию. Импульс, увлекавший меня, был так силен, что я не мог противиться, принял его за указание свыше и чувствовал бы угрызение совести, если бы не исполнил его.
Под влиянием этого импульса я поспешил вернуться в свой замок и стал готовиться к поездке. Я взял хлеба, большой кувшин пресной воды, компас, бутылку рому (которого у меня оставался еще изрядный запас), корзину с изюмом и, навьючив на себя всю эту кладь, отправился к своей лодке, выкачал из нее воду, спустил в море, сложил в нее все, что принес, и вернулся домой за новым грузом. На этот раз я взял большой мешок рису, второй большой кувшин с пресной водой, десятка два небольших ячменных ковриг, или, вернее, лепешек, бутылку козьего молока, кусок сыру и зонтик, который должен был служить мне тентом. Все это я с великим трудом, – в поте лица моего, можно сказать, – перетащил в лодку и, помолившись богу, чтобы он направил мой путь, отчалил. Стараясь держаться поближе к берегу, я прошел на веслах все расстояние до северо-восточной оконечности острова. Отсюда мне предстояло пуститься в открытое море. Рисок был большой. Итти или нет? Я взглянул на быструю струю морского течения, огибавшего остров на некотором расстоянии от берега, вспомнил свою первую экскурсию, вспомнил, какой страшной опасности я тогда подвергался, и решимость начала мне изменять: я знал, что, если я попаду в струю течения, меня унесет далеко от берега и я могу даже потерять из виду мой островок; а тогда стоит подняться свежему ветру, чтобы мою лодченку залило водой.
Эти мысли так меня обескуражили, что я готов был отказаться от своего предприятия. Я причалил к берегу в маленькой бухточке, вышел из лодки и сел на пригорок, раздираемый желанием побывать на корабле и страхом перед опасностями, меня ожидающими. В то время, как я был погружен в свои размышления, на море начался прилив, и волей неволей я должен был отложить свое путешествие на несколько часов. Тогда мне пришло в голову, что хорошо бы воспользоваться этим временем и, забравшись на какое нибудь высокое место, удостовериться, как направляется течение при приливе и нельзя ли будет воспользоваться этим течением на обратном пути с корабля на остров. Не успел я это подумать, как увидал невдалеке горку, невысокую, но на открытом месте, так что с нее должно было быть видно море, по обе стороны острова и направление течений. Поднявшись на эту горку, я не замедлил убедиться, что течение отлива идет с южной стороны острова, а течение прилива – с северной стороны и что, следовательно, при возвращении с корабля мне нужно будет держать курс на север острова, и я доберусь до берега вполне благополучно.
Ободренный этим открытием, я решил пуститься в путь на следующее же утро, как только начнется отлив. Переночевал я в лодке, укрывшись упомянутой матросской шинелью, а на утро вышел в море. Сначала я взял курс прямо на север и шел этим курсом, пока не попал в струю течения, направлявшегося на восток. Меня понесло очень быстро, но все же не с такой быстротой, с какой несло меня южное течение в первую мою поездку. Тогда я совершенно не мог управлять лодкой, теперь же свободно действовал рулевым веслом и несся прямо к кораблю. Я добрался до него менее чем через два часа.
Грустное зрелище открылось мне: корабль (по типу – испанский) застрял между двух утесов. Вся корма была снесена; грот и фок-мачту срезало до основания, но бушприт и вообще носовая часть уцелела. Когда я подошел к борту, на палубе показалась собака. Увидев меня, она принялась выть и визжать, а когда я поманил ее, спрыгнула в воду и подплыла ко мне. Я взял ее в лодку. Бедное животное буквально умирало от голода. Я дал ей хлеба, и она набросилась на него, как наголодавшийся за зиму волк. Когда она наелась, я поставил перед ней воду, и она стала так жадно лакать, что наверное лопнула бы, если бы дать ей волю.
Затем я поднялся на корабль. Первое, что я там увидел, были два трупа; они лежали у входа в рубку, крепко сцепившись руками. По всей вероятности, когда корабль наскочил на камень, его все время обдавало водой, так как была сильная буря, и весь экипаж захлебнулся, как если бы он пошел на дно. Кроме собаки, на корабле не было ни одного живого существа, и все оставшиеся на нем товары подмокли. Я видел в трюме какие то бочонки, с вином или с водкой – не знаю, но они были так велики, что я не пытался их достать. Было там еще несколько сундуков, должно быть принадлежавших матросам; два сундука я переправил на лодку, не открывая.
Если бы вместо носовой части уцелела корма, я бы, наверно, воротился с богатой добычей: по крайней мере, судя по содержимому двух взятых мною сундуков, можно было предположить, что корабль вез очень ценные вещи. Вероятно, он шел из Буэнос-Айреса или Рио-де-ла-Платы мимо берегов Бразилии в Гаванну или вообще в Мексиканский залив, а оттуда в Испанию. Несомненно, на нем были большие богатства, но в этот момент никому от них не было проку, а что сталось с людьми, я тогда не знал.
Кроме сундуков, я взял еще боченок с каким то спиртным напитком. Боченок был небольшой – около двадцати галлонов вместимостью, – но все-таки мне стоило большого труда перетащить его в лодку. В каюте я нашел несколько мушкетов и фунта четыре пороху в пороховнице; мушкеты я оставил, так как они были мне не нужны, а порох взял. Я взял также лопаточку для угля и каминные щипцы, в которых очень нуждался, – затем два медных котелка, медный кофейник и рашпер. Со всем этим грузом и собакой я отчалил от корабля, так как уже начинался прилив, и в тот же день к часу ночи вернулся на остров, изможденный до последней степени.
Я провел ночь в лодке, а утром решил перенести свою добычу в новый грот, чтобы не тащить ее к себе в крепость. Подкрепившись едой, я выгрузил на берег привезенные вещи и произвел им подробный осмотр. В боченке оказался ром, но, говоря откровенно, весьма неважный, совсем не такой, как тот, что был у нас в Бразилии; зато в сундуках я нашел много полезных вещей, например: изящной работы погребец, уставленный бутылками какой то особенной формы, с серебряными пробками (в каждой бутылке было до трех пинт очень хорошего ликеру); затем две банки отличного варенья, так плотно закупоренных, что в них не попало ни капли морской воды, и еще две банки, содержимое которых подмокло. В том же сундуке лежало несколько штук совсем еще крепких рубах, которые были для меня очень приятной находкой; затем около полуторы дюжины белых полотняных носовых платков и столько же цветных шейных; первым я очень обрадовался, представив себе, как будет приятно в жаркие дни утирать вспотевшее лицо тонким полотном. На дне сундука я нашел три больших мешка с деньгами; всего в трех мешках было тысяча сто пиастров, а в одном оказалось еще шесть золотых дублонов, завернутых в бумагу, и несколько небольших слитков золота весом, я думаю, около фунта.
В другом сундуке было несколько пар платья, но поплоше. Вообще, судя по содержимому этого сундука, я полагаю, что он принадлежал корабельному канониру: в нем оказалось около двух фунтов прекрасного пороху в трех пузырьках, должно быть для охотничьих ружей. В общем в эту поездку я приобрел очень немного полезных мне вещей. Деньги же не представляли для меня никакой ценности, это был ненужный сор, и все свое золото я бы охотно отдал за три, за четыре пары английских башмаков и чулок, которых я не носил уже несколько лет. Правда, я раздобыл четыре пары башмаков за эту поездку: две пары снял с двух мертвецов, которых нашел на корабле, да две оказались в одном из сундуков. Конечно, башмаки пришлись мне очень кстати, но ни по удобству, ни по прочности они не могли сравниться с английской обувью: это были скорее туфли, чем башмаки. Во втором сундуке я нашел еще пятьдесят штук разной монеты, но не золотой. Вероятно, первый сундук принадлежал офицеру, а второй – человеку победнее.
Тем не менее я принес эти деньги в пещеру а спрятал, как раньше спрятал те, которые нашел на нашем корабле. Было очень жаль, что я не мог завладеть богатствами, содержавшимися в корме погибшего корабля: наверное, я мог бы нагрузить ими лодку несколько раз. Если бы мне удалось вырваться отсюда в Англию, деньги остались бы в сохранности в гроте и, вернувшись, я захватил бы их.
Переправив в мой грот все привезенные вещи, я воротился на лодку, отвел ее на прежнюю стоянку и вытащил на берег, а сам отправился прямой дорогой на свое старое пепелище, где все оказалось в полной неприкосновенности. Я снова зажил своей прежней мирной жизнью, справляя помаленьку свои домашние дела. Но, как уже знает читатель, в последние годы я был осторожнее, чаще производил рекогносцировку и реже выходил из дому. Только восточная сторона острова не внушала мне опасений: я знал, что дикари никогда не высаживаются на том берегу; поэтому, отравляясь в ту сторону, я мог не принимать таких предосторожностей и не тащить на себе столько оружия, как в тех случаях, когда мой путь лежал в одну из других частей острова.
Так прожил я почти два года, но все эти два года в моей несчастной голове (видно, уж так она была устроена, что от нее всегда плохо приходилось моему телу) копошились всевозможные планы, как бы мне бежать с моего острова. Иногда я решал предпринять новую экскурсию к обломкам погибшего корабля, хотя рассудок говорил мае, что там не могло остаться ничего такого, что окупило бы риск моей поездки; иногда затевал другие поездки. И я убежден, что, будь в моем распоряжении такой баркас, как тот, на котором я бежал из Салеха, я пустился бы в море очертя голову, даже не заботясь о том, куда меня занесет. Все обстоятельства моей жизни могут служить предостережением для тех, кого коснулась страшная язва рода людского, от которой, насколько мне известно, проистекает половина всех наших бед: я разумею недовольство положением, в которое поставили нас бог и природа. Так, не говоря уже о моем неповиновении родительской воле, бывшем, так сказать, моим первородным грехом, я в последующие годы шел той же дорогой, которая и привела к моему теперешнему печальному положению. Если б судьба, так хорошо устроившая меня в Бразилии, наделила меня более скромными желаниями и я довольствовался медленным ростом моего благосостояния, то за это время – я имею в виду время, которое я прожил на острове – я сделался бы может быть, одним из самых крупных бразильских плантаторов. Я убежден, что при тех улучшениях, которые я уже успел двести за недолгий срок моего хозяйничанья и которые я еще ввел бы со временем, я нажил бы тысяч сто мойдоров. Нужно ли мне было бросать налаженное дело, благоустроенную плантацию, которая с каждым годом разрасталась и приносила все больший и больший доход, ради того, чтобы ехать в Гвинею за неграми, между тем как при некотором терпении я дождался бы времени, когда наши местные негры расплодились бы, и я мог бы покупать их у рабопромышленников, не трогаясь с места? Правда, это обходилось бы немного дороже, но стоило ли из за небольшой разницы в цене подвергаться такому страшному риску?
Но, видно, глупить – удел молодежи, как удел людей зрелого возраста, умудренных дорого купленным опытом – осуждать безрассудства молодежи. Так было и со мной. Однако, недовольство своим положением так глубоко укоренилось во мне, что я непрестанно измышлял планы бегства из этого пустынного места. Переходя теперь к изложению последней части моего пребывания на необитаемом острове, я считаю нелишним рассказать читателю, в какой форме у меня впервые зародилась эта безумная затея и что я предпринял для ее осуществления.
Итак, после поездки к обломкам погибшего корабля я вернулся в свою крепость, поставил, как всегда, свой фрегат в безопасное место и зажил по старому. Правда, у меня было теперь больше денег, но я не стал от этого богаче, ибо деньги в моем положении были мне так же мало нужны, как перуанским индейцам до вторжения в Перу испанцев.
Однажды ночью, в мартовский период дождей, на двадцать четвертом году своей отшельнической жизни, я лежал в своем гамаке, совершенно здоровый, не угнетаемый мрачными мыслями, в отличном самочувствии, но не мог сомкнуть глаз ни на минуту.
Невозможно, да нет и надобности перечислять все мои мысли, вихрем мчавшиеся в ту ночь по большой дороге мозга – памяти. Перед моим умственным взором прошла, если можно так выразиться, в миниатюре вся моя жизнь до и после прибытия моего на необитаемый остров. Припоминая шаг за шагом весь этот второй период моей жизни, я сравнивал мои первые безмятежные годы с тем состоянием тревоги, страха и грызущей заботы, в котором я жил с того дня, как открыл след человеческой ноги на песке. Не то, чтоб я воображал, что до моего открытия дикари не появлялись в пределах моего царства: весьма возможно, что и в первые годы моего житья на острове их перебывало там несколько сот человек. Но в то время я этого не знал, никакие страхи не нарушали моего душевного равновесия, я был покоен и счастлив, потому что не сознавал опасности, и хотя от этого она была, конечно, не менее велика, но для меня ее все равно что не существовало. Эта мысль навела меня на дальнейшие поучительные размышления о бесконечной благости провидения, в своих заботах о нас положившего столь узкие пределы нашему знанию. Совершая свой жизненный путь среди неисчислимых опасностей, вид которых, если бы был доступен нам, поверг бы в трепет нашу душу и отнял бы у нас всякое мужество, мы остаемся спокойными потому, что окружающее сокрыто от наших глаз и мы не видим отовсюду надвигающихся на нас бед.
От этих размышлений я естественно перешел к воспоминанию о том, какой опасности я подвергался на моем острове в течение стольких лет, как беззаботно я разгуливал по своим владениям и сколько раз может быть лишь какой нибудь холм, ствол дерева, наступление ночи или другая случайность спасали меня от худшей из смертей, от дикарей-людоедов, для которых я был бы такою же дичью, как для меня коза или черепаха, и которые убили и съели бы меня так же просто, нисколько не считая, что они совершают преступление, как я убил бы голубя или кулика. Я был бы несправедлив к себе, если бы не сказал, что сердце мое при этой мысли наполнилось самой искренней благодарностью к моему великому покровителю. С великим смирением я признал, что своей безопасностью я был обязан исключительно его защите, без которой мне бы не миновать зубов безжалостных людоедов.
Затем мои мысли приняли новое направление. Я начал думать о каннибализме, стараясь уяснить себе это явление. Я спрашивал себя, как мог допустить премудрый промыслитель всего сущего, чтобы его создания дошли до такого зверства, – вернее, до извращения человеческой природы, которое хуже зверства, ибо надо быть хуже зверей, чтоб пожирать себе подобных. Но это был праздный вопрос, на который я в то время не мог найти ответа. Тогда я стал думать о том, в какой частя света живут эти дикари, как далеко от моего острова их земли, ради чего они пускаются в такую даль и что у них за лодки; и, наконец, не могу ли я найти способ переправиться к ним, как они переправлялись ко мне.
Я не давал себе труда задумываться над тем, что я буду делать, когда переправлюсь на материк, что меня ожидает, если дикари поймают меня, и могу ли я надеяться спастись, если они на меня нападут. Я не спрашивал себя даже, есть ли у меня хоть какая нибудь возможность добраться до материка, не быв замеченным ими; я не думал и о том, как я устроюсь со своим пропитанием и куда направлю свой путь, если мне посчастливится ускользнуть от врагов. Ни один из этих вопросов не приходил мне в голову: до такой степени я был поглощен мыслью попасть в лодке на материк. Я смотрел на свое тогдашнее положение, как на самое несчастное, хуже которого может быть одна только смерть. Мне казалось, что, если я доберусь до материка или пройду в своей лодке вдоль берега, как это я сделал в Африке, до какой нибудь населенной страны, то может быть мне окажут помощь; а может быть я встречу европейский корабль, который меня подберет. Наконец, в худшем случае, я умру, и со смертью кончатся все мои беды. Конечно, все эти мысли были плодом расстроенного ума, встревоженной души, изнывавшей от нетерпения, доведенной до отчаяния долгими страданиями, обманувшейся в своих надеждах в тот момент, когда предмет ее вожделений был, казалось, так близок. Я говорю о своем посещении обломков погибшего корабля, на котором я рассчитывал найти живых людей, узнать от них, где я нахожусь и каким способом отсюда вырваться. Я был глубоко взволнован этими мыслями; все мое душевное спокойствие, которое я почерпал в покорности провидению, пропало без следа. Я не мог думать ни о чем другом, будучи весь поглощен планом путешествия на материк; он захватил меня так властно и так неудержимо, что я не в силах был противиться ему.
План этот волновал мои мысли часа два или больше; вся кровь моя кипела, и пульс бился, словно я был в лихорадке, от одного только возбуждения моего ума, пока, наконец, сама природа не пришла мне на выручку: истощенный столь долгим напряжением, я погрузился в глубокий сон. Казалось бы, что меня и во сне должны были преследовать те же бурные мысли, но на деле вышло не так: то, что мне приснилось, не имело никакого отношения к моему волнению. Мне снилось, будто, выйдя как обыкновенно поутру из своей крепости, я вижу на берегу две пироги и подле них одиннадцать человек дикарей. С ними был еще двенадцатый – пленник, которого они собирались убить и съесть. Вдруг этот пленник в самую последнюю минуту вскочил, вырвался и побежал что есть мочи. И я подумал во сне, что он бежит в рощицу подле крепости, чтобы спрятаться там. Увидя, что он один и никто за ним не гонится, я вышел к нему навстречу и улыбнулся ему, стараясь его ободрить, а он бросился передо мной на колени, умоляя спасти его. Тогда я указал ему на мою лестницу, предложил перелезть через ограду, повел его в свою пещеру, и он стал моим слугой. Имея в своем распоряжении этого человека, я оказал себе: «Вот когда я могу, наконец, переправиться на материк. Теперь мне нечего бояться: этот человек будет служить мне лоцманом; он научит меня, что мне делать и где добыть провизию; он знает ту страну и скажет мне, в какую сторону я должен держать путь, чтобы не быть съеденным дикарями, и каких мест мне следует избегать». С этою мыслью я проснулся, – проснулся под свежим впечатлением сна, оживившего мою душу надеждой на избавление. Тем горше было мое разочарование и уныние, когда я вернулся к действительности и понял, что это был только сон.