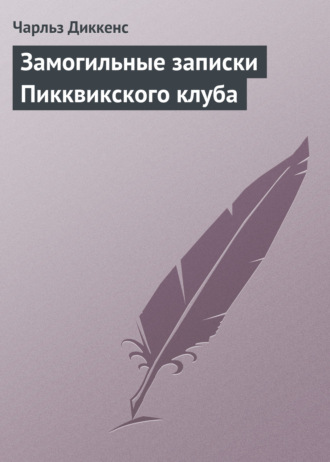
Чарльз Диккенс
Замогильные записки Пикквикского клуба
Уже последние лучи заходящего солнца падали на землю, отбрасывая яркое зарево на желтые снопы сжатой пшеницы и растягивая на огромное пространство тени огородных дерев, когда Джон Эдмондс остановился, наконец, перед старым домом, где прошли его младенческие лета, и куда стремился он с неописанной тоской в продолжение бесконечных годов своего заточения и тяжкой работы. Да, это был точно он, родительский дом Джона Эдмондса. Вот палисадник – какой низенький!.. a было время, когда он казался ему высокою стеною, – вот и старый сад. Новые растения, цветы, деревья; но здесь же, на своих местах, и старые дерева: вот величавый и пышный дуб, тот самый, под которым тысячу раз отдыхал он после резвой игры с детьми… О, сколько воспоминаний, грустных и отрадных, теснятся в его грудь! Внутри дома раздаются голоса. Он становится на цыпочки; притаивает дух, прислушивается с напряженным вниманием – нет: ни одного знакомого звука! То были веселые голоса, a он знал хорошо, что бедная мать не могла веселиться в разлуке с несчастным сыном.
Он постучался; когда отворили дверь, из комнаты повысыпала целая толпа маленьких детей, веселых и буйно резвых. Отец, с младенцем на руках, появился на пороге; дети обступили его со всех сторон, захлопали своими крошечными руками и дружно начали тащить его назад, приглашая принять участие в их шумных забавах. С замиранием сердца Джон припомнил, как часто, бывало, в старину, на этом самом месте, он отскакивал от своего буйно-пьяного отца. И припомнил он, как часто случалось ему, скрытому в подушках маленькой постели, слышать грубые слова и за ними – плач, стоны, крик и рыдания бедной женщины… Подавленный мучительной тоской, Джон опрометью бросился из дома, заплакал, застонал, зарыдал, но кулаки его были сжаты, зубы стиснуты, и палящая тоска сверлила его грудь.
Таково было первое впечатление возвращения на родину после продолжительной ссылки. Этого ли ожидал несчастный, когда там, за океаном, представлял себе родительский дом, из-за которого вытерпел невыносимые муки в продолжение своего пути? Свидание, радушная встреча, прощение, радостные слезы, спокойный приют. – Увы! – все это мечты, мечты, дикие мечты! Нет более материнской хижины, и он одинок в своей старой деревне. Что значило его прежнее одиночество среди дремучих лесов, никогда не видавших человеческого лица?..
Он почувствовал и понял, что там, за океаном, в стране бесславия и позора, родина рисовалась в его воображении с обстановкой его младенческих лет, но не такою, какою могла она быть после его возвращения домой. Печальная действительность сразила его сердце и погубила в нем остальной запас нравственного мужества и силы. Он не смел расспрашивать и был далек от надежды, что может кто-нибудь принять его здесь с чувствами сострадания и радушного участия к его судьбе.
Медленным и нерешительным шагом пошел он вперед, склонив голову на грудь и не смея питать никаких определенных желаний. Одна, только одна мысль тускло мерцала в его мозгу – бежать от общества людей куда бы то ни было. Он вспомнил про зеленый луг на конце деревни, и туда направил свои шаги. Достигнув этого места, он бросился на траву и закрыл лицо обеими руками.
Он не заметил, что на холме подле него лежал какой-то человек: его платье зашелестило, когда он обернулся и взглянул на нового пришельца. Эдмондс поднял голову.
Человек уселся на том же холме, поджав ноги под себя. Его волосы были всклокочены, спина согнута, желтое лицо взрыто глубокими морщинами. Судя по платью, можно было догадаться, что он жил в богадельне. Он казался дряхлым стариком; но эта дряхлость могла быть скорее следствием разврата и болезней, чем естественным действием прожитых годов. Он принялся смотреть на незнакомца: его глаза, сначала впалые и безжизненные, засверкали диким блеском и приняли бурно тревожный вид, когда, по-видимому, он вгляделся в предмет своих наблюдений. Еще минута и, казалось, эти глаза готовы будут выпрыгнуть из своих орбит. Эдмондс мало-помалу приподнялся на свои колена, и пристально начал всматриваться в лицо старика. Они глядели друг на друга, молчали и были неподвижны.
Бледный, как смерть, и страшный, как выходец с того света, старик медленно привстал и зашатался. Эдмондс быстро вскочил с своего места. Старик отступил назад: Джон последовал за ним.
– Кто ты, старик? – сказал он глухим, прерывающимся голосом. – Дай услышать твой голос.
– Прочь! – закричал старик, сопровождая страшными проклятиями свое восклицание.
Джон ближе подошел к нему.
– Прочь! прочь!
И дряхлый старик, волнуемый неистовою злобой, поднял палку.
– Отец!..
Старик между тем испустил пронзительный крик и громкое эхо, переливаясь и перекатываясь помчалось по уединенному полю. Его лицо побагровело и посинело; кровь фонтаном хлынула из горла и носа; трава окрасилась темно-багряною краской; старик зашатался и грянулся на землю. У него лопнул кровяной сосуд, и прежде, чем сын успел приподнять его из грязной лужи, – он уже был мертв.
* * *
В одном из отдаленных углов нашего кладбища, – заключил священник после кратковременной паузы, – погребен человек, служивший три года в моем доме после этого события. Смиренный и кроткий духом, он чистосердечно каялся во всех своих грехах и даже мог служить образцом терпения и строгой жизни, очищенной сердечным сокрушением. Кто был он, и откуда пришел в нашу деревню – никто не знал, кроме меня; но это был Джон Эдмондс, воротившийся из ссылки».
Глава VII
На грех мастера нет: метил в ворону, попал в корову. – Победоносная игра и некоторые другие чрезвычайно-интересные подробности назидательного свойства.
Утомительные приключения несчастного утра и счастливейшего вечера, равно как эффект пасторского рассказа, произвели самое могучее влияние на восприимчивые чувства президента Пикквикского клуба. Лишь только радушный хозяин, со свечою в руках, проводил своего гостя в комфортабельную спальню, м‑р Пикквик минут через пять погрузился в сладкий и глубокий сон, от которого, впрочем, немедленно воспрянул при первых лучах палящего солнца. Иначе, конечно, и быть не может: между светилами двух миров, физического и нравственного, должна быть постоянная, прямая и непосредственная симпатия.
М‑р Пикквик вскочил с постели, надел халат, открыл окно, испустил глубокий вздох и воскликнул таким образом:
– О природа, чистая, безыскусственная, очаровательная природа, – благословляю тебя! Какой безумец согласится навсегда запереть себя в душном пространстве, среди извести, кирпичей и глины, если только раз удалось ему почувствовать на себе влияние роскошной сцены, открывшейся теперь перед моими глазами? Какой сумасброд решится прозябать всю свою жизнь в таком месте, где нет ни овечек, ни коров, ни всех этих щедрых даров Сильвана и Помоны, рассыпанных здесь на каждом шагу для мирных и тихих наслаждений истинных сынов обожаемой натуры? Какой, говорю я, какой?
И м‑р Пикквик, от избытка душевных волнений, высунул свою голову из окна, чтоб удобнее любоваться на лазурное небо и цветущие поля. Запах свежего сена и сотни благоуханий от цветов маленького сада наполняли воздух перед окнами прекрасной дачи; зеленые луга сияли под утренней росой, блиставшей на каждом листке, и птицы стройным хором заголосили свой концерт, как будто в трепещущих каплях росы скрывался для них источник вдохновений. Сладостное и очаровательное мечтание осенило душу великого мужа.
– Джой!
Этот прозаический звук весьма неосторожно и некстати порвал нить размышлений, уже начинавших приходить в стройный, систематический порядок в голове глубокого мыслителя. М‑р Пикквик взглянул направо: никого не было; взглянул налево: тоже никого; он возвел свой взор на небеса, но и там не оказалось ни одного подозрительного предмета. Затем великий муж отважился на действие, которое бы всего скорее пришло в голову обыкновенного человека: он взглянул в сад, и в саду увидел м‑ра Уардля.
– С добрым утром, м‑р Пикквик, – проговорил почтенный джентльмен, проникнутый, очевидно, чувствами поэтических наслаждений. – Чудесный день, не правда ли? Хорошо, что вы рано встаете. Выходите скорее к нам. Я буду вас ждать.
М‑р Пикквик не заставил повторить обязательного приглашения. В десять минут туалет его был кончен, и через десять минут он был в саду подле веселого старичка.
– Вот вы как! – воскликнул м‑р Пикквик, заметивший, с некоторым изумлением, что товарищ его держал ружье в руке, и что другое ружье лежало на траве подле него. – Что вы хотите с этим делать?
– Ваш друг и я собираемся перед завтраком немного пострелять, – отвечал добродушный хозяин. – Ведь он хорошо стреляет?
– Да, мой приятель говорит, что он отличный стрелок, – подтвердил м‑р Пикквик, – мне, впрочем, еще не случалось видеть его искусства.
– И прекрасно: стало быть, вам предстоит удовольствие быть свидетелем нашей забавы. Что это он так долго нейдет? Джой, Джой!
Жирный детина, освеженный живительным влиянием утренней погоды, был, казалось, на этот раз усыплен не совсем, a только на три четверти с дробью. Немедленно он вышел на крыльцо.
– Ступай, Джой, позови этого джентльмена и скажи, что мы с м‑ром Пикквиком станем ждать его у деревьев перед грачами. Ты покажешь дорогу.
Сонливый толстяк поворотил налево кругом, a м‑р Уардль, как новый Робинзон Крузо, положил на плечо оба ружья и вышел из садовой калитки.
– Вот мы здесь и остановимся, – сказал пожилой джентльмен, когда он и м‑р Пикквик подошли к деревьям, унизанным на своих верхушках гнездами грачей.
– Что ж мы станем делать? – спросил м‑р Пикквик.
– A вот увидите.
Пожилой джентльмен принялся заряжать ружье.
– Сюда, господа, сюда! – воскликнул м‑р Пикквик, завидев фигуры господ Снодграса, Винкеля и Топмана.
Пикквикисты только что вышли из садовой калитки и направляли свои шаги к жилищу грачей. Жирный детина, не зная наверное, какого именно джентльмена должен он позвать к своему хозяину, пригласил их всех до одного, рассчитывая весьма благоразумно, что в таком случае не будет никаких недоразумений.
– Поздненько вы встаете, м‑р Винкель, – проговорил пожилой джентльмен. – Исправный охотник не станет дожидаться солнечного восхода.
М‑р Винкель отвечал принужденной улыбкой и принял поданное ружье с такой прискорбной физиономией, которая, в метафизическом смысле, могла бы скорее принадлежать невинному грачу, томимому предчувствием насильственной смерти.
Пожилой джентльмен свистнул и махнул рукой. По этому знаку двое оборванных мальчишек, выступивших на сцену под дирекцией нового Ламберта[1] в детской форме, начали карабкаться по сучьям двух ближайших дерев.
– Зачем здесь эти ребята? – спросил м‑р Пикквик взволнованным тоном.
Ему вдруг пришло в голову, что несчастные мальчишки, в надежде приобрести скудную плату за свой риск, промышляют тем, что делают из себя живые мишени для пуль неопытных стрелков. Его сердце облилось кровью.
– Им надобно вспугнуть игру, ничего больше, – отвечал, улыбаясь, м‑р Уардль.
– Что?
– Вспугнуть игру, то есть, говоря на чистом английском наречии, расшевелить грачей.
– Только-то?
– Да. Вы успокоились?
– Совершенно.
– Очень хорошо. Могу я начать?
– Сделайте милость, – сказал м‑р Винкель, обрадованный тем, что очередь до него дойдет не слишком скоро.
– В таком случае, посторонитесь. Ну, мальчуган!
Мальчишка свистнул, закричал и принялся раскачивать ветвь с грачиным гнездом. Встрепенулись юные птенцы, подняли встревоженный говор и, размахивая крыльями, с участием, расспрашивали друг друга, зачем зовет их беспокойный человек. Ружейный выстрел был для них громогласным ответом. Навзничь пал один птенец, и высоко взвились над ним уцелевшие птицы.
– Подыми, Джой, – сказал пожилой джентльмен.
Радостная улыбка засияла на щеках сонливого детины, когда он выступил вперед: смутные видения масляного пирога с начинкой из грача зашевелились в его воображении жирно и сладко. Он поднял птицу и засмеялся восторженным смехом: птица была толстая и жирная.
– Ну, м‑р Винкель, – сказал хозяин, заряжая опять свое собственное ружье, – теперь ваша очередь: стреляйте.
М‑р Винкель двинулся вперед и поднял ружье. М‑р Пикквик и его друзья инстинктивно спешили посторониться на значительное расстояние, из опасения повредить свои шляпы убитыми грачами, которые, нет сомнения, дюжинами попадают на землю после опустошительного выстрела. Последовала торжественная пауза, и за нею – крик мальчишки – птичий говор – слабый стук.
– Эге! – воскликнул пожилой джентльмен.
– Что, друг? Ружье не годится? – спросил м‑р Пикквик.
– Осечка! – проговорил м‑р Винкель, бледный как снег.
– Странно, очень странно, – сказал пожилой джентльмен, – этого за ним прежде никогда не водилось. Да что это? Я вовсе не вижу пистона.
– Какая рассеянность! – воскликнул м‑р Винкель. – Я ведь и забыл про пистон!
Ошибка мигом была исправлена, и м‑р Винкель опять выступил вперед с видом отчаянно решительным и храбрым. М‑р Топман приютился за кустом, и с трепетом смотрел на приготовительную церемонию стрельбы. Мальчишка опять поднял крик и вспугнул четырех птиц. М‑р Винкель выстрелил. Стон из груди человека был жалобным и совершенно непредвиденным ответом: м‑ру Топману суждено было спасти жизнь невинного грача принятием значительной части заряда в свое левое плечо.
Последовала суматоха, неизобразимая ни пером, ни языком, и мы отнюдь не беремся описывать как м‑р Пикквик, проникнутый справедливым негодованием, назвал м‑ра Винкеля – злодеем; как м‑р Топман, низверженный и плавающий в собственной крови, лежал и стонал, произнося в забытьи какое-то имя обожаемой красавицы и проклиная своего убийцу, стоявшего перед ним на коленях; как потом он открыл свой правый глаз и прищурил его опять, опрокидываясь навзничь. Все это представляло сцену поразительную и даже раздирательную в некотором смысле. Наконец, однако ж, к общему утешению, несчастный страдалец пришел в себя и обнаружил очевидные признаки жизни. Друзья поставили его на ноги, перевязали ему рану носовым платком и медленными шагами пошли домой, поддерживая его со всех сторон.
Шествие было умилительное и трогательное. Они приближались к садовой калитке, где уже давно стояли дамы, ожидавшие к завтраку своих городских гостей. Девствующая тетушка сияла самою радужною улыбкой и делала веселые знаки. Ясно, что она ничего не знала о случившейся беде. Невинное создание! Бывают времена, когда душевное неведение служит для нас залогом самого прочного блаженства.
Они подошли ближе.
– Что это у них сделалось с маленьким старичком? – сказала Изабелла Уардль.
Девствующая тетушка не обратила никакого внимания на этот вопрос, относившийся, по её мнению, к президенту Пикквикского клуба. Треси Топман был еще юношей в её глазах, и она смотрела на его лета в уменьшительное стекло.
– Ничего, mesdames, будьте спокойны, – сказал пожилой джентльмен, желавший. заранее предупредить суматоху в обществе женщин.
Дамы обступили м‑ра Топмана.
– Не бойтесь, mesdames, – повторил хозяин.
– Что-ж такое случилось? – вскрикнули леди.
– Небольшое несчастье с м‑ром Топманом – ничего больше.
Целомудренная тетка испустила пронзительный крик, закатилась истерическим смехом и повалилась без чувств в объятия своих племянниц.
– Окатить ее холодной водой, – сказал пожилой джентльмен.
– Нет, нет, – пробормотала целомудренная тетка, – мне теперь лучше, гораздо лучше. Изабелла, Эмилия – доктора! Он ранен? умер? О, Боже мой. Ха, ха, ха!
Это был второй нумер истерического хохота, сопровождаемый отчаянно диким визгом.
– Успокойтесь, – сказал м‑р Топман, растроганный почти до слез этим умилительным выражением нежной симпатии, – успокойтесь, сударыня, сделайте милость.
– Его ли это голос? – воскликнула целомудренная тетка, дико вращая глазами.
Третий нумер истерики принял опустошительно страшный характер.
– Не тревожьтесь, сударыня, умоляю вас именем неба, – проговорил м‑р Топман нежным тоном. – Я немного ранен, и ничего больше.
– Так вы не умерли? – взвизгнула истерическая леди. – О, скажите, ради Бога, что вы не умерли!
– Что за глупости, Рахиль? – перебил м‑р Уардль довольно грубым тоном, совершенно противоречившим поэтическому характеру всей этой сцены. – За каким чертом он должен сказать, что не умер?
– О нет, нет, я не умер! – воскликнул м‑р Топман. – Мне нужна только ваша помощь, сударыня. Позвольте облокотиться на вашу ручку, – прибавил он шепотом, – о, мисс Рахиль!
Девственная тетка сделала два шага вперед и подала ему руку. Они благополучно пришли в столовую. М‑р Треси Топман, улучив удобную минуту, прижал её пальчики к своим губам и опустился на софу.
– Вы слабы? – сказала сострадательная Рахиль.
– Нет это ничего. Скоро я совсем оправлюсь. Благодарю вас.
И, проговорив последнюю фразу, м‑р Топман закрыл глаза.
– Он спит, – пробормотала девственная тетка. – Его органы зрения были сомкнуты только в продолжение двадцати секунд. – Милый, милый Треси!
М‑р Топман встрепенулся и вскочил.
– О, произнесите еще раз эти отрадные слова! – воскликнул он с трогательным умилением и самым убедительным тоном.
Целомудренная дева испугалась.
– Вы, конечно, их не слышали? – проговорила она с девственной застенчивостью.
– О, да, я слышал их! – возразил м‑р Топман. – Повторите ли вы их из сострадания к несчастливцу, который…
– Молчите! – прервала целомудренная леди. – Мой брат.
М‑р Треси Топман принял свою прежнюю позу, и через минуту в комнату вошел м‑р Уардль, сопровождаемый хирургом.
Плечо было освидетельствовано, рана перевязана, и доктор, к общему благополучию, объявил, что опасности не было ни малейшей. Мало-помалу веселость водворилась снова, и завтрак начался своим чередом. Джентльмены и леди, по-видимому, совсем забыли неприятное приключение, грозившее оставить по себе такие печальные последствия. Один м‑р Пикквик молчал и, казалось, был погружен в глубочайшую задумчивость. Его доверие к м‑ру Винкелю поколебалось, расшаталось, и едва совсем не исчезло.
– Играете ли вы в криккет? – спросил м‑р Уардль, обращаясь к несчастному стрелку.
В другое время и при других обстоятельствах м‑р Винкель не задумался бы дать утвердительный ответ; но теперь он понимал и чувствовал деликатность своего положения, и скромно отвечал:
– Нет.
– A вы, сэр? – спросил м‑р Снодграс.
– Игрывал встарину, – отвечал хозяин, – но теперь отвык. Я член здешнего клуба криккетистов, но сам уже давно не играю[2].
– Сегодня, я полагаю, будет большое собрание, – сказал м‑р Пикквик.
– Да, говорят, игра завязывается на славу, – отвечал хозяин. – Хотите посмотреть?
– Я люблю видеть игры всякого рода, – отвечал м‑р Пикквик, – если только в них, от неопытности какого-нибудь хвастуна, не подвергается опасности человеческая жизнь.
М‑р Пикквик приостановился и строго взглянул на м‑ра Винкеля, который обомлел под испытующим взглядом президента. Через несколько секунд великий муж отвел от него свои глаза и прибавил.
– Можем ли мы поручить нашего раненого друга заботливости ваших леди?
– Совершенно можете, – пробормотал скороговоркой м‑р Топман.
– Разумеется, – подтвердил м‑р Снодграс.
Поразмыслили и решили, что м‑р Топман останется дома под благодатным надзором женского комитета, a все остальные джентльмены, под предводительством м‑ра Уардля, отправятся в город Моггльтон, куда поголовно выступит весь Дингли-Делль, чтоб принять участие в национальной игре, занимавшей теперь умы всех горожан и поселян.
Они пошли веселою и стройною толпой, и через несколько часов м‑р Пикквик, почти сам не зная как, очутился в главной улице Моггльтона.
Всем, a может быть не всем, известно, статься может даже, что и никому неизвестно, что Моггльтон – весьма древний и почтенный город, имеющий все признаки настоящего корпоративного города: в нем есть мэр, буржуа и фримэны, он владеет с незапамятных времен неоспоримым правом представлять из своей среды одного депутата в английский парламент, где, тоже с незапамятных времен, насчитывают в деловом архиве три тысячи триста тридцать три документа относительно города Моггльтона. Этот старинный город отличается своею приверженностью к религии и консерватизмом в торговой политике. одних просьб относительно уничтожения торговли в праздничные дни поступило от него в парламент пятьсот тридцать семь, и вслед затем таковое же число прошений последовало относительно поощрения торговли неграми и введения колониальной системы в Англии; шестьдесят восемь в пользу удержания и распространения привилегий церкви. Триста семьдесят проектов относительно дистиллирования можжевеловой желудочной водки тоже в свое время были представлены благосклонному вниманию лордов, вместе с покорнейшим прошением касательно выдачи столетней привилегии новоучредившемуся обществу воздержания от крепких напитков.
Проникнутый глубоким уважением к знаменитому городу, м‑р Пикквик стоял на главной его улице и смотрел с видом ученой любознательности на окружающие предметы. Перед ним во всей красоте расстилалась торговая площадь, и в центре её – огромный трактир с блестящей вывеской весьма замысловатого вида: то был на мраморной колонне сизо-бирюзовый лев с высунутым языком и тремя низенькими ножками, поднятыми на воздух, между тем как четвертая лапа неистово опиралась на колонну. Тут были также пожарный двор и страховая от огня контора, хлебные амбары, водочный завод, булочная, полпивная и башмачная лавка, принимавшая также на себя обязанность доставлять честным гражданам потребное количество шляп, фуражек, колпаков, зонтиков, чепчиков и учебных книг по всем отраслям наук. Был тут красный кирпичный домик с небольшим вымощенным двором, принадлежавший, как всем было известно, городскому адвокату, и был тут, сверх того, другой красный кирпичный домик с венецианскими ставнями и огромной вывеской над воротами, где явственно обозначалось золотыми буквами жилище городского врача. Две-три дюжины мальчишек бежали через площадь на поле криккетистов, и два-три лавочника стояли у своих дверей, увлекаемые очевидным желанием быть свидетелями национальной игры. Все это заметил м‑р Пикквик отчетливо и ясно, и уже в душе его заранее обрисовался план красноречивейшей страницы путевых впечатлений. рассчитывая написать ее при первом удобном случае, он поспешил присоединиться к своим друзьям, которые уже поворотили из главной улицы и созерцали на краю города широкое поле битвы.
Уиккеты были уже совсем готовы, и не в дальнем расстоянии от них красовались две палатки обширного размера, снабженные всеми принадлежностями для отдыха и прохлады состязающихся криккетистов. Но игра еще не начиналась. Два или три героя из Дингли-Делль и столько же городских богатырей забавлялись на чистом воздухе, с величественным видом перекидывая с руки на руку массивные шары. Другие криккетисты в соломенных шляпах, фланелевых куртках и белых штанах, бродили около палаток, куда и м‑р Уардль повел своих гостей.
Полдюжины приветствий, громких и радушных, встретили прибытие пожилого джентльмена. Все фланелевые куртки выступили вперед, когда он начал рекомендовать своих гостей, джентльменов из Лондона, желавших с нетерпением видеть собственными глазами национальное игрище, которое, нет сомнения, доставит им одно из величайших наслаждений.
– Вам, я полагаю, будет гораздо удобнее в палатке, – сказал один весьма статный джентльмен, с туловищем, несколько похожим на резиновый шар, набитый гусиным пухом.
– В палатке, сэр, вы найдете все, что провинция может придумать для столичных гостей, – подтвердил другой джентльмен весьма величавой и мужественной наружности.
– Вы очень добры, сэр, – сказал м‑р Пикквик.
– Сюда пожалуйте, – добавил джентльмен с шарообразным туловищем. – Отсюда вы можете увидеть все эволюции наших молодцов.
Президент и м‑р Уардль вошли в палатку.
– Бесподобная игра… эффект сильнейший… упражнение для физики… мастерство!
Эти и некоторые другие слова стенографического свойства поразили прежде всего благородный слух м‑ра Пикквика при входе его в гостеприимную палатку. Первый предмет, представившийся его глазам, был – зелено-фрачный приятель рочестерского дилижанса, расточавший свое красноречие перед избранным кружком, в клубе криккетистов. Его костюм был приведен в немного более исправное состояние, и, вместо башмаков, на нем были сапоги; но это был точно он, испанский путешественник, обожаемый друг донны Христины.
Незнакомец мигом угадал своих друзей. Выступив вперед, он схватил за руку м‑ра Пикквика и с обычной торопливостью начал усаживать его на стул, продолжая говорить без умолку во все это время, как будто все городские распоряжения состояли под его особенным покровительством и непосредственным надзором.
– Сюда… сюда… отменная потеха… бочки пива… коньяк первейшего сорта… бифстекс… ростбиф… копченые языки… телега с чесноком… горчица дребезжит… превосходный день… пулярки… рад вас видеть… будьте как дома… без церемоний… отличная штука!
М‑р Пикквик уселся на указанное место; Винкель и Снодграс также безмолвно повиновались распоряжениям своего таинственного друга. М‑р Уардль смотрел, удивлялся и – ничего не понимал.
– Позвольте, м‑р Уардль, представить вам моего друга, – сказал м‑р Пикквик.
– Вашего друга! Здравствуйте, сэр. Очень приятно познакомиться с другом моего друга.
Незнакомец быстро сделал антраша и начал пожимать руку м‑ра Уардля с такою пламенною горячностью, как будто они были закадычными друзьями лет двадцать сряду. Отступив потом шага два назад и окинув собрание орлиным взглядом, он еще раз схватил руку м‑ра Уардля и, по-видимому, обнаружил даже очевидное намерение влепить поцелуй в его розовую щеку.
– Как вы здесь очутились, любезный друг? – спросил м‑р Пикквик с благосклонной улыбкой.
– Так себе, – отвечал стенографический друг, – прикатил… городская гостиница… пропасть молодежи… фланелевые куртки, белые штаны… горячия почки с перцом… сандвичи с анчоусами… отменные ребята… весельчаки… Превосходно!
М‑р Пикквик, уже имевший довольно обширные сведения в стенографической системе незнакомца, быстро понял и сообразил из его лаконических речей, что он, неизвестно какими судьбами, вошел в сношения с членами Криккетского клуба, стал с ними на короткую ногу и получил от них приглашение на общий праздник. Таким образом любопытство ученого мужа было вполне удовлетворено; он надел очки и приготовился смотреть на криккет.
Игра была начата героями Моггльтона. Интерес сделался общим, когда м‑р Домкинс и м‑р Поддер, знаменитейшие члены славного клуба, отправились, с дубинами в руках, к своим уиккетам. М‑р Лоффи слава и краса криккетистов Динглиделль, должен был бросать могучею рукой свой шар против богатыря Домкинса, a м‑р Строггльс был выбран для исправления такой же приятной обязанности в отношении к непобедимому Поддеру. Другие игроки были поставлены в различных частях поля для наблюдений за общим ходом, и каждый из них, как и следовало ожидать, поспешил стать в наклонную позицию, опершись рукою, на колено, как будто собираясь подставить свою спину для первого прыжка мальчишки, который должен открыть игру в чехарду. Дознано долговременными опытами, что искусные игроки иначе и не могут делать наблюдений. Этот способ созерцания м‑р Пикквик, в своих ученых записках, весьма справедливо называет «наблюдением a posteriori».
Позади уиккетов остановились посредствующие судьи; маркеры приготовились считать и отмечать переходы. Наступила торжественная тишина. М‑р Лоффи отступил на несколько шагов за уиккет Поддера и приставил шар на несколько секунд к своему правому глазу. Доверчиво и гордо м‑р Домкинс приготовился встретить враждебный шаре, и глаза его быстро следили за всеми движениями Лоффи.
– Игра идет! – раздался громовый голос баулера.
И шар, пущенный могучею рукою м‑ра Лоффи, быстро полетел к центру противоположного уиккета. Изворотливый Домкинс был настороже; шар, встреченный его дубиной, перескочил через головы наблюдающих игроков, успевших между тем нагнуться до самых колен.
– Раз – два – три. Лови – бросай – отражай – беги – стой – раз – нет – да – бросай – два – стой!
Весь этот гвалт поднялся за ловким ударом, и в заключение первого акта, городские криккетисты отметили два перебега. Поддер тоже с своей стороны стяжал лавры в честь и славу Моггльтона. Он искусно каждый раз отражал от своего уиккета шары, и они разлетались по широкому полю. Наблюдающие игроки, перебегавшие с одного конца на другой, истощились до последних сил; баулеры сменялись беспрестанно и бросали шары, не щадя своих рук и плеч; но Домкинс и Поддер остались непобедимыми. Около часа их дубины были в постоянной работе, уиккеты спаслись от нападений, и публика сопровождала громкими рукоплесканиями необыкновенную ловкость своих героев. Когда, наконец, Домкинс был пойман, и Поддер выбит из своего места, городские криккетисты уже считали пятьдесят четыре перебега, между тем как герои Динглиделль остались ни при чем. Перевес на стороне горожан был слишком велик, и не было никаких средств поверстаться с ними. Напрасно пылкий Лоффи и нетерпеливый Строггльс употребляли все возможные усилия, чтоб восстановить некоторое равновесие в этом споре: все было бесполезно, и пальма первенства неоспоримо и решительно осталась за городом Моггльтоном.
Незнакомец между тем кушал, пил и говорил беспрестанно. При каждом ловком ударе он выражал свое одобрение и удовольствие снисходительным и покровительственным тоном; при каждом промахе делал гримасы и грозные жесты, сопровождаемые восклицаниями: «ах, глупо… осел… ротозей… фи… срам!» Такие решительные отзывы не преминули утвердить за ним славу совершеннейшего знатока и безошибочного судьи всех эволюций благородной игры в криккет.
– Игра на славу… экзерсиции первейшего сорта… были удары мастерские, – говорил незнакомец, когда обе партии сгрупировались в палатке, после окончания игры.
– A вы, сэр, играли когда-нибудь? – спросил Уардль, которого начинали забавлять энергичные выходки загадочного джентльмена.
– Играл ли? Фи!.. двести тысяч раз… не здесь только… в Вест-Индии.
– Как? Вы были и в Вест-Индии?
– Был… по всем краям… во всех частях света… В Австралии три года.
– Но в Вест-Индии должно быть очень жарко, – заметил м‑р Пикквик, – тамошний климат неудобен для криккетистов.
– Все палит – печет – жжет – томит – нестерпимо! Раз большое пари… один уиккет… приятель мой, полковник… сэр Томас Блазо… бросать шары… я отбивать… Началось рано утром. Шести туземцам поручено делать переходы… утомились… повалились без чувств… все до одного… Блазо все кидал… держали его два туземца… устал, выбился из сил… я отражал… ни одного промаха… Блазо упал. Его сменил Кванко Самба… солнце запекло…. шар в пузырях… пятьсот семьдесят перебегов… Устал и я… немного… Кванко не уступал… победить или умереть… наконец я промахнулся… покончили… искупался, освежился… ничего… пошел обедать.







