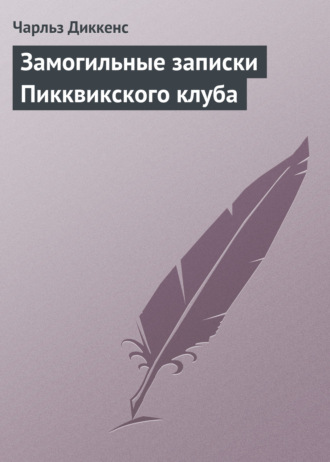
Чарльз Диккенс
Замогильные записки Пикквикского клуба
Но при одном мимолетном взгляде на чудное личико этой леди дядя приметил, что на её лице выражался испуг, и она смотрела совсем потерянной; она бросила на дядю умоляющий взгляд, он заметил тоже, что молодой человек в напудренном парике, несмотря на выказанную им любезность, можно сказать самую великосветскую, ухватил леди прекрепко за руку возле кисти, при входе её в карету, и немедленно последовал за нею сам. Какой-то молодец необыкновенно подозрительной наружности, в нахлобученном темном парике, в кафтане сливяного цвета, в сапогах, доходивших ему до ляшек, и с широкой шпагой у бедра, видимо принадлежавший тоже к их обществу, уселся возле молодой дамы, которая отшатнулась в угол кареты при его приближении. Заметив это движение прелестной незнакомки, дядя убедился окончательно, что первое его впечатление было верно и что должна случиться какая-нибудь таинственная и мрачная драма или, по его собственному выражению, „какая-нибудь гайка развинтилась“. Изумительно даже, с какой быстротой он порешил помочь этой леди в случае опасности, если только она будет нуждаться в его помощи.
– Смерть и молния! – воскликнув молодой джентльмен, схватываясь рукою за свою шпагу, когда дядя мой вошел в карету.
– Кровь и гром! – заревел другой джентльмен и с этими словами, вытянув свою огромную шпагу из ножен, ткнул ею дядю без дальнейшей церемонии. Дядя был безоружен, но он с величайшею ловкостью стащил с подозрительного джентльмена его треугольную шляпу и, подставив её тулью прямо под острие шпаги, смял ее, потом захватил его шпагу за острие и крепко держал ее в своей руке.
– Ткни его сзади! – закричал подозрительный джентльмен своему товарищу, тщетно стараясь высвободить свою шпагу.
– Пусть не пробует! – крикнул дядя, пуская в ход один из своих каблуков самым угрожающим образом. – Я выбью ему мозги, если таковые имеются, a если нет, то расколочу череп!
И, напрягая в это мгновение все свои силы, дядя вырвал из рук подозрительного человека его шпагу и вышвырнул ее в окно дилижанса; молодой человек снова проорал: „смерть и молния!“ схватился за рукоять своей шпаги с весьма грозным видом, однако ж её не обнажил. Может быть, джентльмены, он боялся встревожить молодую леди, как говаривал мой дядя с усмешкой.
– Ну, джентльмены, – сказал дядя, усаживаясь покойно на своем месте. – Мне бы не хотелось, чтобы в присутствии леди случилась чья-нибудь смерть, с молнией или без оной; и мы имеем уже достаточно крови и грома на всю нашу поездку; поэтому я вас прошу, будем сидеть каждый на своем месте, как подобает мирным пассажирам… Эй, кондуктор, поднимите поварской нож этого джентльмена.
Лишь только дядя произнес эти слова, кондуктор появился уже у окна дилижанса со шпагою джентльмена в руках. Передавая ее, он поднял к верху свой фонарь и поглядел серьезно дяде в лицо, и вдруг, к величайшему своему удивлению, дядя увидел при свете этого фонаря, что вокруг окна теснится неисчислимое множество кондукторов и каждый из них также серьезно смотрит ему в лицо. Он в жизнь свою не видывал такого моря белых рож, красных туловищ и серьезных глаз.
– Это самое странное из всего, что мне приходится теперь испытывать, – подумал дядя. – Позвольте мне возвратить вам шляпу, сэр!
Подозрительный джентльмен принял молча свою треуголку, осмотрел внимательно дыру в её тулье, но под конец вздел ее на верхушку своего парика с торжественностью, эффект которой, однако ж, пропал, так как джентльмен неистово чихнул, и шляпа свалилась к нему на колени.
– Готово! – закричал кондуктор с фонарем в руке, влезая на свое маленькое сиденье сзади кареты. Поехали. Дядя выглянул из окна, когда дилижанс выезжал за ворота, и заметил, что прочие мальпосты, с кучерами, кондукторами, лошадьми и всем комплектом пассажиров, ехали, описывая круги, – круг за кругом, – мелкою рысью, примерно по пяти миль в час. Дядя так и кипел от негодования, джентльмены. Как человек коммерческий, он чувствовал, что с почтовыми посылками так шутить нельзя, и решил отписать об этом почтовому управлению тотчас же по своем прибытии в Лондон.
Но в настоящую минуту все его мысли были заняты молодою особой, сидевшею в заднем уголке дилижанса, с личиком, совершенно укутанным в капюшон. Джентльмен в небесно-голубом кафтане сидел против неё, a подозрительный, в платье цвета сливы, рядом с нею, и оба внимательно наблюдали за каждым её движением. Если только она чуть-чуть раздвигала складки своего капюшона, дядя слышал, что подозрительный человек ударял рукой по своей шпаге, а по прерывистому дыханию другого (лица его нельзя было рассмотреть за темнотою) можно было догадаться, что он смотрит на нее, как бы желая проглотить ее разом. Все это более и более подзадоривало дядю, и он решился, будь что будет, дождаться, чем разрешится эта таинственность. Он был большой поклонник блестящих глазок, миловидных лиц и хорошеньких ног и ступней; одним словом, страстно любил женский пол. Это у нас уже фамильное, джентльмены; я и сам таков.
Много хитростей употреблял дядя, чтобы привлечь на себя внимание молодой леди или хотя, на всякий случай, завести разговор с таинственными джентльменами. Но все оказывалось напрасным: джентльмены не хотели беседовать, a леди не осмеливалась даже пошевелиться. Дядя от скуки сталь по временам высовывать голову из окна и покрикивать: „поезжайте же скорее!“. Но, хотя он кричал до хрипоты, никто не обратил ни малейшего внимания на его крики. Он снова откинулся в карету и стал думать о прекрасном личике незнакомки, о её очаровательных ножках и ступнях. Эти думы несколько развлекли его; время теперь проходило незаметно, и он даже перестал раздумывать о том, куда его везут и каким образом он очутился в этом странном положении. Не то, впрочем, чтобы это положение его беспокоило; нет, был он человек мужественный, веселый, беззаботный, кутящий напропалую и такие-ли еще он видал виды. Да, джентльмены, замечательный человек был мой дядя.
Вдруг дилижанс остановился.
– Ну, чего там еще? – спросил дядя.
– Выходите здесь! – сказал кондуктор, опуская ступеньки.
– Здесь! – воскликнул дядя.
– Здесь, – возразил кондуктор.
– Ни за что! – сказал дядя.
– И то ладно, останьтесь, где сидите, – сказал кондуктор.
– И останусь, – сказал дядя.
– Как угодно, – ответил кондуктор.
Прочие пассажиры вслушивались очень внимательно в этот разговор; видя, что дядя решил не выходить, молодой человек протеснился мимо него, чтобы высадить леди. Подозрительный человек был занят в это время рассматриванием дыры в тулье своей треуголки. Выходя из кареты, молодая леди бросила перчатку в руку моего дяди и тихо, держа так близко от него свои губы, что он почувствовал на своем носу её жаркое дыхание, прошептала одно только слово: „спасите!“ Джентльмены, дядя в то же мгновение выпрыгнул из дилижанса так стремительно, что экипаж покачнулся на своих дрогах.
– Что, небось передумали? – сказал кондуктор.
Дядя посмотрел на него с минуту пристально, раздумывая, не лучше-ли будет вырвать у кондуктора двухстволку, выстрелить прямо в рожу старшего незнакомца, повалить остальную компанию ударами приклада, подхватить молодую леди и исчезнуть с нею, как дым. Но при дальнейшем размышлении он покинул этот план, находя его несколько мелодраматичным, и последовал за таинственными незнакомцами, которые между тем входили уже в старый разрушенный дом, в нескольких шагах от того места, где остановился дилижанс. Молодая леди нехотя шла между мужчинами, не спускавшими с неё глаз. Они повернули в коридор, и туда дядя пошел вслед за ними.
Из всех разрушенных и запустелых мест, которые только случалось видеть дяде, это было самое ужасное, самое запустелое. По-видимому, здесь некогда была богатая гостиница, но потолки в ней обвалились местами, лестницы были запущены и частью поломаны. В комнате, в которую вошли незнакомцы и куда за ними последовал и дядя, был громадный камин, с совершенно черной от сажи трубою, но он не освещался приветливым огоньком. Белый пепел сгоревших дров все еще покрывал под очага, но камин был холоден, и все кругом было мрачно и грустно.
– Славно, – сказал дядя, оглядываясь вокруг себя. – Ехать в почтовой карете, делающей каких-нибудь шесть с половиной миль в час, и потом остановиться на неопределенное время в подобной трущобе, – да, ведь, это возмутительно. Таких штук нельзя оставлять без внимания, их следует предавать гласности; непременно напишу об этом в газетах.
Дядя говорил довольно громко и с большою развязностью, имея в виду хоть этим путем завлечь незнакомцев в беседу. Но они видимо не хотели вступать в разговор и показали, что замечают присутствие дяди в комнате лишь тем, что перешепнулись между собою, бросая на него свирепые взгляды. Леди находилась на противоположном конце комнаты и осмелилась раз помахать дяде рукою, как бы призывая его к себе на помощь.
Наконец, незнакомцы ступили немного вперед, и завязался серьезный разговор.
– Вы, вероятно, не знаете, что это отдельный номер, приятель? – сказал небесно-голубой джентльмен.
– Нет, не знаю, приятель, – ответил дядя. – Замечу только, что если это отдельный номер, то воображаю, как хороша и комфортабельна должна быть общая зала.
С этими словами дядя уселся в кресло с высокою спинкою и так аккуратно смерял глазами джентльмена, что Тиджин и Уэльпс могли бы, по указанию дяди, снабдить этого господина ситцем на полную пару, не ошибаясь ни на вершок больше, ни на вершок меньше.
– Оставьте сейчас эту комнату! – сказали оба джентльмена, хватаясь за свое оружие.
– Что вам угодно? – спросил дядя, притворяясь, что он не понимает, чего они требуют.
– Убирайтесь отсюда или вас тотчас же убьют! – закричал подозрительный джентльмен, вытаскивая свою огромную шпагу из ножен и помахивая ею в воздухе.
– Скорей покончи с ним, – закричал небесно-голубой джентльмен, тоже обнажая шпагу и отскакивая фута на два или на три назад. – Кончай с ним.
Леди громко взвизгнула.
Должен я вам сказать, джентльмены, что дядя всегда отличался большою отвагой и присутствием духа. В продолжение всего этого времени, выказывая, по-видимому, совершенное равнодушие ко всему происходящему, он хитро выглядывал, нет-ли где какого-нибудь подходящего оборонительного оружия, и в то самое мгновение, когда оба джентльмена обнажили свои шпаги, дядя усмотрел в углу, возле печи, старую рапиру с картонным эфесом, в ржавых ножнах. Мигом схватил ее дядя, обнажил, щегольски взмахнул ею над своей головою, громко крикнул леди, чтобы она посторонилась, пустил креслом в небесно-голубого, a ножнами в подозрительного, и, воспользовавшись смятением, напал на обоих разом.
Джентльмены, есть рассказ, – который не хуже оттого, что он правдив, – о прекрасном ирландском юноше, которого спросили: „умеет-ли он играть на флейте?“ Юноша, как вам известно, отвечал: „конечно, умею, но только не могу положительно утверждать этого, так как еще никогда не пробовал играть“. Это достоверное предание можно применить и к моему дяде в отношении его способности к фехтованию. Он в своей жизни ни разу не держал в руках шпаги, за исключением того единственного случая, когда играл Ричарда Третьего на одном домашнем спектакле, при чем у него было условлено с Ричардом, что тот проколет его насквозь сзади, просто, без всякого предварительного сражения перед публикой. Теперь дяде пришлось сражаться с двумя отъявленными бретерами, и он нападал, отбивался, колол, рубил, вообще фехтовал изумительно ловко и мужественно, хотя до сих пор и не подозревал, что имеет малейшее понятие об этом искусстве. Из этого, джентльмены, видно, как справедлива старинная поговорка, что человек никогда не знает, на что он способен, пока не сделает опыта.
Шум битвы был ужасен; все три бойца ругались, как солдаты, a шпаги их стучали одна о другую, так что со стороны можно было подумать, что каким-нибудь механическим приводом приведены между собою в соприкосновение все ньюпортские ножи. Когда же схватка дошла до полного разгара, молодая леди, вероятно, для того, чтобы ободрить по возможности моего дядю, сдернула свой капюшон и открыла лицо такой поразительной красоты, что дядя почувствовал в себе силу сражаться против пятидесяти человек, лишь бы заслужить только одну улыбку её и умереть. Он совершал чудеса уже и до этой минуты, но теперь нагрянул на своих противников, как обезумевший, яростный исполин.
В это самое мгновение, небесно-голубой джентльмен повернулся и увидел, что лицо молодой женщины открыто; испустив крик бешенства и ревности, он обратил свое оружие против её прелестной груди и направил удар ей прямо в сердце, что заставило дядю вскрикнуть от испуга, так яростно, что все здание задрожало. Леди отскочила немного в сторону и, вырвав шпагу из рук молодого человека, прежде чем он успел опомниться, заставила его отступить к стене и проткнула его и стенную обшивку насквозь, вонзив шпагу так глубоко, что на виду остался только один эфес её; небесно-голубой джентльмен был, таким образом, весьма надежно пригвозжен к стене. Это послужило великолепным примером, Дядя, с громким победным криком и неотразимою силою, принудил своего противника отступить в том же направлении и, воткнув свою рапиру прямо в сердцевину одного красного цветка, находившегося на узоре камзола подозрительного джентльмена, пригвоздил его рядышком с его другом. Так и остались оба они тут, джентльмены, подергивая в предсмертных муках своими руками и ногами, подобно игрушечным фигурам, которые приводят в движение веревочкой. Дядя впоследствии всегда говаривал, что он считает подобный способ разделываться с врагом весьма удобным, но только он непрактичен в экономическом отношении, потому что на каждого пораженного врага приходится жертвовать по шпаге.
– Дилижанс! дилижанс! – завопила леди, кидаясь к дяде и обвивая его шею своими прелестными руками. – Мы можем теперь спастись!
– Можем! – повторил дядя. – Но не следует-ли еще кого-нибудь убить?
Дядя был несколько обманут в своих ожиданиях, джентльмены, потому что по его соображению, после побоища следовало полюбезничать хотя бы только для контраста.
– Нам нельзя терять ни минуты! – сказала молодая леди. – Он (она указала на небесно-голубого) единственный сын могущественного маркиза Фильтовилля!
– Я опасаюсь, моя милая, что вряд-ли ему придется теперь наследовать титул своего отца, – возразил дядя, равнодушно поглядывая на юного джентльмена, приколотого к стене на манер жука, как я уже вам докладывал. – Вы подрезали ему наследство, моя душечка!
– Я была похищена из моего дома, от моих родных, от моих друзей! – продолжала молодая леди с лицом, пылавшим негодованием. – Этот негодяй готовился силою жениться на мне!
– Вот дерзость-то! – сказал дядя, бросая презрительный взгляд на умиравшего наследника Фильтовиллей.
– Как вы могли догадаться из всего, что вы видели и слышали, – продолжала молодая леди, – эти господа были готовы убить меня, если бы вы вздумали призывать на помощь. И если их сообщники найдут нас здесь, мы погибли! Две минуты промедления могут стоить нам дорого. Дилижанс!..
И при этих словах, сильно взволнованная наплывом тяжелых воспоминаний и естественным возбуждением во время убийства молодого маркиза де-Фильтовилля, она упала на руки моего дяди. Он успел подхватить ее и вынес на крыльцо. Тут стоял уже дилижанс, запряженный четверкою вороных, длиннохвостых и густогривых коней, совершенно снаряженных в путь; но не было ни кучера, ни даже трактирщика, который держал бы их под узду.
Джентьмены, я полагаю, что не оскорблю памяти моего дяди, выразив убеждение, что, хотя он и был холостяком, но ему частенько приходилось в то время держать женщин в своих объятиях; я полагаю даже, что у него была положительная привычка целовать трактирных служанок, и знаю, по совершенно достоверным свидетельствам, что раз или два его заставали в то время, как он расточал поцелуи самой трактирщице. Я упоминаю об этом обстоятельстве с тою целью, чтобы показать, какое необыкновенное существо была эта прекрасная молодая леди, если она могла так сильно взволновать моего дядю, что он решительно потерялся. Он говаривал потом не раз, что, когда её длинные темные волосы рассыпались у него по рукам, a её чудные темные глаза устремились на его лицо, лишь только она снова пришла в сознание, он почувствовал себя в таком расстроенном, нервном состоянии, что даже ноги его подкосились. Но кто же может спокойно выносить устремленные на него прелестные, темные нежные глаза, не чувствуя на себе их неотразимого влияния? Я не могу, джентльмены; и признаюсь, когда одна знакомая мне пара глаз остановится на мне, мне делается жутко, джентльмены, – это святая истина.
– Вы никогда не покинете меня? – прошептала прелестная леди.
– Никогда! – отвечал дядя. И в ту минуту он говорил вполне чистосердечно.
– Дорогой мой спаситель! – воскликнула молодая женщина. – Дорогой, добрый, отважный спаситель!
– Перестаньте, – сказал дядя, перебивая ее.
– Почему? – спросила она.
– Потому что ваш ротик до того прелестен, когда вы говорите, что я не ручаюсь, чтобы у меня не явилась дерзость поцеловать его.
Молодая леди подняла ручку, как бы для того, чтобы воспрепятствовать моему дяде исполнить его намерение, и сказала… Нет, она не сказала ничего, a только улыбнулась. Когда вы смотрите на прелестнейшие губки в мире и видите, что они складываются в лукавейшую улыбочку… a вы в это время близки к ним и нет возле вас никого… вы ничем лучше не засвидетельствуете вашего поклонения красоте их формы и цвета, как жарким поцелуем. Так поступил мой дядя, и я уважаю его за это.
– Тс! – воскликнула молодая леди встревоженно. – Слышите стук колес и лошадей?
– Так точно, – сказал дядя, прислушиваясь. У него был славный слух для колесного и копытного стука, но тут, казалось, мчалось издалека столько лошадей и экипажей, что было невозможно угадать их число. Судя по грохоту, могло быть карет до пятидесяти, каждая запряженная шестериком чистокровных коней.
– За нами погоня! – воскликнула молодая женщина, ломая свои руки. – За нами погоня! Вся моя надежда только на вас.
В её лице было такое выражение ужаса, что дядя тотчас же решил, что надо делать. Он посадил ее в карету, прижал еще раз свои губы к её губам и затем посоветовал ей поднять стекло, чтобы не настудить воздуха внутри, и не бояться ничего, сам вскарабкался на козлы.
– Подожди, милый! – закричала леди.
– Что случилось? – спросил дядя с козел.
– Мне надо сказать тебе кое-что, – продолжала она. – Одно словечко…. только одно словечко, дорогой мой!
– Надо мне сойти? – осведомился дядя. Она не ответила, но только улыбнулась опять. И что это была за улыбка, джентльмены! Она разбивала в прах ту, прежнюю улыбку. Дядя слез с своего шестка в одно мгновение.
– Что нужно, моя душка? – спросил он, заглядывая в окно дилижанса. Случилось так, что леди тоже нагнулась в ту самую минуту, и дяде показалось, что она на этот раз еще прекраснее, чем была. Он находился очень близко к ней, джентльмены, и потому старался рассмотреть ее хорошенько.
– Что же нужно, моя душка? – спросил он.
– Обещаешь-ли ты мне никого не любить, кроме меня?… Не жениться ни на ком? – произнесла молодая леди.
Дядя поклялся торжественно, что никогда ни на ком не женится, кроме неё; леди снова спрятала свою голову в карету и подняла стекло. Дядя вскочил на козлы, округлил свои локти, подтянул возжи, схватил бич, лежавший на крыше кареты, хлестнул передового коня, и пустилась наша длиннохвостая, густогривая четверка полной рысью, делая по пятнадцати добрых английских миль в час и неся за собою старый дилижанс. Батюшки как понеслись борзые кони, управляемые могучей рукою дяди.
Но шум позади их усиливался. Чем быстрее мчался старый дилижанс, тем быстрее мчались и преследователи; люди, лошади, собаки соединились для этой погони. Страшен был этот шум, но и среди него выдавался голос прелестной леди, которая кричала: „Скорее, скорее!“
Они летели мимо темных деревьев, подобно перьям, уносимым ураганом. С быстротой и шумом потока, прорвавшего свои плотины, оставляли они за собою дома, ворота, церкви, стоги сена и всякие другие встречные предметы; но грохот погони становился все громче и громче, и дядя все чаще и чаще слышал дикий крик молодой леди: „Скорей, скорей!“
Дядя налегал на бич и поводья, кони, покрытые белой пеной, мчались, как вихрь, но шум погони увеличивался, и молодая леди кричала: „Скорее, скорее!“ В сильном экстазе дядя стукнул громко ногою по козлам… и увидал, что начинало светать, a он сидит среди двора, принадлежащего каретнику, на козлах старого эдинбургского дилижанса, дрожа от холода и сырости и стуча ногами, чтобы их согреть. Он слез с козел, быстро заглянул внутрь кареты, надеясь там увидать прекрасную молодую леди… Увы! В этом дилижансе не было ни дверец, ни сиденья, от него остался всего один жалкий остов…
Во всяком случае, дядя понимал очень хорошо, что во всем этом скрывалась какая-то непостижимая тайна и что все происходило именно так, как он рассказал. Он остался верным торжественному обещанию, данному молодой леди: отказал многим выгодным невестам и умер холостяком. Он часто толковал, что, не приди ему охота перелезть через забор двора каретника, он никогда бы не узнал, что тени мальпостов, лошадей, кондукторов, почтальонов и пассажиров имеют привычку путешествовать регулярно каждую ночь. При этом он прибавлял обыкновенно, что, по всей вероятности, он был единственным живым существом, ехавшим в качестве пассажира в эту ночь и, я полагаю, он был прав, джентльмены; по крайней мере, мне ни о ком другом слышать не приходилось“.
– Хотелось бы мне знать, что перевозят эти мальпосты в своих почтовых сумках, – сказал трактирщик, слушавший с большим вниманием весь рассказ.
– Конечно, мертвые письма, – заметил странствующий торговец.
– Д-да, должно быть, так, – согласился трактирщик. – A я и не подумал об этом.»







