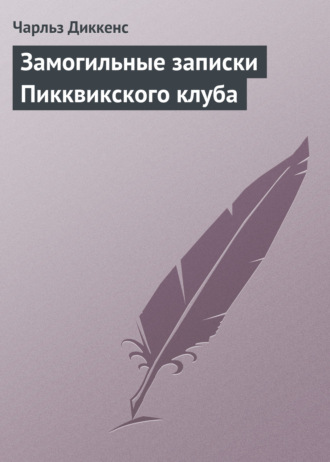
Чарльз Диккенс
Замогильные записки Пикквикского клуба
Глава LVI
Заключающая в себе истинную легенду о принце Блэдуде и историю дяди странствующего торговца.
Насладясь беседой с своим новым другом, м‑ром Винкелем старшим, достопочтенный президент Пикквикского клуба удалился к себе в комнату размышлять о счастливом событии – примирении отца с своими детьми. От глубоких философских соображений мысли великого человека весьма натурально перешли к истории любви молодых людей, и ему припомнилось их тайное свидание в Бристоле, устроенное под руководством великого человека. Припомнилось ему также, что в то знаменательное время он записал два чрезвычайно интересных рассказа, которым придал, во время своего долгого тюремного заключения, литературную форму, с намерением напечатать их при первом удобном случае.
Как только зародилось это воспоминание в мозгу ученого мужа, он тотчас же достал оба рассказа из своего бюро и принялся их снова перечитывать и исправлять.
Через несколько дней они сделались известны всему образованному миру, появившись в печати в одном из распространенных лондонских журналов в следующем виде:
РАЗСКАЗ ПЕРВЫЙ.
Истинная легенда о принце Блэдуде.
«Лет за двести до нашего времени, а, пожалуй, и ближе, на одной из общественных ванн города Бата еще красовалась надпись в честь её могущественного основателя, знаменитого принца Блэдуда, но теперь этой надписи нет и следа.
По словам старинной легенды, изустно передаваемой из века в век, много столетий тому назад этот знаменитый принц возвратился из Афин (куда он ездил за тем, чтобы собрать обильную жатву научных познаний) зараженным проказой, почему не решился предстать к королевскому двору своего отца и удалился в пустыню, где печально проводил время в обществе пастухов и свиней. В этом стаде (говорит легенда) паслась свинья, отличавшаяся от всех своей важной и величественной осанкой; к ней принц почувствовал особенную симпатию, ибо это была не простая свинья, a свинья мудрая, задумчивая, осторожная, целой головой превышавшая своих собратий; хрюканье её было ужасно, укушение пагубно. Молодой принц глубоко вздыхал, взирая на величественную физиономию этой свиньи. Он с грустью думал о своем отце, и слезы текли из его глаз.
Эта мудрая свинья любила полоскаться в мягкой сочной тине. И купалась она не только летом, что и до сих пор делают самые обыкновенные свиньи для собственного освежения и что делали они даже и в те отдаленные от нас времена (что доказывает, конечно, что свет цивилизации уже начинал блестеть, хотя и слабо), – но даже и зимой, во время самых сильных холодов. её кожа была всегда так гладка, лосниста, её взгляд такой светлый и ясный, что принц решился и на себе испробовать очищающие свойства воды, столь благодетельно действующие на его друга. Он сделал опыт. Под черным илом журчали горячие источники Бата. Принц окунулся в них и получил исцеление от своей болезни. Тотчас же он отправился ко двору своего отца, короля, пробыл там некоторое время и вскоре опять возвратился к целебному источнику, основал здесь город и устроил знаменитые ванны.
Конечно, принц с особенным рвением старался отыскать своего друга, но, увы, эти знаменитые воды послужили причиной смерти мудрой свиньи. Она выкупалась в воде, имевшей слишком высокую температуру – и натуральный философ заплатил жизнью за свою страстную приверженность к знанию! Плиний, который шел по его стопам в философии, точно также стал жертвой своей любви к науке.
Такова была легенда. Послушаем теперь, что говорит истинная история.
За много столетий до нашего времени благоденствовал в своем большом государстве знаменитый Люд Гудибрась, король Британии. Он был могущественный монарх. Земля стонала под его стопами, так он был дороден. Его народ согревался светом его лица, так оно было красно и блестяще. Он был король с ног до головы, и хотя он не быль высок ростом, но страшная полнота уравновешивала этот недостаток, и, чего не хватало в вышину, то пополнялось шириной.
Этот добрый король имел королеву, которая восемнадцать лет тому назад произвела ему сына, получившего имя Блэдуд. До десяти лет принц обучался в приготовительном учебном заведении во владениях своего отца, затем, под надзором особоназначенного наставника, отправился в Афины для окончания курса наук. Так как по правилам заведения не требовалось вносить особой платы за то, что воспитанник оставался в школе во время праздничных дней и не было сделано предварительного условия насчет увольнения принца в известные дни домой, он оставался в училище безвыходно целых восемь лет, по истечении которых отец его, король, послал в Афины лорда-канцлера, чтобы выплатить издержки принца и привести его домой; лорд-канцлер исполнил поручение точно и, когда возвратился назад, был милостиво принят королем и тотчас же получил хорошую пенсию.
Когда король Люд увидел своего сына и заметил, что принц стал красивым молодым человеком, он тотчас же дал себе слово как можно скорее женить принца, чтобы славный род Люда не прекращался до скончания веков. В этих видах он составил чрезвычайное посольство из благородных сеньоров, которым нечего было делать, между тем каждый из них горел желанием получить доходное место. Так удачно составленное посольство Люд послал к соседнему королю просить, чтобы его величество отдал свою прелестную дочь замуж за его сына. При этом он приказал рассыпаться в уверениях, что британский король, хотя пламенно желает сохранить дружеские отношения с королем, своим братом и другом, но, в случае неудачи в сватовстве, найдется вынужденным к горькой необходимости сделать визит своему соседу с огромной армией и выколоть ему глаза. Соседний король, как более слабейший, на такое категорическое заявление отвечал, что он чувствует себя крайне обязанным королю, своему другу, за его доброту и великодушие, и что его дочь сочтет за честь сделаться женой принца Блэдуда, который может во всякое время приехать за ней и получить её руку.
Едва этот ответ достиг Англии, вся страна возликовала; со всех сторон раздались радостные восклицания, всюду устроились блистательные пиры и слышался звон монеты, которая переходила из рук народа в кошелек сборщика податей королевского казначейства, собиравшего ее для пополнения расходов, которых потребует счастливое бракосочетание. Король Люд выслушал ответ соседнего короля с высоты своего трона, в полном собрании своего совета, и, по случаю великой радости, приказал лорду министру юстиции принести самые лучшие вина и призвать менестрелей, – и пошел у него пир горой.
Среди этих празднеств и всеобщей радости только один человек не пил, когда искрометное вино шипело в его стакане; не танцевал, когда инструменты менестрелей издавали самые чарующие звуки. Этот человек был сам принц Блэдуд, в честь которого народ выворачивал свои карманы, наполняя его кошелек. Принц, позабыв, что за него должен официально влюбляться министр иностранных дел, в противность правилам дипломатии и политики, позволил себе сделать самопроизвольно сердечный выбор и уже совершил помолвку с дочерью одного благородного афинянина.
Здесь для сравнения мы не можем не выставить поразительный пример одного из многочисленных преимуществ цивилизации и современной утонченности нравов. Если б принц жил в наше время, он без всякого зазрения совести женился бы на принцессе, избранной его отцом и немедленно и серьезно принялся бы за дело, чтобы тем или другим способом избавиться от неё. Он мог бы разбить её сердце систематическим презрением и оскорблениями; a если бы спокойная гордость, свойственная её полу, и сознание своей невинности дали бы ей силу противостоять его возмутительному обращению с нею, ему не составило бы труда другим способом отнять её жизнь и избавиться от неё без шуму. Но ни одно из подобных средств не пришло в голову принцу Блэдуду, и он решился выпросить у отца особую аудиенцию и признаться ему во всем.
Самая древнейшая прерогатива королей – управлять всем, кроме своих страстей. Король Люд предался самому возмутительному гневу; он бросил свою корону на пол, потом опять надел ее на голову (в то время короли носили корону на своей голове, a не держали ее в Тоуэре): затопал ногами, бил себя в голову; требовал ответа у неба, зачем его собственный сын возмущается против него; наконец, призвал свою стражу и приказал запереть принца в тюрьму; – такое наказание встарину короли обыкновенно назначали своим сыновьям, если их брачные наклонности расходились с видами и соображениями короля, их отца.
Прошел почти год с той поры, как принц Блэдуд был засажен в тюрьму, и его глаза не видели никакого другого предмета, кроме каменной стены, a об освобождении его не было ни слуху, ни духу. Весьма натурально, что принц стал думать о побеге; в его уме созрел подходящий план бегства, и через несколько месяцев он привел его в исполнение, вонзил при этом столовый нож в сердце своего тюремщика, из опасения, что этот бедняк, имевший семью, будет заподозрен, как пособник бегства принца, и примерно наказан раздраженным королем.
Монарх дошел до крайней степени бешенства, когда узнал о побеге своего сына. Сначала он не знал, на ком выместить свой гнев, как вдруг, к счастью, ему пришел на память лорд-канцлер, ездивший в Афины за принцем: в одно и то же время король отнял от него пенсию и снял с него голову.
Между тем молодой принц, искусно переодетый, бродил пешком по владениям своего отца; он весело и хладнокровно переносил все лишения, поддерживаемый сладкими воспоминаниям об юной афинянке, бывшей невольной причиной его несчастий. Однакож он остановился отдохнуть в деревне и увидел, что большая часть её жителей весело танцевала на площади, a лица всех их блестели благонамеренной радостью; принц подошел к ним и рискнул спросить их, с чего это они так радуются и веселятся.
– Разве вы не знаете, о странник, – заметил ему один старик, – о, недавней прокламации нашего милостивого короля?
– Прокламации! Нет. Какой прокламации? – спросил принц, который, проходя по проселочным путям, не знал ничего, что происходило на больших дорогах (если таковые в то время существовали).
– Дело в том, – сказал крестьянин, – что иностранная девица, на которой хотел жениться принц, вышла замуж за благородного иностранца в своей стране; наш король, объявляя об этом событии, приказал везде праздновать его, так как теперь принц Блэдуд, конечно, возвратится ко двору своего отца и женится на принцессе, выбранной его отцом; говорят, она прекрасна, как полуденное солнце. Ваше здоровье, сэр. Боже, спаси короля!
Принц не захотел дальше разговаривать и ушел из деревни быстрыми шагами. Он скрылся в соседний лес и бродил там по самым глухим местам, бродил день и ночь, бродил под палящими лучами солнца, бродил при бледном свете луны, не обращая внимания ни на полуденный жар, ни на ночные туманы. Бродя таким образом из леса в лес, из пустыни в пустыню, и желая достигнуть Афин, он очутился в Бате.
Города Бата, впрочем, в то время не существовало, и принц пришел только на то место, где теперь расположен этот город. В то время там не было и признаков человеческого жилья, не замечалось следов человека; но была та же прелестная природа, как и теперь, то же восхитительное местоположение, та же красивая долина, тот же залив, те же могучие горы, которые издали кажутся мрачными, но на близком расстоянии теряют свою дикость и представляют из себя мягкие, грациозные контуры. Очарованный красотою картины, принц упал на траву; слезы обильно потекли из его глаз и падали на его распухшие от усталости ноги.
– О! – вскричал несчастный Блэдуд, складывая свои руки и печально подняв свои глаза к небу. – О, если бы мой тяжелый путь мог окончиться здесь, на этом месте. О, если бы эти благодетельные слезы, которыми я оплакиваю свои несбывшиеся надежды и обманутую любовь, могли мирно течь целые века!
Его мольба была услышана. То было время владычества языческих богов, которые частенько ловили людей на слове с предупредительностью, подчас тягостною для проболтавшегося смертного. Земля раскрылась под ногами принца, он упал в пропасть, которая мгновенно закрылась над его головой, но его горячие слезы продолжали течь, просачиваясь через землю и образуя источник теплой воды: текут они и теперь».
* * *
Второй рассказ записан м‑ром Пикквиком со слов странствующего торговца, передавшего его в трактире за стаканом доброго пунша собранию из нескольких человек, и ведется от его имени. Он носит заглавие:
История дяди странствующего торговца.
«Мой дядя, джентльмены, был большой весельчак, шутник, забавник, искусник на все руки, одним словом, душа человек. Жаль, что вы его не знали лично, джентльмены. Однакож, подумав, я должен сказать: и хорошо, что вы его не знали, так как, следуя законам природы, если б вы его знали, вы были бы теперь в могиле или, по крайней мере, приготовлялись покинуть этот мир, что, конечно, лишило бы меня бесценного удовольствия беседовать с вами в эту минуту. Но, джентльмены, я тем не менее пожелал бы, чтобы ваши отцы и матери были знакомы с моим дядей. Могу уверить вас, что они остались бы им вполне довольны, в особенности ваши почтенные матушки. Он обладал многими добродетелями, но преобладающими из них были две: необыкновенная способность приготовлять пунш и удивительное уменье петь застольные песни. Извините, джентльмены, что я остановился на меланхолическом воспоминании об этих достоинствах, которые более уже не существуют; но вы не каждый день в неделе встретите такого человека, как мой дядя.
Я всегда ставил в честь моему дяде, что он был другом и товарищем Тома Смарта, агента известного дома Вильсон и Слэм. Мой дядя разъезжал по поручениям Тиджина и Уэльпа; но долгое время ему приходилось ездить по тем же местам, которые посещал Том; и в первую же ночь, как они встретились, мой дядя почувствовал склонность к Тому, a Том привязался к дяде. Не прошло и получаса после их первого знакомства, как они уже держали пари, кто приготовит из них лучший пунш и скорее выпьет его целую кварту одним духом. Дядя выиграл первое пари, т. е. приготовил лучший пунш, зато Том выпил раньше: он перегнал дядю на чайную ложечку. Затем они потребовали каждый по новой кварте и выпили за здоровье один другого, и с этого времени стали друзьями навсегда. В подобных событиях играет главную роль судьба, джентльмены, она сильнее нас.
Что касается наружности, дядя мой был немного пониже среднего роста, немного потолще обыкновенного размера и, может быть, лицо его было чуть-чуть излишне красновато. Физиономия у него была самая развеселая, джентльмены: нечто в роде Пэнча (Punch, полишинель), только с более красным носом и подбородком; глаза у него вечно моргали и светились веселостью, a улыбка – не то, что ваши ничего не выражающие, деревянные усмешки, – a настоящая, веселая, сердечная, добродушная улыбка не сходила никогда с его уст. Однажды его выбросило из кабриолета, и он ударился головою прямо о дорожную тумбу. Он так и остался недвижим на месте, и лицо у него, попав как раз в кучу щебня, до того было повреждено и изуродовано порезами, что, по собственному сильному выражению дяди, родная мать не узнала бы его, если бы вернулась снова на землю. Впрочем, рассудив хорошенько, джентльмены, я полагаю, что она и без того не могла бы его, узнать, потому что умерла, когда дядюшке было всего от роду два года и семь месяцев, и не случись даже щебня, одни высокие дядины сапоги сбили бы совсем с толку почтенную леди, не говоря уже о его веселой, красной роже. Как бы там ни было, он свалился, и я слыхал от него не раз, что человек, поднявший его, рассказывал после, что дядя лежал с превеселой улыбкой, как будто только споткнулся слегка; a когда пустили ему кровь и в нем обнаружились первые слабые признаки его возвращения к жизни, он вскочил на постели, разразился громким хохотом, поцеловал молодую женщину, державшую тазик, и спросил себе тотчас же порцию баранины с маринованными орехами. Он очень любил маринованные орехи, джентльмены. Он говорил всегда, что, если есть без уксуса, то нет лучшей закуски к пиву.
Главную свою поездку дядя совершал осенью; он собирал в это время долги и принимал заказы на севере: ехал из Лондона в Эдинбург, из Эдинбурга в Глазго, из Глазго обратно в Эдинбург и затем, на закуску, в Лондон. Вы понимаете, конечно, что вторичная его поездка в Эдинбург предпринималась им для собственного удовольствия. Он ездил туда на недельку единственно для того, чтобы повидаться со старыми друзьями, и, завтракая с одним, перекусывая с другим, обедая с третьим и ужиная с четвертым, он проводил очень приятно эти денечки своего отдыха. Не знаю, джентльмены, случалось-ли кому из вас угощаться настоящим, существенным, гостеприимным шотландским завтраком, a потом перекусить слегка блюдом устриц, да запить все это добрыми двумя стаканами виски да дюжиной хорошего элю. Если вам приводилось на себе самих испытывать такое угощение, то вы согласитесь со мною, что требуется порядочно крепкая голова, чтобы еще плотно пообедать и поужинать после этого.
Но, чтобы мне провалиться на месте, если я вру, все это было дядюшке ни почем. Он был такой богатырской комплекции, что такой подвиг считал простою детскою игрушкой. Он говаривал при мне, что мог пировать хоть каждый день с дундейцами и возвращаться потом домой не шатаясь; a ведь у жителей Дунди такие крепкие головы и такой крепкий пунш, джентльмены, каких вы не встретите более нигде между обоими полюсами. Мне рассказывали о состоянии одного доброго парня из Глазго с таким же парнем из Дунди; борцы пятнадцать часов к ряду пили не переставая. Оба они задохлись почти в один момент, насколько это можно было засвидетельствовать, но, за этим малым исключением, нисколько не пострадали при этом.
Однажды вечером, почти ровно за сутки до своего обратного путешествия в Лондон, дядя ужинал у одного своего хорошего старого приятеля, судьи, какого-то там Мака с четырьмя слогами еще после того, жившего в древнем городе Эдинбурге. Была тут жена судьи и три дочки судьи, и подросток – сынок судьи, и еще трое или четверо здоровенных, густыми бровями опушенных, веселых шотландских стариков-молодцов, которых судья пригласил для чествования моего дяди и для забавы честной компании. Ужин был на славу. Была тут и форель с икрою, и финская вахня, и головка ягненка, и сальник – великолепнейшее шотландское блюдо, джентльмены, о котором дядя мой говорил, бывало, что оно, появляясь на столе, всегда казалось ему желудком купидона! Сверх того, было много еще других блюд и закусок, название которых я позабыл, но все-таки блюд и закусок великолепных. Девушки были миловидны и любезны; жена судьи милейшее из всех живых существ; дядя был в самом превосходнейшем расположении духа; понятно, что время шло у них весело и приятно, молодые особы хихикали, старая леди громко смеялась, a судья и прочие старики хохотали до того, что даже побагровели. Не помню хорошенько, по сколько рюмок виски тогда было выпито после ужина, но знаю, что к часу по полуночи подросток – сынок судьи совсем потерял сознание в то время, как силился затянуть первую строфу песни: „Вилли варил пиво из ячменя“, a так как с полчаса его одного только видел дядя за столом, то и решил, что пора отправляться во свояси, тем более, что выпивка началась еще в семь часов и следовало воротиться домой в приличное время. Но, рассудив, что было бы неучтиво уйти без обычного напутствия, дядя пригласил себя сесть, налил себе еще рюмку, встал, чтобы провозгласить свое собственное здоровье, обратился к себе с милым и весьма лестным спичем и затем выпил тост с величайшим сочувствием. Никто не проснулся, однако; тогда дядя выпил еще с ноготок, ровно настолько, чтобы опохмелиться, и, схватив неистово свою шляпу, ринулся вон на улицу.
Ночь была темная, бурная, когда дядя запер за собою дверь дома судьи. Нахлобучив покрепче свою шляпу, для того, чтобы не снесло ее ветром, он засунул руки в карманы и, взглянув наверх, сделал краткое наблюдение над состоянием атмосферы. Тучи неслись с крайнею быстротой мимо луны, то совершенно заслоняя ее, то дозволяя ей выглянуть в полном блеске и пролить свет на все окружающие предметы; затем, они снова набрасывались на нее с удвоенной быстротой и снова погружали все в непроглядную темь. „Право, так не годится!“ сказал дядя, обращаясь к погоде, как лично оскорбленный ею. „Это вовсе не то, что мне требуется для путешествия. Решительно не годится!“ заключил он внушительно и, повторив это несколько раз, снова отыскал с некоторым трудом свое равновесие, потому что у него немножко закружилась голова от долгого смотрения на небо, и пошел потом весело вперед. „Дом судьи находился в Канонгэте, a дяде надо было идти на другой конец Лейтского бульвара, так сказать, с милю пути. С каждой стороны у него высились к темному небу громадные, узкие, разбросанные врозь дома, с фасадами, потемневшими от времени, с окнами, не избегнувшими, по-видимому, участи человеческих глаз и потускневшими, впавшими с годами. Дома были в шесть, семь, восемь этажей вышиною; этажи громоздились на этажах, как в детских карточных домиках, бросая темные тени на грубо вымощенную дорогу и еще усиливая ночную темноту. Кое-какие масляные фонари торчали на больших расстояниях друг от друга, но они служили разве указанием каких-нибудь грязных калиток в соседних заборах или тех пунктов, на которых общая дорога соединилась, уступами и извилинами, с разными лежащими около неё низменностями. Поглядывая на все эти предметы с пренебрежением, взглядом человека, который видывал их и прежде слишком часто и никогда не считал достойными своего внимания, дядя шел по середине улицы, заложив большие пальцы каждой руки в карманы своего камзола, напевая по временам разные мотивы с таким зыком и одушевлением, что мирные граждане пробуждались от своего первого сна и лежали дрожа в своих постелях, пока звук не замирал в отдалении. Успокоив себя мыслию, что то был просто какой-нибудь забулдыга, отыскивавший свой путь домой, они укрывались потеплее и погружались снова в сон.
Я рассказываю вам все эти подробности и упоминаю, что дядя шел по середине улицы, держа пальцы в камзоле, для того, чтобы вы убедились, что, как он сам часто говаривал, джентльмены, (и весьма основательно) – в этой истории не было ничего необыкновенного, что вы и уясните себе, если уразумеете хорошенько с самого начала, что дядя был человек вовсе не романического и не суеверного настроения.
Джентльмены, мой дядя шел, засунув пальцы в карманы камзола, держась самой середины улицы и напевая то любовный куплет, то вакхический, a когда то и другое ему надоело, посвистывая мелодическим образом, шел до тех пор, пока не достиг Северного моста, соединяющего на этом пункте старый Эдинбург с новым. Здесь он приостановился на минуту, чтобы поглазеть на странные, неправильные массы огоньков, висевших один над другим и иной раз так высоко в воздухе, что они уподоблялись звездочкам, светящимся с замковых стен, с одной стороны, и Кальтонова холма, с другой, точно из действительных воздушных дворцов, между тем как старый живописный город спал тяжелым сном в тумане и мраке под ними внизу. Голлиродский дворец и часовня, охраняемые денно и нощно, как говаривал один из приятелей моего дяди, троном старого Артура, высились нахмуренно и мрачно, точно угрюмые гении над древним городом. Я сказал, джентльмены, что мой дядя остановился на минуту, чтобы оглядеться; после того, сказав любезности погоде, которая немного прояснилась, хотя луна уже заходила, он, как и прежде, величественно пошел вперед, держась с достоинством середины дороги и посматривая с таким выражением, как будто желал встретиться с кем-нибудь, кто вздумал бы оспаривать у него обладание дорогой. Но не встретил он никого, кто бы захотел посоперничать с ним насчет обладания ею, и таким образом дядя продолжал свой путь, заткнув пальцы в карманы камзола, кроткий, как овца.
При конце Лейтского бульвара дяде приходилось перейти через большое пустое пространство, отделявшее его от переулка, в который ему следовало повернуть, чтобы прямее пройти к дому. В те времена на этом пустыре находилось отгороженное место, принадлежавшее одному каретнику, покупавшему у почтового управления старые, негодные к службе дилижансы. Дядя мой, большой охотник до всяких экипажей, старых, юных или среднего возраста, забрал себе в голову своротить с дороги только для того, чтобы взглянуть сквозь частокол на старые экипажи каретника, которых, сколько он помнит, было тут с дюжину в весьма разрушенном и запустелом виде. Дядя, джентльмены, был человек пылкий и настойчивый; находя, что сквозь частокол плохо видно, он перелезь через него и, усевшись спокойно на старой дроге, принялся весьма серьезно рассматривать дилижансы.
Было их с дюжину, было, может быть, и более, – дядя никогда не удостоверился в этом в точности и, как человек крайне правдивый насчет цифр, не хотел говорить утвердительно о их числе, – но сколько бы их там ни было, они стояли нагроможденные в кучу и в такой степени запустения, какую только можно себе вообразить. Дверцы их были сняты с петель и брошены прочь, обивка оторвана и только кой-где еще придерживалась ржавыми гвоздиками; фонари были разбиты, дышла исчезли, железо покрылось ржавчиной, краска сошла. Ветер свистел сквозь щели этих оголевших деревянных останков, и дождь, собравшийся на их крышках, падал капля по капле во внутренность с пустынным меланхолическим звуком. То были, так сказать, разлагавшиеся скелеты отшедших экипажей, и в этом пустынном месте, в этот ночной час они казались страшными и наводящими уныние.
Дядя сидел, опершись головою о руки, и думал о той озабоченной, суетливой толпе, которая каталась в прежние годы в этих самых старых каретах, a теперь, может быть, изменилась и также безмолвствовала, как они. Он думал о том множестве людей, которым эти грязные, заплесневелые экипажи приносили ежесуточно и во всякую погоду и трепетно ожидаемые извещения, и страстно желаемые отсрочки, и обещанные уведомления о здоровьи и благополучии, и неожиданные вести о болезни и смерти. Купец, любовник, жена, вдова, мать, школьник, даже малютка, ковылявший к двери при щелканьи почтового бича, как все они ожидали, бывало, прибытия старого дилижанса! И где были все они теперь?
Джентльмены, дядя мой говаривал, что он помышлял обо всем этом в то время, но я скорее подозреваю, что он вычитал это позднее из какой-нибудь книжки, потому что сам же он положительно подтверждал, что впал в род забытья, сидя на старой дроге и глядя на разрушенные дилижансы; он был внезапно пробужден из него каким-то звучным церковным колоколом, пробившим два часа. Дядюшка же был обыкновенно такой неторопливый мыслитель, что действительное обдумание всех вышесказанных вещей заняло бы его, по крайней мере, до половины третьего. Я держусь поэтому того мнения, джентльмены, что мой дядя впал в род забытья, не успев подумать решительно ни о чем.
Как бы там ни было, впрочем, церковный колокол пробил два. Дядя мой проснулся, протер себе глаза и вскочил на ноги от изумления.
Лишь только пробило два часа, в одно мгновение все тихое и пустынное место оживилось и закипело деятельностью. Дверцы дилижансов снова висели на своих петлях, обивка была в порядке, железные части блестели заново, краска посвежела, фонари горели; на всех козлах были подушки и длинные чехлы, рассыльные совали пакеты в каждый экипажный карман, кондукторы укладывали сумки с письмами, конюхи выливали ведра воды на поновленные колеса, рабочие налаживали дышла к каждому дилижансу, явились пассажиры, прислуга тащила их чемоданы, кучера запрягали лошадей – одним словом, было совершенно ясно, что каждый из находившихся тут экипажей сноровлялся в путь. Джентльмены, дядя мой при этом зрелище вытаращил глаза до такой степени, что потом, до самой последней минуты своей жизни, дивился, как это он не утратил способности снова закрывать их.
– Садитесь, сэр, – сказал кто-то, и в то же время дядя почувствовал у себя на плече чью-то руку, – вы записаны на внутреннее место. Вам, я полагаю, лучше сесть теперь же.
– Я записан? – произнес дядя, оборачиваясь.
– Разумеется.
Дядя мой, джентльмены, не мог возразить ничего, до того он был озадачен. Конечно, это было удивительно, но еще чуднее показалось дяде, что, хотя здесь теснилась целая толпа и ежеминутно прибывали новые лица, но нельзя было объяснить, откуда они появлялись: казалось, что они родятся каким-то странным образом из воздуха или из земли и исчезают тем же путем. Лишь только рассыльный сдавал свою ношу в дилижанс и получал свое вознаграждение, он поворачивался и уходил, но прежде, чем мой дядя успевал выразить удивление и решить, куда пропал рассыльный, полдюжины новых рассыльных уже торчали на том же месте и гнулись под тяжестью нош, которые казались до того громадными, что должны были их раздавить. И пассажиры были одеты как-то странно: все в длинных, широко окаймленных, вышитых кафтанах, с большими манжетами и без воротников. И в париках, джентльмены, – больших, настоящих париках с косой назади. Дядя не мог понять решительно ничего.
– Ну, садитесь же, что ли, ведь уж пора, – повторил человек, обращавшийся прежде к дяде. Он был одет в платье почтового кондуктора, был тоже в парике и с громадными манжетами на своем кафтане; в одной руке он держал фонарь, a в другой громадную двухстволку, готовясь в то же время, запустить эту руку в свой маленький дорожный ящик. – Сядете-ли вы, наконец, Джек Мартин? – сказал он, поднося фонарь к лицу моего дяди.
– Позвольте! – произнес дядя, отступая на шаг или два. – Это совсем уж бесцеремонно!
– Так стоит на путевом листе, – возразил кондуктор.
– И не стоит перед этим „мистер?“ – спросил дядя, потому что он находил, джентльмены, что кондуктор, которого он совсем не знал, называя просто-напросто Джеком Мартином, позволяет себе вольность, которую, конечно, не допустило бы почтовое управление, если б только этот факт дошел до его сведения.
– Нет, не стоит, – хладнокровно отвечал кондуктор.
– И за путь заплочено? – полюбопытствовал дядя.
– Разумеется! – отвечал кондуктор.
– Заплочено?.. – произнес дядя. – В таком случае… который дилижанс?
– Вот этот, – сказал кондуктор, указывая на старомодный эдинбурго-лондонский мальпост, у которого были уже отворены дверцы и подножки опущены. – Стойте… вот и другие пассажиры. Пропустите их вперед.
– При этих словах кондуктора появились, прямо под носом у моего дяди, несколько пассажиров. Впереди всех шел молодой джентльмен в напудренном парике и небесно голубом кафтане, вышитом серебром, очень полном и широком в полах, которые были обшиты накрахмаленным полотном. Тиджин и Уэльпс торговали ситцами и льняными тканями для жилетов, поэтому дядя разузнавал материи с первого взгляда. На пассажире были еще короткие штаны и род штиблетов, надетых поверх его шелковых чулков; башмаки с пряжками; на руках манжеты; на голове треугольная шляпа; с боку длинная тонкая шпага. Полы его жилета доходили до бедер, a концы галстуха до пояса. Он важно приблизился к дверцам кареты, снял свою шляпу и продержал ее над своею головою, вытянув руку во всю длину и оттопырив при этом мизинец в сторону, как делают многие щепетильные люди, держа чашку чая; потом сдвинул ноги, отвесил глубокий поклон и протянул вперед свою левую руку. Мой дядя хотел уже подвинуться вперед и от всего сердца пожать протянутую руку джентльмена, как вдруг заметил, что все эти учтивости относились не к нему, a к молодой леди, которая показалась в эту минуту у подножки и была одета в старомодное зеленое бархатное платье с длинною талиею и корсетиком. На голове у неё не было шляпки, джентльмены, a была она закутана в черный шелковый капюшон, но когда она оглянулась на минуту, готовясь войти в дилижанс, дядя увидел такое восхитительное личико, какого не встречал никогда, – даже и на картинках. Она вошла в карету, придерживая одною рукою свое платье, и дядя говаривал всегда, с прибавлением крепкого словца, когда рассказывал эту часть истории, что он и не поверил бы, что ноги и ступни могут быть доведены до такой степени совершенства, если бы не удостоверился в том собственными глазами.







