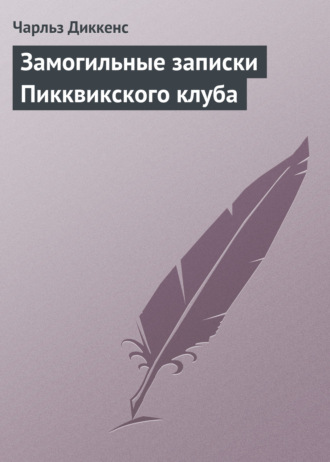
Чарльз Диккенс
Замогильные записки Пикквикского клуба
– Что это значит – по конфиденции? – спросил Самуэль.
– Это уж так выражаются по закону, – отвечал сапожник.
– Темновато выражается закон, и от этого, должно быть, вышла беда. Однакож, продолжайте.
– И вот, сударь мой, когда я только-что хотел было приняться за исполнение этого завещания, племянницы и племянники, все до одной души, поголовно ополчились на меня и устроили caveat[27].
– Это что значит?
– Законный инструмент, которым хотят сказать, кому следует: – «не двигайся с места».
– Хороший инструмент. Ну?
– Но вот, сударь мой, ополчившись против меня, они все также перегрызлись между собою и принуждены были взять caveat обратно из суда, a я заплатил за все издержки по этому делу. Лишь только я расплатился, как одному племяннику опять пришло в голову подать просьбу, чтоб высокопочтенные судьи занялись пересмотром этого завещания. Дело закипело снова, в судейской конторе исписали шесть стоп бумаги, и один старый глухой джентльмен настрочил резолюцию в таком тоне: – «поелику завещатель был, очевидно, не в своем уме, когда подписывал свою духовную, то вышеозначенный мастер сапожного цеха присуждается сим отказаться от своей доли наследства, возвратив оную законным наследникам, и равномерно обязуется, без всякого замедления, уплатить суду все юридические потери и убытки по текущему делу». – Я подал апелляцию, и по моей просьбе дело перешло на рассмотрение к трем или четырем джентльменам, которые уже слышали о нем подробно в другом суде, где они считаются адвокатами сверх комплекта, – с тою только разницею, что там называют их докторами, a в этом другом суде – делегатами. И вот эти господа, по чистой совести, утвердили и укрепили во всей силе резолюцию глухого старого джентльмена. После того я перенес весь этот процесс в высший сиротский суд и вот в нем-то и купаюсь до сих пор и, как надо полагать, буду купаться до скончания жизни. Адвокаты мои уже давно вытянули из моего кармана законную тысячу фунтов наследства, и я посажен в тюрьму на том основании, что не доплатил сотни фунтов судебных проторей и убытков. Некоторые джентльмены советовали мне подать жалобу в парламент, и я бы не прочь от этого, да только им, видишь ты, недосужно навещать меня в этом месте, a мне тоже неудобно было путешествовать к ним. Длинные мои письма надоели им и прискучили мало-помалу, и теперь уж они совсем забыли это каверзное дело. Вот и вся чистейшая истина, без преувеличений и прикрас, как в этом могли бы поручиться около пятидесяти особ за стенами этого тюремного замка, в котором, по всей вероятности, суждено мне умереть.
Сапожник остановился, желая удостовериться в произведенном впечатлении; но Самуэль в эту минуту уже спал и было очевидно, что конец истории не достигнул до его ушей. Арестант испустил глубокий вздох, вытряхнул пепел из трубки, завернулся в одеяло, и скоро отрадный сон сомкнул его глаза.
Поутру, на другой день, м‑р Пикквик сидел один в своей комнате за чашкой чаю, между тем как Самуэль Уэллер, в комнате башмачника ваксил господские сапоги и чистил платье. В это время кто-то постучался в дверь, и прежде, чем м‑р Пикквик успел произнести: – «войдите!» за порогом его жилища показалась косматая голова и грязная бархатная фуражка, в которых великий человек немедленно угадал личную собственность м‑ра Смангля.
– С добрым утром, сэр! – сказал этот достойный джентльмен, сопровождая свой вопрос дюжиною маленьких поклонов, – вы сегодня ожидаете кого-нибудь? Вон там внизу спрашивают вас какие-то три джентльмена, должно быть, славные ребята: они стучат во все двери, и жильцы наши бранят их на чем свет стоить за это беспокойство.
– Ах, Боже мой, как это глупо с их стороны! – воскликнул м‑р Пикквикь, быстро вставая с места. – Я не сомневаюсь, что это некоторые из моих близких друзей: я ожидал их еще вчера.
– Ваши друзья! – вскричал Смангль, схватив м‑ра Пикквика за руку. – Ни слова больше. Будь я проклят, если с этой минуты они не будут также и моими друзьями. Мивинс тоже будет считать их своими друзьями. Ведь этот Мивинс, скажу я вам, собаку съел на все руки, не правда ли, почтеннейший? – заключил м‑р Смангль с великим одушевлением.
– Я еще так мало знаю этого джентльмена, – сказал м‑р Пикквик, – что…
– Ни полслова больше, ни четверть слова! – перебил Смангль, ухватившись за плечо м‑ра Пикквика, – вы узнаете его вдоль и поперек не дальше, как сегодня, и, уж разумеется, будете от него в восторге. У этого человека, сэр, – продолжал Смангль, принимая торжественную позу, – такие комические таланты, что он был бы истинным сокровищем для Дрюриленского театра.
– Неужели?
– Клянусь честью. Послушали бы вы, как он декламирует лучшие места из наших национальных комедий: просто трещат уши, и глазам не веришь. Вот что! И уж я поручусь заранее, что вы полюбите его больше всех своих друзей, иначе быть не может. Водится за ним один только маленький грешок… ну, да это пустяки, вы знаете.
Когда м‑р Смангль при этом намеке тряхнул головой и бросил на своего собеседника симпатический взгляд, м‑р Пикквик в ожидании дальнейших объяснений, проговорил только: – «А!» – и с беспокойством взглянул на дверь.
– А! – повторил м‑р Смангль, испуская тяжелый и продолжительный вздох. – Лучшего товарища и собеседника не найти вам в целом мире, за исключением, разумеется, одного только этого недостатка. Если бы, примером сказать, в эту самую минуту дедушка его вышел из могилы и явился перед его глазами, он бы непременно попросил у него взаймы фунтов двести под собственную свою росписку на гербовом листе в восемнадцать пенсов.
– Ах, Боже мой! – воскликнул м‑р Пикквик.
– Это уж так верно, как я имею честь разговаривать с вами, – подтвердил м‑р Смангль. – A что и того вернее: он прокутил бы эти деньгии в какую-нибудь неделю, a там опять стал бы просить взаймы, уж, конечно, без отдачи.
– Вы сообщаете мне очень замечательные подробности, – сказал м‑р Пикквик, – только знаете, когда мы этак разговариваем с вами, приятели мои, вероятно, слишком беспокоятся, что не могут отыскать меня в этом месте.
– О, это ничего, я сейчас проведу их, – сказал Смангль, делая шаг к дверям, – прощайте! Я уж, разумеется, не стану вас беспокоить, когда вы будете принимать друзей. – Да, кстати…
При этой последней фразе, м‑р Смангль вдруг остановился, запер дверь и, пересеменивая на цыпочках к м‑ру Пикквику, сказал ему на ухо:
– Не можете-ли вы, почтеннейший, ссудить мне полкроны до конца будущей недели – а?
М‑р Пикквик с трудом удержался от улыбки; но, сохраняя, однако ж, по возможности спокойный вид, вынул требуемую монету и положил ее на ладонь м‑ру Сманглю, после чего этот джентльмен, таинственно прищурив левым глазом и кивнув головой, выюркнул из дверей, отправившись таким образом на поиски за тремя джентльменами, с которыми он и воротился через несколько минут. Затем, еще раз подмигнув м‑ру Пикквику в удостоверение, что не забудет своего долга, он окончательно удалился из его жилища, и великий человек остался наедине со своими друзьями.
– Ах, милые друзья мои, – сказал м‑р Пикквик, попеременно пожимая руки м‑ра Топмана, м‑ра Винкеля и м‑ра Снодграса, – как я рад, что наконец вижу вас в своей печальной квартире!
Весь триумвират приведен был в трогательное умиление при взгляде на великого человека. М‑р Топман плачевно покачал головой; м‑р Снодграс, снедаемый душевной скорбью, приставил к своим глазам носовой платок; м‑р Винкель удалился к окну и зарыдал.
– С добрым утром, господа! – закричал Самуэль, входя в эту минуту с сапогами и вычищенным платьем своего господина. – Прочь тоска и печали. Приветствую вас, джентльмены!
– Этот молодец, – сказал м‑р Пикквик, слегка ударяя по голове своего слугу, когда тот, стоя на коленях, застегивал полусапожки на ногах своего господина, – этот молодец вздумал арестовать самого себя, чтобы не разлучаться со мною.
– Как! – воскликнули в один голос друзья м‑ра Пикквика.
– Да, джентльмены, – сказал Самуэль, – я здесь арестант, с вашего позволения; жалкий узник, как выразилась одна почтенная леди.
– Арестант! – воскликнул м‑р Винкель с необыкновенным волнением.
– Эгой, сэр! – отвечал Самуэль, приподнимая голову. – Что новенького с вашею честью?
– Я было надеялся, Самуэль, что… ничего, ничего, – сказал м‑р Винкель скороговоркой.
В словах и манерах м‑ра Винкеля обнаруживалось такое странное и необыкновенное расстройство, что м‑р Пикквикь бросил на своих друзей изумленный взор, требуя от них объяснений этого явления.
– Мы сами не знаем, – сказал м‑р Топман, отвечая громко на этот безмолвный вопрос. – Он был очень беспокоен в эти последние два дня, и обращение его сделалось необыкновенно странным, так что он решительно не похож на себя. Мы уж принимались его расспрашивать, да только он ничего не объяснил нам.
– Тут, право, нечего и объяснять, – сказал м‑р Винкель, краснея, как молодая девушка, под влиянием проницательных взоров м‑ра Пикквика. – Уверяю вас, почтенный друг, что со мною ничего особенного не случилось. Мне вот только необходимо на несколько дней отлучиться из города по своим собственным делам, и я хотел просить вас, чтобы вы отпустили со мной Самуэля.
Изумление на лице м‑ра Пикквика обнаружилось в обширнейших размерах.
– Мне казалось, – продолжал м‑р Винкель, – что Самуэль не откажется поехать со мною; но уж теперь, конечно, нечего об этом думать, когда он сидит здесь арестантом. Я поеду один.
Когда м‑р Винкель произносил эти слова, м‑р Пикквик почувствовал с некоторым изумлением, что пальцы Самуэля задрожали на его полусапожках, как будто он был озадачен неожиданною вестью. Самуэль взглянул также на м‑ра Винкеля, когда тот кончил свою речь, и они обменялись выразительными взглядами, из чего м‑р Пикквик заключил весьма основательно, что они понимают друг друга.
– Не знаете-ли вы чего-нибудь, Самуэль? – спросил м‑р Пикквик.
– Нет, сэр, ничего не знаю, – отвечал м‑р Уэллер, принимаясь застегивать остальные пуговицы с необыкновенною поспешностью.
– Правду-ли вы говорите, Самуэль?
– Чистейшую, сэр, – ничего я не знаю, и не слышал ничего вплоть до настоящей минуты. Если в голове у меня и вертятся какие-нибудь догадки, – прибавил Самуэль, взглянув на м‑ра Винкеля, – я не в праве высказывать их из опасения соврать чепуху.
– Ну, и я не вправе предлагать дальнейшие расспросы относительно частных дел своего друга, как бы он ни был близок к моему сердцу, – сказал м‑р Пикквик после кратковременной паузы, – довольно заметить с моей стороны, что я тут ровно ничего не понимаю. Стало быть, нечего и толковать об этом.
Выразившись таким образом, м‑р Пикквик свел речь на другие предметы, и м‑р Винкель постепенно начал приходить в спокойное и ровное состояние духа, хотя не было на его лице ни малейших признаков беззаботного веселья. Друзьям представилось слишком много предметов для разговора, и утренние часы пролетели для них незаметно. В три часа м‑р Уэллер принес ногу жареной баранины, огромный пирог с дичью и несколько разнообразных блюд из произведений растительного царства, со включением трех или четырех кружек крепкого портера: все это было расставлено на стульях, на софе, на окнах, и каждый принялся насыщать себя, где кто стоял. Но, несмотря на такой беспорядок и на то, что все эти кушанья были приготовлены в тюремной кухне, друзья произнесли единодушный приговор, что обед был превосходный.
После обеда принесли две или три бутылки отличного вина, за которым м‑р Пикквик нарочно посылал в один из лучших погребов. К вечеру, перед чаем, эта порция повторилась, и когда, наконец, очередь дошла до последней, то есть шестой бутылки, в средней галлерее раздался звонок, приглашавший посторонних посетителей к выходу из тюрьмы.
Поведение м‑ра Винкеля, загадочное в утреннее время, приняло теперь совершенно торжественный характер, когда, наконец, он, под влиянием виноградного напитка, приготовился окончательно проститься со своим почтенным другом. Когда м‑р Топман и м‑р Снодграс вышли из комнаты и начали спускаться с первых ступеней лестницы, м‑р Винкель остановился на пороге перед глазами м‑ра Пикквика и принялся пожимать его руку с неописанным волнением, в котором проглядывала какая-то глубокая и могущественная решимость.
– Прощайте, почтенный друг, – сказал м‑р Винкель со слезами на глазах.
– Благослови тебя Бог, мой милый! – отвечал растроганный м‑р Пикквик, с чувством пожимая руку своего молодого друга.
– Эй! Что-ж ты? – закричал м‑р Топман с лестничной ступени.
– Сейчас, сейчас, – отвечал м‑р Винкель.
– Прощайте, почтенный друг!
– Прощай, мой милый! – сказал м‑р Пикквик.
Затем следовало еще прощай, еще и еще, и, когда этот комплимент повторен был около дюжины раз, м‑р Винкель отчаянно уцепился за руку своего почтенного друга и принялся смотреть на его изумленное лицо с каким-то странным выражением отчаяния и скорби.
– Ты хочешь сказать что-нибудь, мой милый? – спросил наконец м‑р Пикквик, утомленный этим нежным церемониалом.
– Нет, почтенный друг, нет, нет, – сказал м‑р Винкель.
– Ну, так прощай, спокойной тебе ночи, – сказал м‑р Пикквик, тщетно покушаясь высвободить свою руку.
– Друг мой, почтенный мой утешитель, – бормотал м‑р Винкель, пожимая с отчаянной энергией руку великого человека, – не судите обо мне слишком строго, Бога ради не судите, и если, сверх чаяния, услышите, что я доведен был до какой-нибудь крайности всеми этими безнадежными препятствиями, то я… я…
– Что-ж ты еще? – сказал м‑р Топман, появляясь в эту минуту на пороге комнаты м‑ра Пикквика. – Идешь или нет? Ведь нас запрут.
– Иду, иду, – отвечал м‑р Винкель.
И, еще раз пожав руку м‑ра Пикквика, он вышел наконец из дверей.
В ту пору, как великий человек смотрел с безмолвным изумлением за своими удаляющимися друзьями, Самуэль Уэллер побежал за ними в догонку и шепнул что-то на ухо м‑ру Винкелю.
– О, без сомнения, в этом уж вы можете положиться на меня, – сказал громко м‑р Винкель.
– Благодарю вас, сэр. Так вы не забудете, сэр? – проговорил Самуэль.
– Нет, нет, не забуду, – отвечал м‑р Винкель.
– Желаю вам всякого успеха, сэр, – сказал Самуэль, дотрогиваясь до своей шляпы. – Я бы с величайшим удовольствием готов был ехать с вами, сэр; но, ведь, извольте сами рассудить, старшина без меня совсем пропадет.
– Да, да, вы очень хорошо сделали, что остались здесь, – сказал м‑р Винкель.
И с этими словами пикквикисты окончательно скрылись из глаз великого человека.
– Странно, очень странно, – сказал Пикквик, возвращаясь назад в свою комнату и усаживаясь в задумчивой позе на софе перед круглым столом. – Что бы такое могло быть на уме у этого молодого человека?
И он сидел в этом положении до той поры, пока, наконец, раздался за дверью голос Рокера, тюремщика, который спрашивал, можно-ли ему войти.
– Прошу покорно, – сказал м‑р Пикквик.
– Я принес вам, сэр, новую мягкую подушку вместо старого изголовья, на котором вы изволили почивать прошлую ночь, – сказал м‑р Рокер.
– Благодарю вас, благодарю, – отвечал м‑р Пикквик. – Не угодно-ли рюмку вина?
– Вы очень добры сэр, – сказал м‑р Рокер, принимая поданную рюмку. – Ваше здоровье, сэр!
– Покорно вас благодарю, – сказал м‑р Пикквик.
– A я пришел доложить вам, почтеннейший, что хозяин-то ваш ужасно захворал со вчерашней ночи, – сказал м‑р Рокер, поставив на стол опорожненную рюмку.
– Как! Захворал тот арестант, что переведен сюда из высшего апелляционного суда? – воскликнул м‑р Пикквик.
– Да-с, только уж, я полагаю, почтеннейший, что ему не долго быть арестантом, – отвечал м‑р Рокер, повертывая в руках тулью своей шляпы таким образом, чтоб собеседник его удобно мог прочесть имя её мастера.
– Неужели, – воскликнул м‑р Пикквик, – вы меня пугаете.
– Пугаться тут нечего, – сказал м‑р Рокер, – он-таки давненько страдал чахоткой, и вчера вечером, Бот знает отчего, у него вдруг усилилась одышка, так что теперь он еле-еле переводить дух. Доктор сказал нам еще за шесть месяцев перед этим, что одна только перемена воздуха может спасти этого беднягу.
– Великий Боже! – воскликнул м‑р Пикквик. – Стало быть, этот человек у вас заранее приговорен к смерти.
– Ну, сэр, этого нельзя сказать, – отвечал Рокер, продолжая вертеть свою шляпу, – чему быть, того не миновать; я полагаю, что он не избежал бы своей участи и у себя дома на мягких пуховиках. Сегодня поутру перенесли его в больницу. Доктор говорить, что силы его очень ослабели. Наш смотритель прислал ему бульону и вина со своего собственного стола. Уж, конечно, смотритель не виноват, если этак что-нибудь случится, почтеннейший.
– Разумеется, смотритель не виноват, – отвечал м‑р Пикквик скороговоркой.
– Только я уверен, – сказал Рокер, покачивая головой, – что ему едва-ли встать со своей койки. Я хотел держать десять против одного, что ему не пережить и двух дней, но приятель мой, Недди, не соглашается на это пари и умно делает, я полагаю, иначе быть бы ему без шести пенсов. – Благодарю вас, сэр. Спокойной ночи, почтеннейший.
– Постойте, постойте! – сказал м‑р Пикквик. – Где у вас эта больница?
– Прямо над вами, сэр, где вы изволите спать, – отвечал м‑р Рокер. – Я провожу вас, если хотите.
М‑р Пикквик схватил шляпу и, не говоря ни слова, пошел за своим проводником.
Тюремщик безмолвно продолжал свой путь и, наконец, остановившись перед дверьми одной комнаты верхнего этажа, сделал знак м‑ру Пикквику, что он может войти. То была огромная и печальная комната с двумя дюжинами железных кроватей вдоль стен, и на одной из них лежал человек, или, правильнее, остов человека, исхудалый, бледный, страшный, как смерть. Он дышал с величайшим трудом, и болезненные стоны вырывались из его груди. Подле этой постели сидел низенький мужчина, с грязным передником и в медных очках: он читал Библию вслух протяжным голосом. То был горемычный наследник джентльменского имущества, настоящий хозяин Самуэля.
Больной положил руку на плечо этого человека и просил его прекратить чтение. Тот закрыл книгу и положил ее на постель.
– Открой окно, – сказал больной.
Окно открыли. Глухой шум экипажей, стук и дребезжанье колес, смешанный гул кучеров и мальчишек – все эти звуки многочисленной толпы, преданной своим ежедневным занятиям, быстро прихлынули в комнату и слились в один общий рокот. По временам громкий крик праздной толпы превращался в неистовый хохот, и тут же слышался отрывок из песни какого-нибудь кутилы, возвращавшегося из таверны, – сцены обыкновенные на поверхности волнующегося моря человеческой жизни. Грустно и тошно становится на душе, когда вы рассматриваете их при своем нормальном состоянии души и тела: какое же впечатление должны были произвести звуки на человека, стоявшего одною ногою на краю могилы!
– Нет здесь воздуха, – сказал больной слабым и едва слышным голосом. – Здоров он и свеж на чистом поле, где, бывало, гулял я в свои цветущие годы; но жарок он, душен и сперт в этих стенах. Я не могу дышать им.
– Мы дышали им вместе, старый товарищ, много лет и много зим, – сказал старик. – Успокойся, мой друг.
Наступило кратковременное молчание, и этим временем м‑р Пикквик подошел к постели в сопровождении м‑ра Рокера. Больной притянул к себе руку своего старого товарища и дружески начал пожимать ее своими руками.
– Я надеюсь, – говорил он, задыхаясь, таким слабым голосом, что предстоящие слушатели должны были склонить свои головы над его изголовьем, чтобы уловить неясные звуки, исходившие из этих холодных и посинелых губ, – надеюсь, милосердный Судья отпустит мне мои прегрешения, содеянные на земле. Двадцать лет, любезный друг, двадцать лет страдал я. Сердце мое разрывалось на части, когда умирал единственный сын мой: я не мог благословить его и прижать на прощаньи к своему родительскому сердцу. Страшно, ох, страшно было мое одиночество в этом месте. Милосердный Господь простит меня. Он видел здесь на земле мою медленную и тяжкую смерть.
Наконец, больной скрестил свои руки и старался произнести еще какие-то звуки; но уже никто более не мог разгадать их смысла. Затем он уснул, и отрадная улыбка появилась на его устах.
Зрители переглянулись. Тюремщик склонил свою голову над изголовьем и быстро отступил назад.
– Вот он и освободился, господа! – сказал м‑р Рокер.
Освободился… да: но и при жизни он так был похож на мертвеца, что нельзя наверное сказать, когда он умер.
Глава XLV
Трогательное свидание между Самуэлем Уэллером и его семейством. Мистер Пикквик совершает миниатюрное путешествие в сфере обитаемого им мира и решается на будущее время прекратить с ним всякие сношения.
Через несколько дней после своего добровольного заточения, м‑р Самуэль Уэллер, убрав с возможным комфортом комнату своего господина и усадив его за книгами и бумагами, удалился на тюремный двор, чтобы провести часок-другой-третий в таких удовольствиях, какие только могли быть возможны в этом месте. Было превосходное утро, и м‑р Уэллер рассчитал весьма основательно, что, при настоящих обстоятельствах, ничего не могло быть отраднее, как пить портер на открытом воздухе, при ярком блеске солнечных лучей.
Приведенный к этому счастливому умозаключению, Самуэль отправился в буфет, взял кружку пива, выхлопотал листок газеты за прошлую неделю, вышел на тюремный двор и, усевшись на скамейке, предался своим наслаждениям методически и систематически, как практический философ, понимающий цену жизни.
Прежде всего он выпил глоток пива, потом взглянул на окно и бросил платоническую улыбку на молодую леди, чистившую картофель. Затем он развернул газету и старался уложить ее таким образом, чтобы выставить наружу отдел полицейских известий, и так как при этой операции встретились довольно значительные затруднения со стороны сильных дуновений ветра, то м‑р Уэллер проглотил еще один глоток крепительного напитка. Затем он прочитал ровно две строки из газетного листка и приостановился для того собственно, чтобы полюбоваться на двух молодцов, игравших на площадке в мяч. Когда первая партия этой игры приведена была к окончанию, м‑р Уэллер провозгласил: «очень хорошо»! одобрительным и поощрительным тоном и окинул торжественным взором всех зрителей, желая удостовериться, согласны-ли они были с его мнением насчет искусства забавляющихся джентльменов. При этой эволюции еще раз встретилась необходимость возвести глаза на окна, и так как молодая леди по-прежнему продолжала сидеть на своем месте за картофельной шелухой, то уж из одной учтивости надлежало подмигнуть ей и выпить в честь её другой глоток пива, что и выполнено было с отменною вежливостью учтивого кавалера. Затем, бросив сердитый взгляд на одного мальчишку, имевшего нескромность следить за всеми этими движениями, Самуэль перебросил одну ногу на другую и, взявшись за газету обеими руками, принялся читать весьма внимательно и серьезно.
Едва только углубился он в это многотрудное занятие, как ему показалось, будто кто-то вдали произнес его собственное имя. И он не ошибся: фамилия Уэллера быстро переходила из уст в уста, и в несколько секунд весь воздух огласился этим громогласным звуком.
– Здесь! – проревел Самуэль богатырским голосом. – Что там такое? Кому его надобно? Кто спрашивает м‑ра Уэллера? Не пришла-ли эстафета с известием, что загорелся его загородный палаццо?
– Кто-то вас спрашивает в галлерее, – сказал человек, стоявший подле.
– A вот, присмотрите-ка, любезный, за этой бумагой и пивцом, слышите? – сказал Самуэль. – Я пойду. Какого они шума наделали!
Сопровождая эти слова легким ударом по голове вышеозначенного молодого человека, продолжавшего бессознательно визжать изо всей силы: «Уэллер», Самуэль быстро перебежал через двор и углубился в галлерею. Первым предметом, обратившим на себя его внимание, был его собственный возлюбленный родитель, сидевший со шляпой в руках на нижней ступени лестницы и продолжавший с минуты на минуту кричать густым и громким басом: «Уэллер! Уэллер!»
– Что ты ревешь? – сказал Самуэль, когда родитель его еще раз собрался повторить с особенной энергией это знаменитое имя. – Ведь этак, чего доброго, ты лопнешь от надсады. Ну, чего тебе надобно?
– Эгой! – забасил старый джентльмен. – А я уж думал, друг мой Самми, что нелегкая унесла тебя гулять в Регентовский парк.
– Полно, полно, – сказал Самуэль: нечего тут издеваться и подтрунивать над несчастной жертвой барышничества и скупости. Что ты сидишь здесь, выпучив глаза? Я ведь не тут квартирую.
– Ну, брат, Самми, если бы ты знал, какую потеху я состряпал для тебя, – сказал м‑р Уэллер старший.
– Погоди на минуточку, – сказал Самуэль: – ты весь выбелился, как алебастр.
– Ну, оботри меня, мой друг, хорошенько, – сказал м‑р Уэллер, когда сын принялся вытирать его спину. – Хорошо еще, что я не надел сюда праздничного платья, хотя бы для такого веселья не мешало…
Так как на этой фразе м‑р Уэллер старший обнаружил несомненные признаки наступающего припадка судорожного хохота, то Самуэль принужден был остановить его.
– Да угомонишься-ли ты, – воскликнул м‑р Уэллер младший. – Что это тебя так подмывает?
– Ах, Самми, друг ты мой любезный, – сказал м‑р Уэллер, вытирая пот с своего лба, – мне, право, кажется, что на этих днях меня хлопнет паралич от этого старческого припадка. Будь ты тут хоть каменная стена, a хохот все-таки проберет насквозь.
– Да что такое случилось? – сказал Самуэль. – Добьюсь-ли я, наконец, что у тебя засело в голове?
– Угадай-ка, любезный, кто теперь пришел со мною? – сказал м‑р Уэллер старший, отступая назад шага на два.
– Пелль? – сказал Самуэль.
М‑р Уэллер отрицательно покачал головою, и красные щеки его раздулись в эту минуту страшнейшим образом от усилия подавить припадок судорожного хохота.
– Пестролицый джентльмен, может быть? – сказал Самуель.
М‑р Уэллер еще раз отрицательно тряхнул головой.
– Кто же? – спросил Самуэль.
– Мачиха твоя, Самми, мачиха!
Хорошо, что м‑р Уэллер старший произнес, наконец, этот ответ, иначе раздутые щеки его неизбежно должны были бы лопнуть от неестественного напряжения.
– Мачиха твоя, Самми, – сказал м‑р Уэллер, – и с нею красноносый друг её, жирный толстяк, Самми. Го! го! го!
И с этими звуками судорожный припадок старого джентльмена обнаружился в исполинских размерах. Самуэль закинул руки назад и бросил теперь на своего родителя самодовольную улыбку.
– Они пришли поучить тебя малую толику, друг мой Самми… предложить тебе наставления по нравственной части, – сказал м‑р Уэллер, вытирая свои глаза. – Смотри, брат, ты не проболтайся насчет этого кредитора, что упрятал тебя, Самми.
– A разве они ничего не знают об этом?
– Ничего, Самми, ничего.
– Где они теперь?
– В покойчике, друг мой, Самми, – отвечал м‑р Уэллер старший. – Попробуй-ка завести этого красноносого пастыря в такое место, где нет крепительных напитков: нет, Самми, не таковский человек он, Самми. И уж если бы ты знал, какую уморительную поездку мы учинили сегодня поутру от нашего жилища! – продолжал м‑р Уэллер, получивший, наконец, способность выражаться определительно и связно. – Я заложил старую пегашку в тот маленький кабриолетик, что достался нам в наследство от первого супружника твоей мачихи, и для пастыря было тут поставлено креслецо, чтобы, знаешь, сидеть-то ему было повальяжнее. Вот ведь что! И уверяю тебя родительским словом, друг мой Самми, что к подъезду нашего домика мы принуждены были поставить ручную лестницу, для того, видишь ты, чтобы пастырь взобрался по ней на свою сидейку в кабриолете. Вот оно как.
– Полно, правду-ли говоришь ты, старичина? – возразил м‑р Уэллер младший.
– Будь я не я, если соврал тут хоть на волосок, – отвечал старый джентльмен. – И посмотрел бы ты, как он карабкался по этой лестнице, придерживаясь за нее обеими руками! Можно было подумать, что он боялся разбиться в миллион кусков, если бы шарахнулся с этой высоты. Наконец, он вскарабкался с грехом пополам, уселся кое-как, и мы покатили. Только оно, знаешь ли, мне сдается, Самми… я говорю, мой друг, мне сдается, что его порастрясло малую толику, особенно, когда мы эдак поворачивали где-нибудь за угол.
– Ты ведь, я думаю, нарочно старался задевать колесом за тумбы: от тебя ведь это станется, дедушка, – заметил Самуэль.
– Да-таки нешто, уж если признаться по совести, раза три-четыре я повертывал и зацеплял таким манером, что этот пастырь чуть не перекувырнулся на мостовую. Это было ненароком, т. е. невзначай, друг мой любезный.
Здесь старый джентльмен принялся раскачивать головой с боку на бок, и щеки его раздулись до невероятной степени. Эти зловещие признаки не на шутку встревожили его возлюбленного сына.
– Не бойся, Самуэль, друг любезный, – сказал старик, когда он, наконец, после многих судорожных потрясений, получил опять способность говорить. – Мне только хочется добиться до того, чтобы этак можно было посмеяться втихомолку, не беспокоя добрых людей.
– Нет уж, я бы лучше советовал тебе не доходить до этого искусства, – возразил Самуэль. – Штука будет опасная.
– Разве это нехорошо, Самми?
– Совсем нехорошо.
– Жаль, очень жаль. Если бы удалось мне со временем навостриться в этом художестве, так мачиха твоя, авось, перестала бы тазать меня за нескромную поведенцию, и в доме моем, авось, водворилась бы супружеская тишина. Но, кажется, ты говоришь правду, Самуэль: этим способом немудрено ухойдакать себя до того, что будешь, пожалуй, на один только волосок от паралича. Спасибо тебе, сынок.
Разговаривая таким образом, отец и сын подошли наконец к покойчику, т. е. к комнате подле буфета. М‑р Уэллер младший отворил дверь, они вошли.
– Здравствуйте, маменька! – сказал Самуэль, учтиво приветствуя эту леди. – Как ваше здоровье, господин пастырь?
– О, Самуэль! – воскликнула м‑с Уэллер. – Это ужасно.
– Помилуйте, сударыня, вовсе не ужасно. Ведь это пастырь?
М‑р Стиджинс поднял руки к потолку, заморгал глазами, но не произнес ничего в ответ.
– Вы, милый джентльмен, не больны ли? – спросил Самуэль, обращаясь к м‑ру Стиджинсу.
– Он страдает душою, a не телом, Самуэль; страдает оттого, что видит тебя в этом месте, – отвечала м‑с Уэллер.
– А! Так вот что! – сказал Самуэль. – Мне, однако ж, казалось, что он забыл посыпать солью бифстек, который ел в последний раз.
– Молодой человек, – сказал м‑р Стиджинс напыщенным тоном: – я боюсь, что сердце ваше не смягчилось в этом заточении.
– Прошу извинить, сэр: не угодно-ли вам пояснить, что вы изволили заметить?
– Я опасаюсь, молодой человек, что натура ваша не смягчилась от этого наказания, – повторил м‑р Стиджинс громким и торжественным голосом.
– Вы очень добры, сэр, покорно вас благодарю, – отвечал Самуэль. – Смею надеяться, что натура моя действительно не мягкого сорта. Очень вам обязан, сэр, за хорошее мнение обо мне. Это для меня очень лестно.







