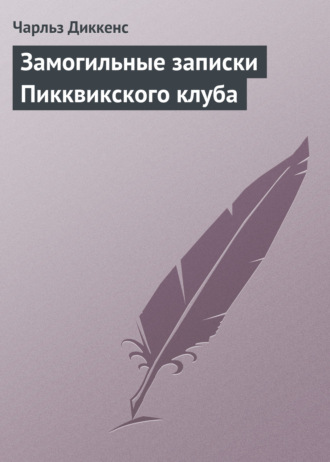
Чарльз Диккенс
Замогильные записки Пикквикского клуба
– Нет, отче, старшина мой не таковский человек, чтоб вилять кривыми закоулками в правом деле. К тому же есть свидетели, которые видели, как он обнимал эту старуху.
– Кто эти свидетели?
– Его собственные друзья.
– И прекрасно. Стало быть, им ничего не стоит отпереться.
– Этого они не сделают.
– Отчего?
– Оттого, что они считают себя честными людьми.
– Все вы дураки, я вижу, – сказал м‑р Уэллер энергическим тоном. – Дурак на дураке едет и дураком погоняет.
Вместо всяких возражений, Самуэль предложил старику новый стакан пунша. Когда они чокнулись и выпили, разговор сам собою склонился на другие предметы.
– Зачем же ты еще призвал меня, отче? – спросил Самуэль.
– По делу домашнего благочиния, Самми, – сказал м‑р Уэллер. – Помнишь ты этого Стиджинса?
– Красноносого толстяка? Очень помню.
– Ну, так вот видишь ли, – продолжал старик, – этот красноносый толстяк, Самми, навещает твою мачиху с беспримерным постоянством и неслыханною ревностью. Он такой закадычный друг нашего семейства, что и в разлуке с нами всегда оставляет у себя что-нибудь на память о нас.
– Будь я на твоем месте, старичина, – прервал Самуэль, – я поднес бы ему на память такую вещицу, которой он не забыл бы в десять лет.
– Погоди, я еще не кончил, – сказал м‑р Уэллер. – С некоторого времени он завел обычай приносить с собою плоскую бутылочку в полдюжины стаканов, и мачиха твоя каждый раз перед его уходом наполняет ее ананасовым ромом.
– И он вытягивает этот пуншик до своего возвращения назад?
– Весь дочиста, мой милый, так что в бутылке ничего не остается, кроме спиртуозного запаха и пробки, – на это он молодец. Но дело вот в чем, друг мой Самми, – сегодня вечером все эти теплые ребята собираются на месячную сходку в Кирпичный переулок, где у них, видишь ты, основано так называемое «Общество соединенных друзей воздержания, трезвости и умеренности». Мачиха твоя тоже хотела было идти; но у ней, к счастью, сделалась ломота в спине, и она остается дома. A я, друг мой Самми, перехватил два билетика, которые были отправлены к ней. Сообщив этот секрет, м‑р Уэллер старший замигал и заморгал на своего сына с таким неутомимым усердием, что Самуэль остолбенел и ему показалось даже, что с правым глазом его родителя сделался известный лошадиный припадок, в роде tic douloureux.
– Что дальше? – спросил Самуэль.
– А дальше вот что, мой милый, – отвечал почтенный родитель, оглядываясь из предосторожности назад, – мы отправимся к ним с тобой вместе, в назначенный час, так, чтоб не опоздать ни минутой. A этот их набольший, Самми, жирный толстяк, то-есть, подоспеет не слишком скоро.
Здесь м‑р Уэллер старший заморгал опять и разразился мало-помалу таким отчаянным хохотом, который казался едва выносимым для старика шестидесяти лет.
– Ну, исполать тебе, старый богатырь! – воскликнул Самуэль, растирая спину старика, чтоб сообщить правильную циркуляцию его крови. – Отчего ты так закатился, старина?
– Тс! Помалкивай, Самми, – сказал м‑р Уэллер, озираясь вокруг с видимым беспокойством и стараясь говорить потихоньку, почти шепотом. – Есть у меня два приятеля, что работают на оксфордской дороге, – чудовые ребята, способные на все руки. Они пригласили этого толстяка, Самми, к своей трапезе с тем, чтоб угобзить его хлебом да солью, a пуще всего горячей водицей с ромом, и вот, когда он пойдет в это общество воздержания и трезвости, – a пойдет он непременно, потому что ребята поведут его под руки и втолкнут насильно в дверь, если будет нужно, – так выйдет такая потеха, что ты пальчики оближешь себе, друг мой Самми, умная ты головушка!
С этими словами м‑р Уэллер старший разразился опять таким неумеренным хохотом, что почтительный сын еще раз должен был повторить операцию трения родительской спины.
Нет надобности говорить, что отцовский план пришелся как нельзя больше по мыслям и чувствам Самуэля и он взялся, с великою охотою, содействовать благому намерению сорвать маску с ханжи и лицемера. Так как было уже довольно поздно и приближался час, назначенный для митинга, то отец и сын поспешили отправиться в Кирпичный переулок. По дороге Самуэль забежал на минуту в почтовую контору, чтоб отдать письмо.
Ежемесячные сходки, или митинги, «Кирпичнопереулочного общества соединенных друзей воздержания, трезвости и умеренности» производились в большой зале, гигиенически расположенной в третьем этаже одного комфортабельного здания. Президентом общества был некто Антон Гомм, преподаватель арифметики и нравственной философии, в приходских школах; секретарем был господин Иона Модж, содержатель мелочной лавки, продававший чай и сахар своим почтенным сочленам. Перед началом обычных занятий, дамы сидели на скамейках и кушали чай со сливками и кренделями. Перед одним из окон залы стоял столик, накрытый зеленым сукном, и на столике стояла запечатанная кружка, куда доброхотные датели сыпали мелкую монету в пользу беднейших сочленов. Секретарь, сидевший за столиком, улыбался и кивал головою каждый раз, когда какая-нибудь леди подходила к кружке с приличной благостынею в руках.
Все женщины на этот раз истребляли чай и крендели без всякого милосердия и пощады, к великому ужасу старика Уэллера, который, несмотря на толчки и предостерегательные знаки Самуэля, озирался во все стороны с выражением очевиднейшего изумления на своем лице.
– Самми, друг мой, – шептал м‑р Уэлиер, – если всем этим бабам не нужно будет завтра вьщедить по фунту крови, то не называй меня своим отцом, – вот все, что я скажу. Эта старуха, что сидит подле меня, отхватывает, кажись, тринадцатую чашку. Лопнет, мой друг, ей Богу лопнет.
– Замолчи, пожалуйста, – пробормотал Самуэль.
– Самми, – шепнул м‑р Уэллер после минутного молчания, – помяни мое слово, мой друг: если этот секретарь сожрет еще два-три бутерброда, через пять минут его хлопнет паралич, или я больше не отец твой.
– Молчи, старик. Какая тебе нужда?
– Послушай, однако ж, друг мой Самми, – если они через пять минут не прекратят этой потехи, я принужден буду, из любви к человечеству, перебить у них все чашки и стаканы. Вот эта молодая женщина, что сидит на передней скамейке, проглотила полторы дюжины чашек. Смотри, смотри, у ней уж и глаза закатываются под лоб.
Легко могло статься, что м‑р Уэллер старший привел бы в исполнение свой филантропический план, если б через минуту большой шум, произведенный отбиранием чашек и стаканов, не возвестил о благополучном окончании чайной церемонии. Когда вслед затем зеленый столик выдвинули на средину залы, – перед публикой, задыхаясь и откашливаясь, выступил небольшой человечек в серых панталонах и с плешивой головой. Он учтиво раскланялся на все стороны и, приложив руку к сердцу, произнес пискливым дискантом следующее воззвание:
– Милостивые государыни и государи, я должен, с вашего позволения, выдвинуть из вашей среды достопочтенного Антона Гомма на президентское кресло.
Это послужило знаком, что вечернее заседание открылось. Дамы дружно замахали батистовыми платочками, и небольшой плешивый человек буквально выдвинул м‑ра Гомма на президентское кресло, вытащив его за плеча и посадив перед зеленым столиком на табуретку из красного дерева. Дамы снова замахали батистовыми платочками и некоторые даже взвизгнули от полноты душевного восторга, когда увидели на своем обычном месте достопочтенного президента. М‑р Гомм, толстенький, круглолицый мужчина в длиннополом сюртуке, поклонился и сказал.
– Приветствую вас, братья мои и сестры, от всего моего сердца и от всей души (громкие рукоплескания)! Считая для себя лестной честью доверие, которым вы удостоивали меня до сих пор, я должен вам объявить, что секретарь наш будет иметь удовольствие прочитать перед вами донесение о текущих делах нашего общества за прошлый месяц.
При этом объявлении, батистовые платочки послужили опять выражением единодушного восторга. Секретарь чихнул, откашлянулся приличным образом, посмотрел на дам умильными глазами и начал читать следующий документ:
«Отчет комитета кирпично-переулочного общества соединенных друзей умеренности, трезвости и воздержания, за истекший месяц.
Комитет наш в прошедшем месяце продолжал с неослабною деятельностью заниматься своими благонамеренными трудами на пользу человечества, и в настоящем случае имеет честь с неизреченным удовольствием включить в свой ежемесячный рапорт следующие добавочные статьи:
1. Гильдебрант Уокер, портной, женатый человек с двумя детьми. Когда дела его процветали, он имел, по своему собственному признанию, постоянную привычку пить портер и крепкое пиво, да сверх того, в продолжение двадцати лет, он раза по два в неделю употреблял особый напиток, известный у пьяниц под гнусным названием „песьего носа“ и который, как оказалось по разысканиям комитета, состоит из горячего портера, свекловичного сахара, джина и мускатного ореха (Стоны и всхлипывания на дамской половине. Некоторые прерывают чтеца восклицаниями, – так точно, так точно!). Теперь нет у него ни работы, ни денег, и это, как он думает, произошло от излишнего употребления портера или от потери правой руки. Достоверно во всяком случае, что если б он всю свою жизнь не употреблял ничего, кроме свежей воды, товарищ его по ремеслу не пронзил бы его заржавленной иголкой и, таким образом, при воздержном поведении он сохранил бы в целости свою правую руку (громогласные рукоплескания). Гильдебрант Уокер не пьет теперь ничего, кроме воды, и, по собственному своему признанию, никогда не чувствует жажды (единодушный восторг).
2. Бетси Мартин, вдова, имеет один только глаз и одного ребенка. Ходит стирать поденно белье и мыть на кухнях столовую посуду. Никогда не помнит себя с обоими глазами, но утверждает, что мать её употребляла в чрезмерном излишестве пагубный напиток, известный под именем „утешение в нищете“ и который у бессовестных погребщиков продается по пяти шиллингов за бутылку; посему весьма не мудрено, заключает Бетси, что она окривела еще в младенческих летах, чего бы, без сомнения, не случилось, если б мать её воздерживалась от спиртуозных веществ. Прежде она зарабатывала в день восемнадцать пенсов, пинту портера и рюмку джина; но с той поры, как Бетси Мартин присоединилась к нашему обществу, к дневному её заработку присоединяется шесть пенсов и три фартинга, которые охотно выдаются ей вместо джина и пива».
Известие об этом последнем факте было встречено с оглушительным энтузиазмом. Некоторые из дам приставили к своим глазам батистовые платочки. Секретарь продолжал:
«3. Генрих Беллер исправлял несколько лет официантскую должность при публичных обедах, и все это время употреблял в большом количестве иностранные вина. Не может сказать наверное, сколько он уносил к себе бутылок от каждого обеда, но ручается, что вино, содержавшееся в них, выпивал аккуратно. Чувствует упадок сил, дрожание в членах и меланхолию в душе, сопровождаемую постоянной жаждой, что, по его собственному сознанию, есть последствие горячительных напитков. Генрих Беллер теперь без должности и не употребляет больше ни по какому поводу ни одной капли иностранных вин (громкие рукоплескания).
4. Фома Бортон, поставщик мяса для кошек лорда-мэра, шерифов и многих членов Верхнего и Нижнего Парламента (провозглашение имени этого джентльмена было принято с пламенным энтузиазмом) имеет деревянную ногу и утверждает! что деревяшка стоит ему очень дорого, потому что скоро избивается о камни. Прежде он покупал подержанные деревяшки и выпивал каждый вечер, на сон грядущий, по два стакана джина с горячей водой (глубокие вздохи на дамской половине). Подержанные деревяшки, говорит он, нередко разбивались в дребезги об острые каменья, и это, по его убеждению, происходило от чрезмерного употребления джина с горячей водой. Теперь Фома Бортон покупает всегда новые деревяшки и в рот ничего не берет, кроме воды и слабого чая. Новая деревяшка служит ему вдвое долее поношенной, и это обстоятельство он исключительно приписывает своей воздержной жизни (громкие и торжественная рукоплескания).
Доводя таким образом все эти в высшей степени утешительные факты до вашего сведения, милостивые государыни и государи, комитет надеется со временем распространить крут своих действий к общему благу человечества и особенно Англии, где, как известно, всякое доброе семя быстро приносит свои плоды, разрастаясь по всем трем соединенным королевствам. Благодаря нашим соединенным усилиям, наступит без сомнения счастливая пора, когда столетние старики и старухи, пользующиеся употреблением всех своих физических и нравственных сил, не будут считаться редкостью на нашей плодоносной почве. Для этой цели комитет употребит на будущее время все свои старания для того преимущественно, чтобы привлекать к „Соединенному обществу“ молодых людей, цветущих здравием и красотою. Нет ни малейшего сомнения, что, при наших общих усилиях, молодые люди сохранят надолго те редкие качества, которые делают их столь приятными и любезными в обществе кроткого и нежного пола. В заключение этого я желал бы, милостивые государыни, пропеть перед вами одну из тех старинных баллад, где поэт живописно рисует добродетели одного лодочника, который, без сомнения, следовал правилам умеренности и воздержания всю свою жизнь, за что и пользовался постоянно благосклонностью кроткого и нежного пола (необузданный восторг).»
– О каком это кротком и нежном поле говорит он, Самми? – спросил шепотом м‑р Уэллер старший.
– О женщинах, я полагаю.
– Ну, так он врет чепуху, мой милый. Желал бы я натолкнуть на него твою мачиху! – заметил м‑р Уэллер.
Дальнейшие замечания нескромного старика были прерваны началом пения знаменитой баллады о том счастливом лодочнике, который, всю свою жизнь, не думая ни о чем, перевозил только через Темзу прекрасных леди, когда не было на этой реке ни одного из нынешних мостов. Когда песня подходила уже к концу и дамы готовились увенчать певца общим залпом рукоплесканий, в комнату суетливо вбежал опять небольшой плешивый человек и шепнул что-то на ухо м‑ру Антону Гомму.
– Друзья мои, – сказал м‑р Гомм, обращаясь к публике с озабоченным видом, – почтенный депутат наш, м‑р Стиджинс извиняется, что не мог подоспеть к началу заседания, и просит теперь позволения войти. Он стоит внизу.
Батистовые платочки заколыхались теперь в воздухе с необыкновенной энергией и силой, по тому что м‑р Стиджинс пользовался особенною благосклонностью всех прекрасных леди, принадлежавших к кирпичнопереулочному обществу соединенных друзей.
– Он может войти, я полагаю, – сказал м‑р Гомм, бросая на дам умильные и нежные взоры. – Брат Теджер, просите сюда м‑ра Стиджинса.
Плешивый человек, откликнувшийся на имя брата Теджера, торопливо побежал на лестницу, и через минуту, перед дверью залы, послышались чьи-то тяжелые и неровные шаги.
– Валит, Самми, валит! – прошептывал м‑р Уэллер, с трудом подавляя свой истерический смех.
– Не говори мне ничего, или я принужден буду уйти, – отвечал Самуэль. – Вот он ломится в двери. Я слышу, как он трется боком о штукатурку.
В то время как Самуэль говорил таким образом, маленькая дверь отворилась, и на пороге появился м‑р Стиджинс всей своей особой. При входе его вся зала огласилась самыми неистовыми рукоплесканиями, сопровождаемыми топаньем нот и необузданным размахиванием батистовых платков; но, к великому удивлению, м‑р Стиджинсь на все эти изъявления задушевного восторга, не думал отвечать ни поклоном, ни приветственною речью. Он стоял среди залы, покачиваясь во все стороны, и неподвижно устремил свои глаза на оконечность свечи, поставленной на зеленом столике.
– Вы, кажется, нездоровы, брат Стиджинс? – шепнул ему м‑р Антон Гомм.
– Нет, сэр, вы врете, – отвечал м‑р Стиджинс свирепым тоном, – я совершенно здоров, если вы не совсем ослепли.
– Очень хорошо, – сказал м‑р Антон Гомм, отступая на несколько шагов.
– Конечно, все в этой компании согласятся, что я именно таков, как мне следует быть, – сказал м‑р Стиджинс.
– Конечно, конечно, – проговорил м‑р Гомм.
– A кто не согласится, так оно того… того оно как… того… понимаете, сэр? – продолжал достопочтенный Стиджинс.
– Как вам угодно, – отвечал наобум м‑р Антон Гомм.
В зале воцарилось глубокое молчание, и все, казалось, с нетерпением ожидали возобновления прерванных занятий.
– Не угодно-ли вам обратиться к собранию, сэр? – сказал м‑р Гомм.
– Нет, сэр, – отвечал м‑р Стиджинс. – Нет, сэр. Не угодно, сэр.
Члены собрания переглянулись друг на друга, и ропот изумления пробежал по всей зале.
– По-моему мнению, сэр, – сказал м‑р Стиджинс, расстегивая верхния пуговицы своего сюртука и стараясь выражаться как можно громче, – по-моему мнению, сэр, вы все тут перепились, нализались, как… как… как мерзавцы. Послушайте, Теджер, – продолжал м‑р Стиджинс, обращаясь с возрастающею лютостью и свирепостью к небольшому плешивому человеку, – вы пьяны, сэр, пьяны, как стелька.
С этими словами м‑р Стиджинс, увлекаемый похвальным желанием поддержать и распространить трезвое состояние между всеми почтенными сочленами добродетельного общества, ударил м‑ра Теджера сжатым кулаком по самой середине носа с таким блистательным успехом, что плешивый человек опрокинулся навзнич и стремглав полетел по лестничным ступеням в нижний этаж.
С шумом, криком и плачевными взвизгами женщины повскакали со своих мест и устремились отдельными маленькими группами к любимым братцам, стараясь защитить их своими объятиями и руками от угрожающей беды. Такой взрыв сестринской привязанности оказался почти гибельным для м‑ра Гомма, снискавшего удивительную популярность в этом филантропическом кругу. Женщины густыми толпами обступили его спереди и сзади, повисли на его плечах, на шее, на руках, так что бедный президент чуть не задохся от этих пылких выражений братской дружбы и любви.
Большая часть свечей загасла, и в парадной зале воцарился страшный беспорядок.
– Ну, Самми, теперь будет и на моей улице праздник, – сказал м‑р Уэллер старший, снимая свой верхний сюртук, с обдуманным и решительным видом: – я учиню теперь свою расправу.
– Что-ж ты намерен делать, старина? – спросил Самуэль.
– A вот увидишь, – отвечал м‑р Уэллер.
И прежде, чем Самуэль успел вникнуть в сущность дела, мужественный родитель его пробился в отдаленный угол комнаты и напал, с отменною ловкостью, на достопочтенного м‑ра Стиджинса, который, между тем, продолжал изливать потоки своего пьяного красноречия на беспорядочную толпу.
– Отступи, старичина! – закричал Самуэль.
– Приступлю, демон его возьми, приступлю! – заголосил старик и, без дальных околичностей, влепил удар в открытую лысину достопочтенного м‑ра Стиджинса, начинавшего в свою очередь становиться в боевую позицию так, однако ж, что ноги изменяли ему на каждом шагу. М‑р Уэллер продолжал хорохориться, размахивая обеими руками.
Сознавая бесполезность всех своих увещаний, Самуэль надел свою шляпу, перебросил через плечо сюртук своего отца, насильственно схватил его за оба плеча, повернул налево кругом и быстро повел его с лестницы на улицу, продолжая держать его крепко до тех пор, пока, наконец, не повернули они за угол ближайшего переулка. Обернувшись назад, Самуэль увидел, как, при криках раздраженных братцев и сестриц, пьяного Стиджинса потащили куда-то, и как расходились в разные стороны достопочтенные члены кирпичнопереулочного общества соединенных друзей умеренности, трезвости и воздержания.
Глава XXXIV
Полный и достоверный отчет о достопамятном решении процесса вдовы Бардль против Пикквика.
– Любопытно бы знать, что кушает теперь будущий присяжный старшина на этом суде? – сказал м‑р Снодграс единственно для того, чтобы завязать как-нибудь неклеившийся разговор в чреватое событиями утро четырнадцатого февраля.
– О, я надеюсь, у него превосходный завтрак! – сказал Перкер. – Мы об этом похлопотали.
– Что, это вас интересует? – спросил м‑р Пикквик.
– Помилуйте, почтеннейший, как не интересоваться старшинским завтраком! – возразил м‑р Перкер. – Это первая и существенная вещь, которую ответчик должен иметь в виду на специальном суде присяжных.
– Отчего так?
– Да просто оттого, почтеннейший, что если вы хорошо накормили старшину, так дельце ваше обделано почти наполовину. Голодный или недовольный судья, почтеннейший, почти всегда расположен принять сторону истца; но, сытый и довольный, он естественным образом чувствует наклонность к оправданию ответчика.
– Ах, Боже мой, я этого решительно не понимаю! – воскликнул м‑р Пикквик. – Объясните, сделайте милость.
– Вещь очень простая, почтеннейший, – отвечал м‑р Перкер, – и, главное, тут берется в рассчет экономия времени. Как скоро наступает обеденная пора, старшина обыкновенно вынимает из кармана часы и, обращаясь к другим присяжным, говорит: – «Вообразите, господа, уж без четверти пять! Я всегда обедаю в пять часов!» – «И я тоже», подхватывают другие, кроме двух или трех членов, которые заранее успели набить желудок. Старшина улыбается и кладет часы в карман. – «Ну, что-ж вы скажете, господа?» – продолжает старшина. – «Истец или ответчик должен быть оправдан? Что касается меня, господа, я думаю с своей стороны, и даже совершенно уверен, что дело истца правое». – Вслед затем другие мало-помалу начинают говорить то же, и таким образом устраивается с большим комфортом единодушное отбирание голосов[15]. Затем присяжные расходятся из палаты, кто домой, кто в трактир. – Однакож пора, господа, – заключил м‑р Перкер, вынимая часы: – десять минут десятого. Мы немножко опоздали. В палате, без сомнения, будет множество народа, так как случай этот очень интересен. Прикажите нанять карету, м‑р Пикквик, не то мы уж опоздаем чересчур.
М‑р Пикквикь позвонил, и, когда наконец извозчичья карета остановилась у ворот, четыре пикквикиста и м‑р Перкер вышли из гостиницы и поскакали в Гельдголль. Самуэль Уэллер и м‑р Лоутон с синим мешком поехали за ними в кабриолете.
– Лоутон, – сказал м‑р Перкер, когда они вошли в залу судебной палаты, – отведите друзей м‑ра Пикквика в студенческие ложи; a сам м‑р Пикквик должен сидеть подле меня. Сюда, почтеннейший, сюда.
Говоря это, Перкер взял м‑ра Пикквика за рукав и подвел его к низенькой скамейке, устроенной для адвокатов подле кафедры президента, для того, чтоб им удобнее было слышать весь ход дела; лица, занимающие эту скамейку, невидимы для большой части посторонних зрителей, так как места зрителей устроены высоко над уровнем пола и адвокаты обращены к ним спиною.
– Это место назначено для свидетелей, я полагаю? – спросил м‑р Пикквик, указывая на маленькую ложу с конторкой по средине и медными перилами на левой стороне.
– Да, почтеннейший, это свидетельская ложа, – отвечал Перкер, роясь между бумагами в своем мешке, положенном на полу у его ног.
– A на этом месте, если не ошибаюсь, должны сидеть присяжные? – продолжал расспрашивать м‑р Пикквик, указывая на два седалища, отгороженные решоткой на правой стороне: – так ли, м‑р Перкер?
– Вы угадали, почтеннейший, – отвечал адвоюкат, открывая свою серебряную табакерку.
М‑р Пикквик находился, по-видимому, в большом волнении, и с беспокойством осматривал судебную палату. Зрители уже накоплялись в галлерее, и на судейских местах можно было различить значительную коллекцию носов, бакенбард и париков, которыми так славится корпорация британских правоведов. Некоторые из этих джентльменов сидели с экстрактами в руках, с важностью потирая ими свои красные носы для того, чтоб придать себе особый эффект в глазах всякого постороннего профана. Другие расхаживали с огромными фолиантами под мышкой в сафьянных переплетах и с надписью на корешках: «Гражданские Законы». Третьи, не имея ни книг, ни тетрадей, засовывали руки в свои глубокие карманы и старались смотреть на публику с глубокомысленным видом; были, наконец, и такие, которые суетились и бегали взад и вперед единственно для того, чтоб обратить на себя внимание изумленной толпы, непосвященной в юридические тайны. Все эти господа, к великому удивлению м‑ра Пикквика, разделялись на маленькие группы и весело толковали между собою о таких предметах, которые не имели ни малейшей связи с предстоявшим процессом.
Вошел м‑р Функи и, поклонившись м‑ру Пикквику, удалился в ложу королевских адвокатов. Затем появился м‑р сержант Сноббин в сопровождении м‑ра Молларда, который почти совершенно заслонил его огромным малиновым мешком. Положив этот мешок на столе перед глазами своего принципала, м‑р Моллард разменялся дружеским поклоном с Перкером и удалился. Затем вошло еще несколько сержантов, и один из них, жирный и краснолицый толстяк, раскланялся по-дружески с м‑ром сержантом Сноббином, заметив при этом, что сегодня прекрасная погода.
– Кто этот красненький джентльмен, сказавший нашему сержанту, что сегодня прекрасная погода? – шепнул м‑р Пикквик своему адвокату.
– Это оппонент наш, почтеннейший, сержант Бузфуц, – отвечал м‑р Перкер, – он будет защищать вашу противницу. A другой джентльмен, что стоит позади Бузфуца, м‑р Скимпин, его помощник. Преумные ребята, почтеннейший.
М‑р Пикквик, проникнутый справедливым негодованием к наглости и бесстыдству юридических крючков, хотел было спросить, каким образом м‑р сержант Бузфуц, защитник кляузного дела, осмелился заметить его собственному сержанту, что сегодня прекрасная погода, но в эту минуту все юридические парики с шумом поднялись со своих мест, и палатские смотрители за порядком громко закричали: – «Тише! Тише!» Оглянувшись назад, м‑р Пикквик увидел, что вся эта суматоха произведена прибытием в палату вице-президента.
Господин вице-президент Стерлейх, явившийся в присутствие за болезнью президента, был джентльмен чрезвычайно низенького роста и жирный до такой степени, что, казалось, весь его организм состоял из жилета и толстой головы. Он поковылял на своих маленьких ножках к президентской ложе и, отвесив на все стороны нижайшие поклоны, уселся на свое место, засунув свои ноги под стол и положив свою треугольную шляпу на стол. Только его и видели. От всей фигуры вице-президента для посторонних наблюдателей остались только миниатюрные рысьи глазки, заплывшие жиром, широкое розовое лицо и около половины огромного, чрезвычайно комического парика.
Лишь только вице-президент занял свое место, смотритель за порядком в партере закричал повелительным тоном: – «тише!» и вслед затем смотритель за порядком в галерее забасил во все горло: – «тише!» и этот же самый крик повторили на разные распевы четверо других блюстителей благочиния в судебной палате. Когда таким образом восстановилась требуемая тишина, джентльмен в черном костюме, заседавший подле вице-президента, начал перекликать громким голосом имена присяжных, и после этой переклички оказалось, что только десять специалов были на лицо в судебной палате. Надлежало двух остальных, для дополнения законного числа, выбрать из обыкновенных смертных, которые имели право быть не специальными присяжными, и выбор господина сержанта Бузфуца пал на зеленщика и аптекаря, которых в ту же минуту подвели к президентской кафедре.
– Отвечайте на ваши имена, джентльмены, – сказал джентльмен в черном костюме, – Ричард Опвич.
– Здесь, – откликнулся зеленщик.
– Фома Гроффин.
– Здесь, – откликнулся аптекарь.
– Возьмите книгу, господа. Вы дадите клятву, что будете по чистой совести и…
– Прошу извинить, милорд, – сказал аптекарь, мужчина тонкий и высокий с гемороидальным цветом лица, – я не могу быть присяжным и надеюсь, что вы освободите меня от этой обязанности.
– На каком основании, сэр? – сиросил вице-президент Стерлейх.
– В аптеке моей нет провизора, милорд, – сказал аптекарь.
– Это до меня не касается, сэр, – возразил м‑р вице-президент Стерлейх. – Почему неть у вас провизора?
– Еще не приискал, милорд, – отвечаль аптекарь.
– Это весьма дурно и неосторожно с вашей стороны, – сказал вице-призедент сердитым тоном. Было известно всем и каждому, что у м‑ра Стерлейх чрезвычайно вспыльчивый и раздражительный темперамент.
– Знаю, что дурно, милорд; но теперь уж этому пособить нельзя, – сказал аптекарь, – позвольте мне идти домой.
– Привести к присяге этого господина! – закричал вице-президент.
Джентльмен в черном костюме начал выразительным и громким голосом:
– Вы дадите при сем торжественную клятву, что будете по чистой совести и….
– Стало быть, милорд, вы непременно требуете, чтоб я был присяжным? – перебил аптекарь.
– Непременно.
– Очень хорошо, милорд: в таком случае, я должен объявить, что прежде, чем кончится здесь этот процесс, в доме моем произойдет убийство. Можете располагать мною, если угодно.
И прежде, чем вице-президент собрался произнести ответ, несчастный аптекарь приведен быль к присяге.
– Я хотель только заметить, милорд, – сказал аптекарь, усаживаясь на скамье присяжных, – что в аптеке моей остался один только мальчик, рассыльный. Он довольно умен и расторопен, милорд, но еще не успел ознакомиться с аптекарскими аппаратами и, сверх того, забрал себе в голову, будто acidum hydrocianicum, синильная кислота, милорд, приготовляется из лимонного сока, растворенного в микстуре из английской соли. Я уверен, милорд, что в мое отсутствие он сделает гибельный опыт. Впрочем, теперь уже это будет ваше дело, и совесть моя спокойна.
С этими словами аптекарь принял самую комфортабельную позу, и веселое лицо его выразило совершеннейшую преданность судьбе.
Поведение аптекаря поразило глубочайшим ужасом чувствительную душу м‑ра Пикквика, и он уже собирался предложить по этому поводу несколько интересных замечаний, как вдруг внимание его было развлечено другим, более назидательным предметом. По всей палате раздался смутный говор, возвестивший о прибытии м‑с Бардль. Сопровождаемая и поддерживаемая приятельницею своею, м‑с Клоппинс, интересная вдовица, склонив голову и потупив глаза, выступала медленно и неровными шагами на середину залы, и услужливые адвокаты приготовили ей место на противоположном конце той самой скамейки, где сидел м‑р Пикквик. М‑р Додсон и м‑р Фогг немедленно распустили над её головою огромный зеленый зонтик, чтоб укрыть свою прекрасную клиентку от взоров нескромной толпы. Затем появилась м‑с Сандерс, ведя под руку юного Бардля. При взгляде на возлюбленного сына, м‑с Бардль затрепетала, испустила пронзительный крик и облобызала его с неистовым выражением материнской любви, после чего с нею сделался глубокий обморок. Добрые приятельницы мало-помалу привели ее в чувство, и м‑с Бардль, бросая вокруг себя отуманенные взоры, спросила голосом слабым и дрожащим, куда ее привели и где она сидит. В ответ на это м‑с Клоппинс и м‑с Сандерс, оглядываясь во все стороны, пролили горючие потоки слез, между тем как Додсон и Фогг умоляли ее успокоиться ради самого неба. Сержант Бузфуц крепко вытер свои глаза большим белым платком и бросил искрометный взгляд на всех присяжных. Вице-президент тоже, казалось, был расстроган до глубины души, и многие из посторонних зрителей проливали самые искренния слезы.







