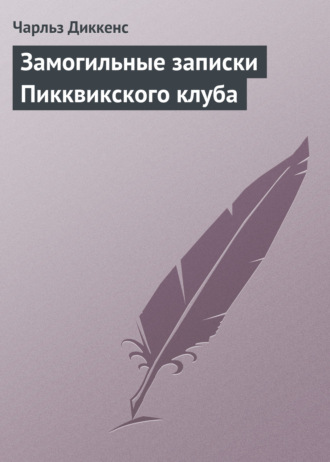
Чарльз Диккенс
Замогильные записки Пикквикского клуба
– Это, однако ж, удивительно; ведь просто, если б вы знали, вертится на языке, a никак не поймаю, – сказал щеголеватый джентльмен в лакированных сапогах.
– Очень жаль, что вы забыли, – сказал м‑р Боб Сойер, прислушиваясь между тем, как девушка стучала стаканами внизу, – очень жаль!
– Конечно, жаль, потому что, могу вас уверить, история презанимательная, – сказал щеголеватый джентльмен; – ну, да ничего, стоит подумать каких-нибудь полчаса, и я все припомню.
Наконец, к великому удовольствию хозяина, стаканы, подвергнутые операции вымыванья, снова воротились из кухни. Лицо м‑ра Боба Сойера быстро прояснилось, и он повеселел в одну минуту.
– Ну, Бетси, – вскричал Боб Сойер с величайшею живостью, – вы, я вижу, предобрая девушка, Бетси. Давайте нам горячей воды, живей!
– Нет горячей воды, – отвечала Бетси.
– Как нет?
– Нет, да и нет, – сказала девушка, делая головою такой отрицательный жест, который мог быть красноречивее всяких голословных возражений; – м‑с Раддль запретила давать вам горячую воду.
Изумление, отразившееся яркими чертами на лицах всех гостей, сообщило хозяину новую бодрость.
– Послушайте, Бетси, принесите горячей воды, сейчас принесите, не то… – сказал м‑р Боб Сойер с отчаянною суровостью.
– Неоткуда мне взять, – возразила черномазая девица, – м‑с Раддль, перед тем, как ложиться спать, залила весь огонь в кухне и заперла котел.
– О, это ничего, ничего. Не извольте беспокоиться о такой безделице, – сказал м‑р Пикквик, заметив борьбу страстей, выразившихся на лице отуманенного хозяина, – холодная вода, в этом случае, ничуть не хуже горячей.
– Я совершенно согласен с вами, – сказал м‑р Бенжамен Аллен.
– Хозяйка моя страдает, господа, периодическим расстройством умственных способностей, – заметил Боб Сойер с кислою улыбкой. – Кажется, мне придется проучить ее немного.
– Ну, полно, стоит-ли хлопотать из-за этого, – сказал Бен Аллен.
– Очень стоит, – сказал Боб с мужественною решимостью; – заплачу ей свои деньги и завтра же постараюсь дать ей такой урок, которого она долго не забудет.
Бедный юноша! Чего бы он не сделал, чтоб быть вполне искренним в эту минуту!
Грозное настроение чувств и мыслей Боба Сойера сообщилось мало-помалу его гостям, которые теперь, для подкрепления своих сил, принялись с большим усердием за холодную воду, перемешанную пополам с ямайским ромом первейшего сорта. Влияние сердцекрепительного напитка обнаружилось в скором времени возобновлением неприязненных действий между скорбутным юношей и джентльменом в эмблематической рубашке. Сперва они хмурились и только фыркали друг на друга; но, наконец, скорбутный юноша счел своей обязанностью принять более положительные меры для выражения душевного презрения к своему врагу. Последовало объяснение следующего рода:
– Сойер! – сказал скорбутный юноша громким голосом.
– Что, Нодди?
– Мне очеиь неприятно, Соейр, – сказал м‑р Нодди, – беспокоить чем-нибудь дружескую компанию, – особенно за твоим столом, любезный друг, очень неприятно; но я вынужден, скрепя сердце, объявить вам, милостивые государи, что м‑р Гонтер – не джентльмен, и вы жестоко ошибались, если считали его джентльменом.
– Мне очень неприятно обеспокоить чем-нибудь жителей улицы, где живешь ты, Сойер, – сказал м‑р Гонтер, – но, кажется, я принужден буду потревожить твоих соседей, выбросив из окна господина, который сейчас обращался к вам со своей дерзкой речью, милостивые государи.
– Что вы под этим разумеете, сэр? – спросил м‑р Нодди.
– То самое, что говорю, – отвечал м‑р Гонтер.
– Желал бы я видеть, как вы это сделаете, сэр, – сказал м‑р Нодди.
– Вы через минуту почувствуете это на своих боках, сэр, – сказал м‑р Гонтер.
– Не угодно-ли вам дать мне свою карточку, сэр. – сказал м‑р Нодди.
– Вовсе не угодно, и вы не получите моего адреса, сэр, – отвечал м‑р Гонтер.
– Отчего же?
– Оттого, что вы прибьете мою карточку над камином в своей квартире и будете хвастаться перед гостями, будто джентльмен делает вам визиты, милостивый государь.
– Сэр, один из моих приятелей зайдет к вам завтра по утру, – сказал м‑р Нодди.
– Хорошо, что вы сказали об этом заранее, благодарю вас, сэр, – отвечал м‑р Гонтер, – я распоряжусь, чтоб служанка припрятала подальше мои серебряные ложки и другие вещи, которые легко укладываются в карман.
Неизвестно, чем бы кончился этот жаркий спор, если б хозяин и гости не приняли деятельного участия в примирении враждующих сторон, доказав им с удовлетворительным красноречием, что поведение их, во многих отношениях, предосудительно для всех порядочных людей. На этом основании м‑р Нодди объявил во всеуслышание, что отец его такой же достопочтенный джентльмен, как батюшка м‑ра Гонтера. М‑р Гонтер отвечал, в свою очередь, что его отец совершенно такой-же джентльмен, как батюшка м‑ра Нодди, и что сын его отца ничем не хуже и даже, можно сказать, в тысячу раз лучше такого заносчивого молокососа, как м‑р Нодди. Такая декларация могла служить естественным приступом к новой ссоре; но гости и хозяин, после некоторых затруднений, успели восстановить мировую окончательным образом и даже пробудили дружеские чувства в обоих джентльменах. М‑р Нодди, выпив стакан мадеры, признался со слезами на глазах, что он всегда питал душевное уважение и глубокую преданность к м‑ру Гонтеру. На это м‑р Гонтер, опорожнив стакан пунша, объявил громогласно и торжественным тоном, что он всегда любил м‑ра Нодди, как своего родного, единоутробного брата. Лишь только произнесены были эти слова, м‑р Нодди быстро вскочил со своего стула и великодушно протянул руку м‑ру Гонтеру, который, в свою очередь, поспешил заключить в свои братские объятия м‑ра Нодди. Гости рукоплескали, и каждый признался, что оба джентльмена вели себя истинно достойным образом в продолжение всей этой ссоры.
– Теперь, господа, – сказал Джек Гопкинс, – я желал бы, для восстановления порядка, пропеть вам какую-нибудь из национальных песен.
И м‑р Гопкинс, вдохновленный всеобщим браво, затянул изо всей мочи известную балладу:
Как поехал наш бандит
Во дремучие леса,
Ай, люли, ай, люли,
Во дремучие леса.
Хор здесь, собственно говоря, составлял главнейшую эссенцию всей песни, и нужно было видеть, с каким напряжением горла и груди каждый из гостей вытягивал последнюю ноту припева. Эффект был великолепный.
Но лишь только хор успел вывести последнюю ноту третьего припева, м‑р Пикквик вдруг поднял руку, как будто желая приостановить певцов, и, когда молчание восстановилось, он сказал:
– Тсс? Прошу извинить, господа, но мне кажется, будто наверху шумят.
Немедленно воцарилась глубочайшая тишина. М‑р Боб Сойер побледнел.
– Так и есть: я опять слышу шум, – сказал м‑р Пикквик, – потрудитесь отворить дверь.
И все сомнения исчезли в одну минуту, когда хозяин отворил дверь.
– М‑р Сойер, м‑р Сойер! – визжал женский голос с лестницы второго этажа.
– Черт несет мою хозяйку, господа, – сказал Боб Сойер, с беспокойством озираясь кругом, – да, это м‑с Раддль.
– Что вы под этим разумеете, м‑р Сойер? – отвечал скороговоркой пронзительный голос. – Мало вам не платить за квартиру и жить мошенническими средствами на чужой счет четыре месяца слишком: вы еще вздумали пьянствовать и дебоширничать до двух часов ночи. Куда вы запрятали свою совесть, м‑р Сойер? Ведь от вас дребезжат стекла, и весь дом идет ходуном. Того и гляди, наедет пожарная команда: – вон, вон отсюда всех этих мерзавцев!
– В самом деле, как вам не стыдно, м‑р Сойер? – сказал м‑р Раддль, вошедший за своею супругой в халате и спальной ермолке.
– Толкуй вот тут с ними про стыд и совесть! – закричала м‑с Раддль. – Тебе бы давно следовало прогнать арапником всю эту ватагу, храбрый ты человек!
– Я бы и прогнал, душечка, если б во мне было человек двенадцать, – отвечал м‑р Раддль миролюбивым тоном, – но ты видишь, лапочка, что они превосходят меня численной силой.
– Уф, какой трус! – возразила м‑с Раддль тоном самого решительного презрения. – Выгоните-ли вы этих негодяев, или нет? Я вам говорю, м‑р Сойер, – заключила м‑с Раддль, топая обеими ногами.
– Они уйдут, сударыня, уйдут сию-же минуту, – отозвался несчастный Боб. – Да, господа, уж не лучше-ли вам уйти, – продолжал он, обращаясь к своим гостям: – мне, в самом деле казалось, что вы уж чересчур пересолили.
– Ах, как это жаль! – сказал щеголеватый джентльмен. – Мы ведь только-что разгулялись: погодить бы еще полчасика!
Дело в том, что щеголеватый джентльмен начал мало-помалу припоминать интересную историю, которой ему не удалось рассказывать в свое время.
– Этого, однако ж, мы не стерпим, господа, – сказал отчаянный франт в лакированных сапогах.
– Разумеется, не стерпим, – отвечал Джек Гопкинс, – песню надобно докончить, Боб. С вашего позволения, господа, я затяну третий куплет.
– Нет, нет, Джек, перестань, пожалуйста, – сказал Боб Сойер, – песня превосходная, но мы уж докончим ее в другое время. Ведь беда, если она переполошит весь дом, – народ буйный, черть их побери!
– Послушай, Боб, чего тут робеть? – заметил Джек Гопкинс. – Одно слово, любезный, и я перебью все окна, повыломаю все двери, переломаю всю мебель. Ну, Боб, прикажи, душечка!
– Спасибо, любезный друг, спасибо за доброе расположение, – проговорил несчастный Боб Сойер, – я никогда не сомневался в твоей дружбе; но теперь, право, не лучше-ли нам покончить.
– Что-ж, м‑р Сойер, скоро-ли уйдут эти скоты? – завизжал опять пронзительный голос м‑с Раддль.
– Вот только дайте им отыскать свои шляпы, сударыня, – сказал Боб. – Сейчас они уйдут.
– Уйдут! – заголосила м‑с Раддль, перегибаясь через лестничные перила в то самое время, как м‑р Пикквик, в сопровождении Топмана, выходил из гостиной, – уйдут, a за каким дьяволом они приходили, смею спросить?
– Сударыня, – возразил м‑р Пикквик, – позвольте вам заметить…
– Ах, ты, старый карапузик, и он туда же, – взвизгнула м‑с Раддль, еще больше перегнувшись через перила. Ведь ты годишься в дедушки всем этим ребятам, пьянчужка ты забулдыжный! Прочь, прочь, негодный пузан!
Не находя приличным оправдываться перед взбешенной бабой, м‑р Пикквик быстро выбежал за ворота, где немедленно присоединились к нему Топман, Винкель и Снодграс. М‑р Бен Аллен, взволнованный и настроенный на печальный лад, проводил их до Лондонского моста и дорогой сообщил по секрету м‑ру Винкелю, что он, Бен Аллен, намерен дать урок всякому джентльмену, который бы вздумал ухаживать за его сестрой Арабеллой, так как он уже давно предназначил её руку своему закадычному другу, Бобу Сойеру. Выразив таким образом эту отчаянную решимость, он залился горчайшими слезами и, махнув рукою, отправился в обратный путь на свою квартиру, до которой, однако ж, не суждено было ему добраться в эту ночь. Постучавшись без всякого успеха в двери двух или трех домов, он прилег, наконец, на крылечных ступеньках колбасной лавки, в твердой уверенности, что спит перед дверью своей комнаты, которую второпях не успел отпереть.
Проводив, таким образом, в угоду м‑с Раддль, всех своих гостей, горемычный Боб Сойер остался один в своей комнате, подле недопитых пуншевых стаканов, и погрузился в горькое раздумье относительно вероятных событий наступающего утра.
Глава XXXIII
Мистер Уэллер старший сообщает критические замечания об одном литературном произведении и потом, с помощью своего возлюбленного сына, бросает грязь в лицо известному достопочтенному джентльмену с красным носом.
Читатели, может быть, припомнят, что утро тринадцатого февраля должно было предшествовать тому знаменитому дню, когда специальный суд присяжных определил окончательно рассмотреть процесс вдовы Бардль против почтенного президента Пикквикского клуба. Это было самое хлопотливое утро для камердинера ученого мужа. С девяти часов пополуночи и до двух пополудни м‑р Самуэль Уэллер путешествовал из гостиницы «Коршуна и Джорджа» в апартаменты м‑ра Перкера и обратно. Никак нельзя сказать, чтобы предстояла особенная надобность в подобной беготне – юридическая консультация уже была окончена давным-давно, и вероятный способ действования в суде был определен и взвешен; но м‑р Пикквик, доведенный до крайней степени тревожной раздражительности, беспрестанно отправлял к своему адвокату маленькие записки следующего содержания:
«Любезный Перкер, все-ли идет хорошо?»
В записках самого м‑ра Перкера неизменно содержался один и тот же ответ:
«Любезный Пикквик, все как следует по возможности».
Дело в том, что до окончательного заседания в суде ничего не могло идти ни хорошо, ни дурно, и ученый муж тревожился напрасно.
Но кто из смертных избегал когда-либо этого тревожного состояния, как скоро нужно было первый раз в жизни, волею или неволею, явиться на специальный суд присяжных? – М‑р Самуэль Уэллер, знакомый в совершенстве с общими слабостями человеческой природы, исполнял все предписания своего господина с тем невозмутимым спокойствием, которое составляло самую резкую и прекраснейшую черту в его оригинальной натуре.
Самуэль Уэллер сидел за буфетом, утешая себя прохладительным завтраком и обильными возлияниями горячительной микстуры, долженствовавшей успокоить его после продолжительных утренних трудов, как вдруг в комнату вошел молодой детина около трех футов в вышину, в волосяной фуражке и бумазейных шальварах, обличавших в нем похвальное честолюбие возвыситься со временем до степени конюха или дворника в трактире. Он взглянул сперва на потолок, потом на буфет, как будто отыскивая кого-нибудь для передачи своих поручений. рассчитывая весьма основательно, что поручение его могло относиться к чайным или столовым ложкам заведения, буфетчица «Коршуна и Джорджа» обратилась к нему с вопросом:
– Чего вам угодно, молодой человек?
– Нет-ли здесь одного человека, по имени Самуэля, – спросил юноша громким голосом.
– A как прозвище этого человека? – сказал Самуэль Уэллер, озираясь кругом.
– A мне почему знать? – отвечал скороговоркой молодой джентльмен, не снимая своей фуражки.
– Ох, какой же вы заноза, молодой человек, – сказал Самуэль, – только знаете-ли что?
– A что?
– На вашем месте я припрятал бы куда-нибудь подальше этот картуз. Волосы – вещь дорогая, понимаете?
Молодой детина скинул фуражку.
– Теперь скажите, любезный друг, – продолжал м‑р Уэллер, – зачем вам понадобился этот Самуэль?
– Меня послал к нему старый джентльмен.
– Какой?
– Тот, что ездит на дилижансах в Ипсвичь и останавливается на нашем дворе, – отвечал молодой детина. – Вчера поутру он велел мне забежать в гостиницу «Коршуна и Джорджа», и спросить Самуэля.
– Это мой родитель, сударыня, – сказал м‑р Уэллер, обращаясь с пояснительным видом к молодой леди за буфетом. – Ну, еще что, молодой барсук?
– A еще нынче в шесть часов пожалуйте в наше заведение, так как старый джентльмен желает вас видеть, – отвечал детина.
– Какое же это заведение?
– Трактир «Голубой дикобраз» на Леденгольском рынке. Угодно вам придти?
– Очень может быть, что и приду, – отвечал Самуэль.
Молодой детина поклонился, надел фуражку и ушел.
М‑р Уэллер выхлопотал без труда позволение отлучиться, так как господин его, погруженный мыслью в созерцание коловратности человеческих судеб, желал остаться наедине весь этот вечер. Времени оставалось еще вдоволь до назначенного срока, и м‑р Уэллер не имел никакой надобности торопиться на свиданье со своим почтенным отцом. Он шел медленно, переваливаясь с боку на бок и оглядываясь во все стороны с великим комфортом наблюдателя человеческой природы, который везде и во всем отыскивает предметы, достойные своей просвещенной любознательности. Так бродил он около часа, по-видимому, без всякой определенной цели; но, наконец, внимание его обратилось на картины и эстампы, выставленные в окнах одного магазина. Самуэль ударил себя по лбу, и воскликнул с не-обыкновенною живостью:
– Какой же я пентюх, черт побери! Ведь забыл, так-таки решительно забыл! Хорошо, что еще не поздно!
В то время как он говорил таким образом, глаза его были устремлены на картину, изображавшую два человеческие сердца, пронзенные одной стрелою. Крылатый купидон, пустивший стрелу, порхал над головами юноши и девы, которые, между тем, грелись у печки и готовили роскошный ужин. На заднем плане яркими красками обрисовывалась фигура дряхлой старухи, смеявшейся исподтишка над молодыми людьми. Все эти сюжеты, взятые вместе, составляли так называемую «Валентину», то-есть подарок в день Валентина, рекомендовавшийся молодым людям, если кто-нибудь из них желал запастись такою драгоценностью на четырнадцатое февраля. Объявление, прибитое к окну магазина, извещало почтеннейшую публику, что такие валентины продаются здесь в бесчисленном количестве по одному шиллингу и шести пенсов за штуку.
– Ну, признаюсь, – повторил Самуэль, – быть бы мне в дураках, если бы не эта картина. Забыл, совсем забыл!
Продолжая рассуждать с самим собою, он быстро вошел в магазин и потребовал лист самой лучшей золотообрезной бумаги и стальное остроконечное перо, за которое хозяин мог бы поручиться, что оно не будет брызгать. Снабдив себя этими принадлежностями, он отправился скорым шагом на Леденгольский рынок, не делая уже в продолжение своего пути никаких дальнейших наблюдений. Чрез четверть часа он увидел на воротах одного здания огромную медную бляху, где рука художника изобразила отдаленное подобие лазоревого слона, с орлиным носом вместо хобота. рассчитывая не без основания, что это и должен быть сам «Голубой дикобраз», м‑р Уэллер вошел в трактир и спросил, здесь-ли его почтенный родитель.
– Нет еще; он должен быть здесь через час с небольшим, – сказала молодая женщина, управлявшая хозяйством «Голубого дикобраза».
– Очень хорошо, сударыия, – отвечал Самуэль. – Прикажите мне дать полбутылки коньяку, тепловатой водицы кружку, да еще чернильницу с хорошими чернилами. Слышите?
Отдав это приказание, Самуэль Уэллер засел в особую каморку, куда немедленно принесли ему и тепловатую водицу, и коньяк, и оловянную чернильницу с песочницей из такого же металла. Первым его делом было расчистить маленький столик перед печкой, так, чтобы не осталось на нем ни малейших следов хлеба или соли. Потом он бережно развернул золотообрезную бумагу, осмотрел перо, попробовал его на своем ногте, засучил обшлага своих рукавов, согнул локти и приготовился писать.
Дело известное, что начертание письма – труд весьма не легкий для тех людей, которые не имеют постоянной привычки обращаться практически с перьями и бумагой. Теория калиграфии, которой они придерживаются, необходимо требует, чтобы писец склонил свою голову на левую сторону, привел свои глаза по возможности в уровень с самой бумагой, и складывал наперед своим языком буквы каждого слова, выводимого пером. Все эти способы, бесспорно, содействуют весьма много к составлению оригинальных произведений, но за то, в некоторой степени, замедляют успех писца, и Самуэль Уэллер провел более часа над своим маленьким посланием, не смотря на то, что план был заранее составлен в его умной голове. Он вымарывал, призадумывался, зачеркивал, писал снова и ставил огромные точки среди самых слов, так что смысл их, некоторым образом, исчезал в обильном количестве чернил. При всем том, дело уже подвигалось к концу, когда дверь отворилась и на пороге каморки появилась дюжая фигура старика.
– Здравствуй, Самми, – сказал старец.
– Здравия желаем, старичина, – отвечал Самуэль, укладывая свое перо. – Ну, что, как поживает мачиха?
– Так же, как и прежде. Ночь провела спокойно; – но поутру принялась опять блажить, как будто окормили ее дурманом, – отвечал м‑р Уэллер старший.
– Стало быть, ей не лучше? – спросил Самуэль.
– Хуже, любезный друг, – отвечал отец, покачивая головой. – A ты что поделываешь, Самми?
– Было дельцо, да покончил, – сказал Самуэль, запинаясь немного. – Я писал.
– Это я вижу, – возразил старик. – К кому бы это?
– Угадай сам, почтеннейший.
– Не к женщине какой-нибудь, я надеюсь?
– Почему же и не к женщине? – возразил Самуэль. – Завтра Валентинов день, и я, с твоего позволения, пишу приветствие своей Валентине.
– Что? – воскликнул м‑р Уэллер, пораженный очевидным ужасом при этом слове.
– Приветствие к Валентине, – что ты вытаращил глаза, старичина?
– Эх, ты, Самми, Самми! – сказал м‑р Уэллер тоном упрека. – Не думал я, не ожидал и не гадал. Сколько раз отец твой толковал о порочных наклонностях молодых людей? Сколько раз я трезвонил тебе по целым часам, желая вдолбить в глупую твою голову, что такое есть женщина на белом свете! Сколько раз старался запугать тебя примером твоей беспардонной мачихи! Ничего не пошло в прок, и ты глупишь по-прежнему, как бессмысленный младенец. Вот тут и воспитывай своих детей! Эх, Самми, Самми!
Эти размышления, очевидно, залегли тяжелым бременем на чувствительную душу доброго старца. Он поднес к губам стакан своего сына и выпил его залпом.
– Чего-ж ты раскудахтался, старик? – спросил Самуэль.
– Да, любезный, плохо тут кудахтать на старости лет, когда, так сказать, единственный сын, единственное детище готовится пеплом убелить седую твою голову и свести тебя до преждевременной могилы. Эх, Самми, Самми!
– Ты никак с ума рехнулся, старичина!
– Как тут не рехнуться, когда тащит тебя в западню какая-нибудь кокетница, a ты себе и в ус не дуешь! Уж если речь пойдет о твоей женитьбе, я должен вырыть себе заживо могилу и растянуться во весь рост. Пропал ты, дурень, ох, пропал ни за грош!
– Успокойся, почтенный родитель: я не женюсь, если ты не дашь особых разрешений. Велика лучше подать себе трубку, a я прочитаю тебе письмецо. Ты ведь дока насчет этих вещей.
Успокоенный как этим ответом, так и перспективой насладиться сосанием трубки, м‑р Уэллер позвонил и, в ожидании трубки, скинул с себя верхний сюртук, затем, прислонившись спиною к камину, выпил еще стакан пунша и, повторив несколько раз утешительные для родительского сердца слова сына, он обратил на него пристальные взоры и сказал громким голосом:
– Катай, Самми!
Самуэль обмакнул перо в чернильницу, чтобы делать исправления по замечаниям своего отца, и начал с театральным эффектом:
– «Возлюбленное…»
– Постой! – воскликнул м‑р Уэллер старший, дернув за колокольчик.
В комнату вбежала служанка.
– Два стакана и бутылку утешительного с перцом!
– Очень хорошо, м‑р Уэллер.
И через минуту трактирная девушка воротилась с утешительной влагой.
– Здесь, я вижу, знают все твои свычаи и обычаи, – заметил Самуэль.
– Как же, любезный, я бывал здесь на своем веку, – отвечал старик. – Отваливай, Самми!
– «Возлюбленное создание», – повторил Самуэль.
– Да это не стихи, я надеюсь? – спросил отец.
– Нет, нет, – отвечал Самуэль.
– Очень рад слышать это, – сказал м‑р Уэллер. – Поэзия – вещь неестественная, мой милый. Никто не говорит стихами, кроме разве каких-нибудь фигляров, перед тем, как они начинают выделывать разные штуки передь глупой чернью, да еще разве мальчишки кричат на стихотворный лад, когда продают ваксу или макасарское масло. Порядочный джентльмен должен презирать стихи, любезный друг. – Ну, отчаливай.
И, высказав эту сентенцию, м‑р Уэллер закурил трубку с критической торжественностью. Самуэль продолжал:
– «Возлюбленное создание, я чувствую себя просверленным…»
– Нехорошо, мой друг, – сказал м‑р Уэллер, выпуская облака. – Какой демон просверлил тебя?
– Нет, я ошибся, – заметил Самуэль, поднося к свету свое письмо. – «Пристыженным» надо читать, да только тут заляпано чернилами. – «Я чувствую себя пристыженным».
– Очень хорошо, дружище. Откачивай дальше.
– Чувствую себя пристыженным и совершенно окон…
– Черт знает, что тут такое вышло, – проговорил Самуэль, напрасно стараясь разобрать каракульки на своей бумаге.
– Всмотрись хорошенько, мой милый, – сказал отец.
– Всматриваюсь, да ничего не разберу. Чернила, должно быть, гадкие. Вот только и осталось, что «н», да «м», да еще «ъ».
– Должно быть – «оконченным», – подсказал м‑р Уэллер.
– Нет, не то, – возразил Самуэль. – «Оконтуженным». – Вот так!
– Ну, это не совсем ловко.
– Ты думаешь?
– Никуда не годится. Стыд с контузией не склеится, – отвечал м‑р Уэллер глубокомысленным тоном.
– Чем же мне заменить это слово?
– Чем-нибудь по-нежнее… Вот увидим, – сказал м‑р Уэллер, после минутного молчания. – Откалывай, Самми!
– «Я чувствую себя пристыженным и совершенно оконтуженным…»
– Постой, постой, дружище! – прервал старец, бросая свою трубку. – Поправь – «оконфуженным» – это будет поделикатней.
– Оно и правда: стыд и конфузия всегда сольются, – отвечал почтительный сын, делая поправку.
– Всегда слушайся меня, мой друг, – отец не научит дурному свое единственное детище. – Отмахни теперь все сначала.
– «Возлюбленное создание, я чувствую себя пристыженным и совершенно оконфуженным, сбитым с панталыка, когда теперь обращаюсь к вам, потому что вы прехорошенькая девчоночка и вот все что я скажу».
– Изрядно, мой друг, то есть, скажу я тебе, это просто – деликатес, мой друг, – заметил м‑р Уэллер старший, выпуская прегустое облако дыма из своего рта.
– Я уж и сам вижу, что это недурно, – сказал Самуэль, обрадованный родительским комплиментом.
– И что мне особенно нравится, дружище, так это колорит, склад, т. е. простая и естественная сбруя всех этих слов, – сказал м‑р Уэллер старший. – Иной бы здесь наквасил каких-нибудь Венер, Юнон, или другой какой-нибудь дряни, a ты просто режешь правду – и хорошо, друг мой, очень хорошо. К чему пристало называть Венерами всех этих девчонок?
– Я тоже думаю, отче, – отвечал Самуэль.
– И справедливо думаешь, мой сын. Ведь после этого, пожалуй, дойдешь до того, что какую-нибудь девчонку станешь называть единорогом, львицей, волчицей или каким-нибудь из этих животных, что показывают в зверинцах.
– Правда твоя, отче, правда.
– Ну, теперь наяривай дальше, мой друг.
Самуэль вооружился опять своим листом, между тем, как отец, от полноты сердечного восторга, затянулся вдруг три раза, причем лицо его одновременно выражало снисходительность и мудрость. Картина была назидательная.
– «Перед тем как тебя увидеть, мне казалось что все женщины равны между собою».
– Да так оно и есть: все женщины равны, – заметил м‑р Уэллер старший, не придавая, впрочем, особенной важности этому замечанию.
Самуэль, не отрывая глаз от бумаги продолжал:
– «Но теперь я вижу, что я судил тогда как мокрая курица, потому что вы, мой сладенький кусочек, ни на кого не похожи и я люблю вас больше всего на свете».
– Тут я немножко пересолил, старичина, – сказал Самуэль, – потому что соль, видишь ты, подбавляет смака в этих вещах.
М‑р Уэллер сделал одобрительный кивок. Самуэль продолжал:
– «Поэтому уж я, милая Мери, пользуюсь привилегией этого дня, – как говаривал один джентльмен, возвращаясь в воскресенье домой из долговой тюрьмы, – и скажу вам, что, лишь только я увидел вас первый и единственный раз, подобие ваше запечатлелось в моем сердце самыми яркими красками и несравненно скорее, нежели рисуются портреты на новоизобретенной машине, – может быть, вы слышали об этом, милая Мери: портрет и с рамкой, и стеклом, и с гвоздем, где повесить рамку, новая машина мастачит только в две минуты с четвертью, a сердце мое обрисовало ваш образ, милая Мери, и того скорее».
– Ну, вот уж это, кажись, смахивает на поэзию, Самми, – сказал м‑р Уэллер старший сомнительным тоном.
– Нет, отче, не смахивает, – отвечал Самуэль, продолжая читать скорее для отклонения дальнейших возражений.
– «И так, милая моя Мери, возьмите меня Валентином на этот год и подумайте обо всем, что я сказал вам. Милая моя Мери, я кончил и больше ничего не знаю».
– Вот и все! – сказал Самуэль.
– Не слишком-ли круто перегнул, мой друг, – спросил м‑р Уэллер старший.
– Ни, ни, ни на волос, – отвечал Самуэль. – Она пожелает узнать больше, a вот тут закорючка. В этом-то и состоит, отче, искусство оканчивать письма на приличном месте.
– Похвальное искусство! Не мешало бы твоей мачихе поучиться, где и как благоразумная леди должна оканчивать свой разговор. Как же ты подписался, сын мой?
– Это дело мудреное, старик, – я не знаю как подписаться.
– Подмахни – «Уэллер», и больше ничего, – отвечал старший владелец фамилии.
– Не годится, – возразил Самуэль. – На валентинах никогда не подписываются собственным именем.
– Ну, так нарисуй: «Пикквик». Это хорошее имя.
– Я то же думаю. Да только тут надобно отче, оттрезвонить каким-нибудь приличным стишком, иначе не соблюдена будет форма валентины.
– Не люблю я это, Самми, – возразил м‑р Уэллер старший. – Ни один порядочный ямщик, сколько я знаю, не занимался поэзией, мой друг, кроме разве одного, который настрочил дюжину стихов вечером, накануне того дня, как повесили его за воровство.
Но Самуэль непременно хотел поставить на своем. Долго он грыз перо, придумывая тему, и, наконец, подмахнул таким образом:
«Вашей ножки черевик.
Пикквик».
Затем он сложил письмо каким-то особенным, чрезвычайно многосложным манером, запечатал и надписал следующий адрес:
«Горничной Мери
в доме мистера Нупкинса, городского мэра
в город Ипсвич».
Когда таким образом кончено было это важное занятие, м‑р Уэллер старший приступил к тому делу, за которым собственно призвал своего сына.
– Поговорим прежде всего о твоем старшине, Самми, – сказал м‑р Уэллер. – Ведь завтра поведут его на суд, если не ошибаюсь?
Самуэль отвечал утвердительно.
– Очень хорошо, – продолжал старик. – Ему, конечно, понадобятся посторонние свидетели для защиты своего лица и дела, или, может быть, он станет доказывать alibi[14]. Долго я думал обо всех этих вещах, и мне сдается, любезный друг, что старшина твой может отвиляться, если будет умен. Я подговорил здесь кой-каких приятелей, которые, пожалуй, полезут на стену, если потребует необходимость; но всего лучше, по-моему мнению, опираться на это alibi. Нет аргументации сильнее alibi, поверь моей продолжительной опытности, Самми.
Высказав это юридическое мнение, старик погрузил свой нос в стакан, подмигивая между тем своему изумленному сыну.
– Ведь это дело не уголовное, старичина, – возразил Самуэль.
– A какая нужда? Alibi пригодится и на специальном суде присяжных, мой милый, – отвечал м‑р Уэллер старший, обнаруживая в самом деле значительную опытность в юридических делах. – Слыхал ты про Томми Вильдспарка?
– Нет.
– Ну, так я тебе скажу по секрету, что его один раз судили за что-то. Что-ж ты думаешь? Когда все мы, в качестве посторонних свидетелей, уперлись на это alibi, так все эти парики разинули рты и развесили уши. Томми отвертелся от виселицы и был оправдан. Поэтому, я скажу тебе, любезный друг, что если старшина твой не упрется на это alibi, так и пиши – все пропало!







