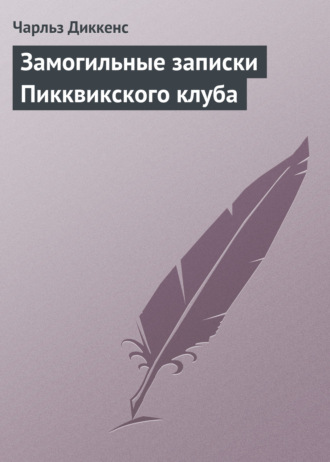
Чарльз Диккенс
Замогильные записки Пикквикского клуба
Прежде, чем м‑р Пикквик утомился, новобрачная чета удалилась со сцены. Затем последовал внизу великолепный ужин, и долго после него веселые гости оставались в столовой, провозглашая заздравные тосты один за другим. Поутру, на другой день, когда м‑р Пикквик воспрянул от глубокого сна, в голове его возникло смутное воспоминание, что он в откровенной и дружелюбной беседе, пригласил накануне к себе в Лондон около сорока пяти особ, для которых обещался устроить роскошный обед в гостинице «Коршуна и Джорджа»: обстоятельство, послужившее для него ясным доказательством, что заздравные тосты содействовали накануне помрачению его мозга.
– Я слышал, моя милая, что ваши хозяева со всеми гостями будут играть сегодня на кухне? – спросил Самуэль Уэллер мисс Эмму.
– Да, м‑р Уэллер, это уж так всегда бывает у нас в первый день святок, – отвечала мисс Эмма. – Хозяин каждый год, со всей точностью, соблюдает этот обычай.
– Хозяин ваш, должно быть, чудесный человек, – сказал м‑р Уэллер.
– Да, уж такой чудесный, я вам скажу, просто разливанное море! – заметил жирный парень, вмешиваясь в разговор. – К нынешнему дню, например, он откормил, м‑р Уэллер, такую свинку… словом сказать, что в рот, то спасибо.
– Уж и вы встали, любезный? – спросил Самуэль.
– Как же, м‑р Уэллер, я уже успел и перекусить кое-чего.
– Хорошо, дружище, только знаете-ли что? – сказал м‑р Уэллер выразительным тоном. – Бывали вы в зверинце?
– Нет, не случалось; a что?
– Вы очень похожи, по своим ухваткам, на змея, которого зовут удавом.
– Что-ж такое? Это не беда, я полагаю.
– Конечно, не беда, да только, примером сказать, если вы беспрестанно будете все спать и есть, с вами, пожалуй, повторится одна весьма неприятная история, случившаяся с одним стариком, который носил косу.
– Что же с ним случилось? – спросил жирный парень испуганным тоном.
– Я расскажу, если хотите, – отвечал м‑р Уэллер. – Прежде всего надобно знать, что он заплывал как откормленный боров и, наконец, растолстел до того, что целые сорок пять лет ни разу не мог видеть своих собственных башмаков.
– Ах, какие страсти! – воскликнула Эмма.
– Да, моя милая, – продолжал м‑р Уэллер, – и если б, примером сказать, вздумалось вам из-за обеденного стола показать ему свои ножки, он бы никак не увидал их. Очень хорошо-с. Был этот джентльмен конторщиком по коммерческой части и обыкновенно хаживал в свою контору каждый день с прекраснейшею золотою цепочкой, которая выставлялась фута на полтора из его жилетного кармана, где лежали у него огромные золотые часы, столько же толстые, как сам он, если, то-есть, судить пропорционально. – «Вам бы уж лучше не носить с собой этих часов», говорят однажды друзья этого старого джентльмена. – «А почему?» говорит он. – «Потому, дескать», говорят они, «что их могут украсть». – «Будто бы» говорит он. – «Право», говорят они. – «Хорошо», говорит он, – «желал бы я видеть вора, который бы вздумал покуситься на такую кражу: я и сам, черт побери, не могу их вынуть из кармана, потому что карман узенький, и конец часовой цепочки, для пущей безопасности, пришит к подкладке. Как скоро мне надо справиться, какой час, я всегда завертываю по дороге в булочную и там смотрю на часовую стрелку». – И вот, судари мои, похаживает он с своей напудренной косой, и посмеивается, и смело выставляет свое брюшко вперед, как будто сам черт ему не брат. Не было в целом Лондоне ни одного карманного воришки, который бы не попытал своего счастья около этого старого джентльмена; но цепочка его всегда держалась крепко на своем месте и часы не шевелились, как будто приросли к телу. Каждый вечер он спокойно возвращался домой и хохотал на своем диване до упада, так что напудренная его коса болталась, как маятник на стенных часах. Однажды, наконец, выходит он опять на широкую улицу, идет по тротуару, вальяжно переваливаясь с боку-на-бок, и вот, смею доложить, видит он карманного вора, который гуляет около него с каким то мальчуганом, a у мальчугана голова, так сказать, то же что пивной котел. Разумеется, старый джентльмен угадал воришку с первого взгляда. – «Ну», говорит он «будет потеха, черт их побери: пусть попробуют счастья. Ни лысого беса не поймают». Проговорив это, он уже начал ухмыляться, как вдруг мальчишка, с огромной башкой, отцепившись от своего товарища, разлетелся прямо на него и пырнул своим лбом в самую середину его толстого брюха, так что старый джентльмен тут же упал навзнич и растянулся по тротуару. – «Разбой, разбой!» кричал толстяк. – «Ничего», говорит вор, «все теперь в порядке: будь вперед умнее и не беспокой понапрасну промышленных людей.» Ну, вы уж понимаете, сударыня, когда встал старый джентльмен, в кармане его не было ни цепочки, ни часов; a что всего хуже, желудок у него совсем перестал варить, да-таки просто ничего не варил до самого последнего конца. Так-то, молодой человек, перестаньте откармливать себя и зарубите себе на носу этот анекдот. Толстота к добру не поведет.
По заключении этой сентенции, оказавшей, по-видимому, могущественное влияние на разнеженные чувства жирного парня, он и м‑р Уэллер, в сопровождении мисс Эммы, направили свои шаги в огромную кухню, где уже между тем собралось все джентльменское общество, следуя ежегодному святочному обыкновению, которое с незапамятных времен исполнялось предками старика Уардля.
На потолке этой кухни, в самом её центре, старик Уардль повесил собственными руками огромную ветвь омелы, и эта знаменитая ветвь мгновенно подала повод к самой восхитительной и отрадной сцене, где опять первая роль должна была принадлежать достославному основателю и президенту столичного клуба. Подбоченясь и расшаркиваясь обеими ногами, м‑р Пикквик ловко подлетел к старой леди, взял ее за руку, подвел к таинственной ветви и приветствовал свою даму со всею любезностью кавалера времен леди Толлинглауер. Старая леди соблаговолила принять поцелуи великого человека со всем достоинством и важностью, приличною такому торжественному случаю; но молодые девицы, все до одной, вздумали на первый раз оказать решительно сопротивление, потому, вероятно, что старинный обряд утратил свое первобытное значение в их глазах, или потому, что сопротивление их естественным образом могло возвысить ценность удовольствий от буквального исполнения старинного обряда. Как бы то ни было, молодые девицы зашумели, засуетились, забарахтались, завизжали, забегали по всем углам и обращались ко всем возможным уловкам, не думая, однако ж, выбегать из кухни, что, конечно, всего легче и скорее могло бы каждую из них освободить от назойливости неотвязчивых джентльменов. Казалось, эта суматоха начинала уже надоедать некоторым господам; но в ту пору, когда, по-видимому, пропадала всякая надежда на буквальное исполнение обряда, девицы вдруг остановились как вкопанные, и смиренно подставили свои розовые щечки для джентльменских поцелуев. М‑р Винкель поцеловал молодую девушку с черными глазами; м‑р Снодграс приложил свои губы к сахарным устам мисс Эмилии Уардль; м‑р Уэллер, не дожидаясь очереди стоять под святочным кустом, перецеловал всю прислугу женского пола, начиная с мисс Эммы. Бедные родственники целовали, кто кого попал, не разбирая ни возраста, ни пола. Старик Уардль стоял неподвижно и безмолвно, прислонившись спиною к камину и обозревая всю эту сцену с неизреченным наслаждением. Жирный толстяк оскалил зубы и пожирал святочный пирог.
Мало-помалу все угомонилось и пришло в обыкновенный порядок. Поцеловав еще раз достопочтенную праматерь семейства, м‑р Пикквик величаво остановился под заветным деревом, и мысли его, по-видимому, погрузились в созерцание золотого века. В эту минуту, вдруг, ни с того, ни с сего, молодая девица с черными глазами бросилась на шею великого мужа и влепила самый звонкий поцелуй в его левую щеку. Оказалось, что это было условленным сигналом, и прежде чем м‑р Пикквик успел опомниться и вникнуть в сущность дела, целый хор веселых девиц окружил его со всех сторон.
Умилительно и трогательно было видеть, как великий человек стоял в самом центре этой цветущей группы: его целовали в лоб, в виски, в подбородок, в щеки и даже в очки; но после всех этих поцелуев, сопровождавшихся громким смехом, открылась сцена еще более трогательная и умилительная. Невидимая рука вдруг сорвала очки с его ученого президентского носа и завязала ему глаза шелковым платком: понурив голову и растопырив руки, м‑р Пикквик переходил из угла в угол и от одной стены к другой, до тех пор, пока не удалось ему поймать одного из бедных родственников, который уже потом все остальное время пробегал с завязанными глазами. После жмурок, где м‑р Пикквик оказал необыкновенную ловкость, наступила знаменитая игра в «Хватай Дракона»[7], продолжавшаяся до тех пор, пока все действующие лица пережгли свои пальцы. Затем, среди кухни, явился великолепный стол, где между прочим все и каждый должны были угощать себя яблочным вином, которое пенилось и кипело в огромном сосуде из красной меди.
– Превосходно! – воскликнул м‑р Пикквик, бросая вокруг себя торжественные взоры. – Вот это уж подлинно можно назвать комфортом нашей незатейливой жизни.
– Мы неизменно каждый год соблюдаем этот обычай, – сказал м‑р Уардль. – Хозяева и слуги садятся все вместе за столом, и, в ожидании полночи, обыкновенно рассказывает кто-нибудь старинную историю. Трундель, возьми кочергу, любезный, и поправь огонь.
Мириады искр посыпались от горящих головней, и яркое пламя из камина отразилось на всех лицах.
– Хотите ли, господа, я пропою вам песню? – сказал м‑р Уардль.
– Сделай милость, – отвечал м‑р Пикквик.
И м‑р Уардль, наполнив кубок яблочной настойкой, пропел, к удовольствию всей компании, святочную песнь, где доказывалось как дважды-два, что зима – самое лучшее из времен года, a святки – лучшая неделя во всей зиме. Залп рукоплесканий и заздравный тост, предложенный всем хором, были достойною наградою для благородного певца.
– Уф, какая демонская погода, господа! – сказал один из гостей, заглянувший в окно.
– A что? – спросил Уардль.
– Снег валит хлопьями, ветер воет как голодный волк, и, кажется, подымается мятель.
– О чем это он говорит? – с беспокойством спросила старая леди. – Уж не случилось ли чего-нибудь.
– Нет, матушка, ничего, – отвечал Уардль, – Джемс заметил только, что на дворе поднимается вьюга. Отсюда даже слышно, как ветер ревет через трубу.
– Вот что! – сказала старая леди. – Помню, лет за пять перед тем, как умереть твоему отцу, был такой-же сильный ветер, и снег почти залепил передния окна. В тот самый вечер он еще рассказал нам историю о чертенятах, которые унесли старика Габриэля Грубба. Я это очень хорошо помню.
– О какой это истории говорит ваша матушка? – спросил м‑р Пикквик.
– То есть, собственно говоря, никакой тут истории нет, любезный друг. Фантазия довольно странная: ей пришел в голову могильщик, о котором в здешнем народе носятся слухи, будто чертенята занесли его в какие-то неведомые страны.
– Прошу покорно! – воскликнула старая леди. – Разве есть между вами безтолковые головы, которые не поверят этому рассказу? Прошу покорно! Ты еще ребенком мог слышать и знать, что все истинная правда. Ведь Грубба унесли?
– Ну, да матушка, я не сомневаюсь, если вам угодно, – с улыбкой отвечал Уардль. видишь ли, друг Пикквик, жил-был могильщик Грубб, которого занесли чертенята: вот тебе и вся история от начала до конца.
– О, нет, этим ты не отделаешься, Уардль: я хочу слышать все, по порядку, и твоя обязанность рассказать нам, как это было, и зачем, и почему.
Уардль улыбнулся и поспешил предложить заздравный тост, принятый всеми с одинаковым восторгом. Затем, когда все глаза и уши обратились на него, он начал рассказывать след…
Однакож, надобно знать честь: эта глава и без того чересчур длинна. Мы совсем упустили из виду обязанность добросовестных издателей и очевидно перешагнули через барьер литературных приличий. Итак, милостивые государыни и государи, начинается. –
Глава XXIX
и с нею – повесть о могильщике Груббе.
В некотором славном городе, за несколько сотен лет, когда еще не было на белом свете наших дедов и отцов, жил-был некий муж, по имени Габриэль Грубб, ключарь и могильщик некоего кладбища, где, с незапамятных времен, покоились целые сотни тысяч мертвецов. Из того, милостивые государи, что он был человек, окруженный на каждом шагу символами смерти, никак не следует, я полагаю, что характер у него непременно должен быть угрюмый, печальный и суровый: все гробовщики, сколько мне известно, народ чрезвычайно веселый, и я знал на своем-веку одного факельщика, который у себя, в домашнем кругу, за бутылкой пива, жил припеваючи в полном смысле слова, то есть, распевал он самые веселые песни от раннего утра до поздней ночи. При всем том, вы угадали: Габриэль Грубб точно был пасмурен, угрюм даже мизантроп с головы до ног, потому что он вел дружбу и беседовал только с самим собою да еще с походною бутылочкой широкого размера, которую имел похвальное обыкновение всегда носить в одном из своих глубоких карманов.
Однажды, накануне святок, часа за полтора до полночи, Габриэль взвалил на плечо свой заступ, засветил фонарь и отправился, по своим делам, на старое кладбище: ему нужно было приготовить к утру свежую могилу. Теперь он был особенно не в духе и ускорял свои шаги, рассчитывая весьма основательно, что хандра его пройдет, если он усердно примется за свою обычную работу. Продолжая свой путь вдоль старинной улицы, он видел, как веселое зарево каминов пробивалось через окна, и слышал, как шумели и смеялись счастливые семейства, приветствовавшие друг друга с наступлением святок: в это-же самое время до чуткого его носа доносилось благовоние святочных пирожков и других бесчисленных яств, приготовленных на кухне к семейному пиру. Все это тяжелым камнем налегло на сердце Габриэля Грубба, и когда вслед затем, повыскочили на улицу группы ребятишек, сопровождаемые веселыми девочками в папильотках и с курчавыми волосами, могильщик улыбнулся демонской улыбкой, и воображение его мигом нарисовало вереницу детских болезней, задушающих человеческую жизнь в самом её начале. Это утешило его.
При этом счастливом настроении духа Габриэль подвигался вперед, отвечая по-временам грубым и хриплым голосом на поклоны и приветствия соседей, проходивших мимо. Наконец, он повернул в темную аллею, по прямому направлению к кладбищу. На этом месте всегда было мрачно и пусто, и городские жители могли проходить здесь только днем, когда кто-нибудь хотел сделать печальный визит своему отжившему родственнику или другу. Легко, стало быть, представить удивление и вместе негодование могильщика, когда он увидел на самом конце аллеи какого-то пузыря, который ревел во все горло святочную песню. Не говоря дурного слова, Габриэль поставил фонарь на землю, и, когда мальчишка, спешивший, вероятно, на святочный вечер к своим родственникам, подбежал к нему на ближайшее расстояние, могильщик, со всего размаха, съездил его кулаком по голове, отчего бедный залился горькими слезами и запел уже совсем другую песню. Совершив этот подвиг, Габриэль Грубб поднял опять свой фонарь, и, ускорив шаги, вступил через несколько минут на кладбище и отворил сильною рукою железную калитку.
Первым его делом было снять свой балахон и поставить фонарь на землю. Затем Габриэль Грубб взял свой заступ и с веселым духом принялся копать недоконченную могилу. Земля была мерзлая и жесткая, молодой месяц светил тускло, работа подвигалась медленно. При других обстоятельствах и в другое время все это, вероятно, могло бы в могильщике расстроить душевное спокойствие; но теперь он был совершенно счастлив и доволен собою. Проработав около часа, Габриэль Грубб сел на один из могильных камней и втянул в себя несколько глотков живительной влаги. Это развеселило его до такой степени, что он громким голосом пропел могильную песню и потом еще громче захохотал.
– Ха, ха, ха!
– Ха, ха, ха! – повторил голос, раздавшийся за спиной Габриэля Грубба.
Могильщик насторожил уши и приостановился в то самое мгновение, как плетеная бутылка снова готова была прикоснуться к его устам. Ближайшая могила, где сидел он, была так же спокойна и безмолвна, как все кладбище в эту бледно-лунную ночь. Седой иней алмазами блестел и сверкал на могильных камнях. Снег белым саваном расстилался по всему пространству. Ни малейший шорох не нарушал глубокого спокойствия торжественной сцены.
– Нечего тут трусить, – проговорил Габриэль, приставляя опять бутылку к своим губам, – это было эхо.
– Нет, не эхо, – сказал басистый голос.
Габриэль вскочил и как вкопанный остановился от изумления и страха: глаза его устремились на фигуру, от вида которой мгновенно похолодела его кровь. С первого взгляда могильщик догадался и понял, что фигура, сидевшая в перпендикулярной позе на могильном камне, не могла принадлежать к живым существам этого мира. её длинные, фантастические ноги были закинуты одна на другую, и голые фантастические руки опирались на её колени. На тощем её теле, спереди, была белая, как снег, простыня, украшенная небольшими прорезами, a сзади – коротенький плащ покрывал её спину. Кружевные манжеты, вместо галстуха, украшали её шею, и длинные башмаки с заостренными концами были на её ногах. На голове её торчала шляпа с широкими полями, украшенная единственным пером. Шляпа подернута была седым инеем, и фигура имела такой спокойный вид, как будто могильный камень был её обыкновенной резиденцией двести или триста лет подряд. Она сидела с большим комфортом, высунув язык и делая преуморительные гримасы, какие только могут быть приличны выходцам с того света. Могильщик понял, что ему приходится иметь дело с нечистым духом.
– Это было не эхо! – сказал нечистый дух.
Габриэль Грубб остолбенел, и язык его не поворотился для ответа.
– Что ты делаешь здесь накануне Рождества? – спросил дух суровым тоном.
– Копаю могилу, сэр, – пролепетал Габриэль Грубб.
– Кто-ж в такую ночь бродит здесь по кладбищу, нарушая могильный сон мертвецов? – спросил дух страшно-торжественным тоном.
– Габриэль Грубб! Габриэль Грубб! – завизжал дикий хор нестройных голосов, которые, казалось, наполняли все кладбище.
Могильщик оглянулся во все стороны, но не увидел ничего.
– Что у тебя в этой бутылке? – спросил нечистый.
– Желудочная настойка, сэр.
– Кто-ж пьет на кладбище желудочную настойку в такую торжественную ночь.
– Габриэль Грубб! Габриэль Грубб! – подхватили невидимые голоса.
Нечистый дух бросил злобный взгляд на испуганного могильщика и, возвысив свой голос, закричал:
– A кто будет нашей законной добычей в эту полночь?
– Габриэль Грубб! Габриэль Грубб! – завизжали бесчисленные голоса.
– Ну, Габриэль, что ты на это скажешь? – спросил дух, бросая на собеседника сатанинский взор.
Могильщик не смел пошевельнуться, и дыхание сперлось в его груди.
– Что-ж ты об этом думаешь, Габриэль? – повторил дух.
– Это… это… сэр, очень любопытно, – проговорил могильщик, полумертвый от страха, – любопытно и очень мило; но вы уж позвольте мне докончить работу.
– Работу! – воскликнул дух. – Какую, Габриэль?
– Я должен до рассвета вырыть могилу, – пролепетал могильщик.
– Так, так, – сказал дух, – кто же роет могилы, когда веселится весь человеческий род?
И опять таинственные голоса провопили:
– Габриэль Грубб! Габриэль Грубб!
– Приятели мои, кажется, нуждаются в тебе, любезный Габриэль, – сказал дух, высунув язык во всю длину.
– Как же это, сэр! – возразил трепешущий могильщик. – Я не имею чести знать ваших друзей, и они меня ни разу не видали. Мы незнакомы, сэр.
– Нет, сударь мой, они отлично тебя знают! – отвечал дух суровым тоном. – Знаем мы человека, который в эту самую ночь, при выходе из своей хижины, бросал злобные взгляды на невинных детей, выбегавших за ворота родительских домов! Мы знаем человека, который, в неистовой зависти и злобе на чужую радость, поразил веселого мальчика без малейшей вины с его стороны. Знаем мы его, знаем!
Здесь нечистый дух закатился самым отчаянным смехом и вдруг, перекувырнувшись, стал на своей голове, вверх ногами; но через минуту, сделав ловкий прыжок, он опять очутился на могильном камне и поджал под себя ноги, как портной на своем прилавке.
– Вы уж позвольте мне вас оставить, сэр, – пролепетал могильщик, употребляя отчаянные усилия сдвинуться с места.
– Нас оставить! – завопил дух. – Габриэль Грубб хочет нас оставить! Ха, ха, ха!
И в то время, как он хохотал, кладбище вдруг озарилось ярким светом, заиграла плясовая музыка, и мириады чертенят повыскочили из земли, чтоб играть в чехарду с памятниками на могилах. Игра была шумная и резвая, никто не переводил духа и каждый старался показать перед другим свою удивительную ловкость. Несмотря на оцепенение чувств, могильщик мог однако же заметить, что первый дух, его недавний собеседник, превзошел всех своим дьявольским искусством. Между тем, как приятели его показывали свою удаль над памятниками обыкновенного размера, он, напротив, перепрыгивал через гигантские фамильные своды, не встречая нигде и ни в чем ни малейших препятствий. Мало-помалу чертенята угомонились, музыка смолкла, нечистый дух схватил могильщика за шиворот и провалился с ним сквозь землю.
Отуманенный быстротой движений, Габриэль Грубб долго не мог придти в себя; но когда, наконец, луч размышления проскользнул по его разгоряченному мозгу, он увидел себя в огромной пещере, окруженной со всех сторон полчищами чертенят, безобразных, угрюмых и диких. В центре этой комнаты, на возвышении заседал его кладбищенский приятель, имевший очевидно над всеми бесконтрольную власть. Габриэль Груббь стоял подле него, неподвижный и безмолвный.
– Сегодня очень холодно, – сказал Веельзевул, – потому что так, без сомнения, надлежало называть главного духа, заседавшего на возвышении, – очень холодно, – эй, кто-нибудь, стакан горячей водки!
При этой команде полдюжины чертенят исчезли в подземном буфете, и через минуту воротились с кубком огненной влаги, которую немедленно представили Веельзевулу.
– А, это недурно! – сказал Веельзевул, залпом проглотив огненный кубок. – Подать такой же Габриэлю.
Напрасно несчастный могильщик клятвенно уверял, что он не привык согревать себя на ночь горячительными напитками: один чертенок скрутил его руки, другой насильно разжал ему рот, a третий, по данному знаку, затопил его горло огненной влагой, при чем Веельзевул и все чертенята покатились со смеху, между тем, как Габриэль задыхался, чихал и плакал.
– Ну, что, хороша водка? – спросил Веельзевул.
– Хороша, сэр, покорно вас благодарю, – отвечал трепещущий могильщик.
– Не стоит благодарности. Покажите теперь этому несчастному нелюдиму какую-нибудь картину из нашей галлереи.
При этих словах густое облако, покрывавшее отдаленный конец пещеры, начало постепенно исчезать, и скоро перед глазами могильщика, на значительном расстоянии от него, открылась небольшая, бедно меблированная комната, где все было чисто и опрятно. Толпа маленьких детей кружилась около камина; они дергали за платье свою мать и гомозились вокруг её стула. Мать по временам подымалась со своего места и, подходя к окну, старалась разглядеть вдали какой-то ожидаемый предмет. Вкусный обед уже стоял на столе, покрытом чистою скатертью, и спокойные кресла были поставлены перед экраном камина. Раздался стук в дверь; мать побежала отворять, и дети запрыгали от радости, когда увидели, что отец их вошел. Он был мокр и казался утомленным. Скинув шинель и сюртук, он умылся, надел халат и сел за стол среди малюток, окружавших его по обеим сторонам. Все, казалось, в этой хижине дышало счастием и спокойствием духа.
Но сцена незаметно изменилась. В миниатюрной спальне, на маленькой постели, лежал прекрасный мальчик, младший из членов этого семейства, исхудалый и больной. Розы увяли на его щеках, и не было больше живительного света в его отуманенных глазках. Первый раз от роду закралось чувство умиления и жалости в сердце закоренелого могильщика, но прежде, чем успел он выразить его словами, мальчик умер. Младшие братья и сестры столпились вокруг его маленькой постели и схватили его крошечную руку, холодную и бескровную, но вместо того, чтоб пожать ее, дети отпрянули от постели и начали смотреть с благоговением на младенческое лицо своего братца; он был спокоен и тих, и они увидели, что брат их умер. Теперь стало им известно, что он – ангел небесный, водворившийся в райских селениях, откуда он благословляеть своих милых родственников, скитающихся по земле.
Легкое облако снова пробежало через картину, и опять вся сцена изменилась. Мать и отец были теперь беспомощными стариками, и число детей их уменьшилось больше, чем на половину; но довольство и спокойствие отражалось на каждом лице и сияло в глазах каждого, когда все семейство сгруппировывалось около камина и рассказывало стародавния истории из прежних счастливых дней. В мире и тишине отец сошел в могилу, и скоро последовала за ним верная его спутница, разделявшая с ним труды, огорчения и заботы земной жизни. Оставшиеся члены семейства пали на колена перед могилой своих родителей, и зеленый дерн омочился их горькими слезами; но не было заметно ни тревожных жалоб, ни отчаяния на их грустных лицах, так как они знали, что, рано или поздно, наступит для них общее свидание по ту сторону гроба. Они встали, пошли домой, отерли свои слезы, и скоро житейские дела восстановили опять спокойствие их духа. Густое облако заслонило всю картину, и могильщик не видел больше ничего.
– Ну, что ты об этом думаешь? – сказал дух, устремив свои широко-раскрытые глаза на Габриэля Грубба.
– Ничего, сэр, картина, на мой взгляд, очень хороша, – пробормотал могильщик, – покорно вас благодарю.
– А! Так тебе нравится эта картина, негодный нелюдим? – завопил Веельзевул тоном величайшего презрения, – нравится?
Он хотел еще что-то прибавить, но негодование совсем задушило его голос, и прежде, чем могильщик успел извиниться, Веельзевул протянул свою длинную ногу и дал ему пинка в самую маковку его головы. Вслед затем мириады чертенят обступили могильщика, и каждый принялся колотить его без всякого милосердия и пощады. Избитый и усталый, он повалился навзничь и скоро лишился чувств.
Поутру на другой день, неизвестно какими судьбами, Габриэль Грубб очутился опять на своем кладбище, где лежал во всю длину на одном из могильных памятников. Открыв глаза, он увидел подле себя опорожненную бутылку, заступ, фонарь и балахон: все это покрылось инеем и лежало в беспорядке поодаль от него. Камень, где сидел Веельзевул, лежал на своем обычном месте, и не было на нем никаких следов присутствия сатанинской силы. Работа над могилой почти нисколько не подвинулась вперед.
Сначала Габриэль Грубб усомнился в действительности своих ночных приключений; но жестокая боль в плечах и боку убедила его неоспоримым образом, что побои чертенят отнюдь не могли быть выдуманы его расстроенным мозгом. Еще раз сомнение возникло в его душе, когда он не увидел никаких следов на снегу, где чертенята играли в чехарду; но это обстоятельство само собою объяснилось тем, что чертенята, как существа невидимые, могут и не оставить после себя вещественных знаков. На этом основании Габриэль Грубб поднялся кое-как на ноги, вычистил свой балахон, надел шляпу и медленно потащился в город.
Но теперь он уже был совсем другой человек; радикальная перемена быстро совершилась в его сердце уме. Он не хотел возвращаться к своему прежнему месту, где, вероятно, всякий стал бы издеваться над ним. Подумав несколько минут, он пошел, куда глаза глядят, твердо решившись добывать свой хлеб каким-нибудь другим честным трудом.
Фонарь, заступ и плетеная бутылка остались на кладбище, где нашли их в тот же самый день; но куда девался могильщик, никто не мог знать. Скоро пронеслась молва, что Габриэля занесли чертенята на тот свет, и все этому верили, от первой старухи до последнего ребенка.
Но молва приняла совсем другой оборот, когда Габриэль Грубб, лет через десять после этого события, воротился опять на свою родину оборванным и больным стариком. Повесть о своих похождениях он рассказал прежде всего городскому мэру, и от него уже весь свет узнал, как могильщик пировал у Веельзевула в его подземной пещере.







