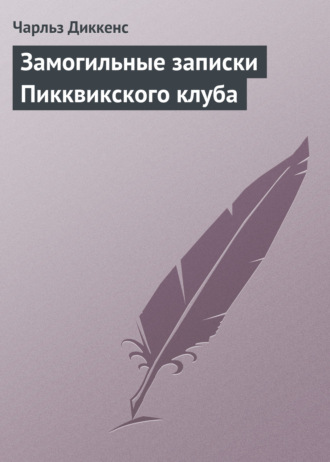
Чарльз Диккенс
Замогильные записки Пикквикского клуба
Хотя в течение многих недель после этого он пролежал дни и ночи в жесточайшей горячке, его не покидали ни на минуту сознание его потери и воспоминание о данной клятве. Перед глазами его проходили сцены за сценами, места сменялись местами, происшествия происшествиями, вытесняя друг друга со всею сумятицею бреда, но все они стояли в какой-нибудь связи с его главною умственною задачею. То он плыл по необъятному морю, над ним стояло кроваво-багровое небо, под ним бушевали волны, вздымаясь, точно горы, кипя водоворотом вокруг его утлого судна. Впереди его плыл еще другой корабль, тоже выдерживающий борьбу с разъяренными стихиями. Паруса у него висели клочьями по мачтам, палуба была покрыта испуганными людьми, которые по очереди один за другим становились жертвами высоких волн, покрывавших палубу и увлекавших за собою все, что попадалось им по пути. Наконец, волны поднялись еще выше и целая ревущая масса воды ринулась на корабль со всесокрушающею быстротой и силою, оторвала у него руль и раздробила все судно до самого киля. Из громадного водоворота, образованного гибнувшим кораблем, раздался крик, – предсмертный крик сотни утопавших людей, слившийся в один страшный вопль, – крик до того громкий и пронзительный, что он раздался над воем враждовавших стихий и звучал, звучал до тех пор, пока, казалось, пронизал собою воздух, небо и воду. Но что это такое? – вот показалась старая, седая голова, она поднимается над поверхностью моря и бьется с волнами, меча взгляды предсмертной тоски и громко вопия о помощи?.. Взглянув на нее, он спрыгивает с своего корабля и плывет к ней сильным размахом. Он достигает её: он бок-о-бок с нею. Да, это те черты. Старик видит его приближение и тщетно старается избежать встречи с ним. Но он крепко стискивает старика и тащит его под воду. Ниже, ниже с ним, на пятьдесят лотов глубины! Старик борется слабее и слабее, наконец, остается недвижным. Старик, убит, убит им; клятва его сдержана.
Идет он потом по жестким пескам безграничной пустыни, одинокий и босой. Песок царапает ему ноги и ослепляет его; мелкие, тончайшие пылинки садятся в поры его кожи и раздражают его почти до бешенства. Громадные массы того же песку несутся перед ним ветром и, пронизанные лучами палящего солнца, возвышаются в отдалении подобно огненным столбам. Остовы людей, погибших в этой ужасной пустыне, лежат раскиданными вокруг на всем пространстве, которое можно окинуть глазом; все освещается зловещим светом и повсюду, в пределах человеческого зрения, встречаются одни только предметы ужаса или омерзения. Тщетно стараясь произнести крик испуга, с языком, прилипшим к гортани, спешит он вперед, как безумный. Поддерживаемый сверхъестественной силой, он мчится по пескам, пока, наконец, не падает без чувств на землю. Какая восхитительная прохлада оживляет его? Откуда исходит это отрадное журчанье? Вода! Действительно, вот источник; свежая, чистая струя бежит у ног путника. Он припадает к ней губами и, протянув на берегу болевшие свои члены, впадает в сладостное забытье. Его приводит в себя шум чьих-то приближающихся шагов. Седой старик плетется тоже к ручью, чтобы утолить свою мучительную жажду. Это опять он! Путник вскакивает, охватывает его руками и не допускает к ручью. Старик борется сильно, судорожно, молит допустить его к воде; – старик просит только одну каплю её для спасения своей жизни! Но он мощно удерживает старика и жадно любуется его агонией; потом, когда безжизненная голова старика склоняется на грудь, он отталкивает от себя ногой этот ненавистный труп.
Когда кончилась его горячка, и сознание вернулось к нему, он проснулся к жизни богатым и свободным; ему объявили, что отец его, желавший, чтобы он издох в тюрьме, – желавший! Тот самый, который допустил, чтобы существа, бывшие для узника дороже его собственной жизни, умерли от лишений и сердечной тоски, против которой бессильны все лекарства, – этот самый человек был найден мертвым в своей пуховой постели. У него достало бы духу оставить после себя нищим своего сына, но, гордясь своим здоровьем и крепостью, он откладывал совершение нужного для того акта, и теперь ему приходилось на том свете скрежетать зубами при мысли о богатстве, которое досталось его сыну, только благодаря его нераспорядительности и беспечности. Больной очнулся, и первое, что пришло ему в голову, была клятва о мести, второе, что злейшим его врагом был родной отец его жены, – человек, засадивший его в тюрьму и оттолкнувший от своего порога дочь и её ребенка, когда они молили у его ног о помиловании. О, как он проклинал слабость, не дозволявшую ему быть на ногах и уже деятельно разработывать свой план мести!
Он распорядился, чтобы его перевезли подальше от места его горькой утраты и его бедствий, и поселился в тихом убежище на морском берегу, – не в надежде вернуть себе душевное спокойствие и счастье, потому что и то, и другое покинули его навсегда, но для восстановления своих упавших сил, для обдумывания своего дорогого плана. И здесь какой-то злой дух дал ему возможность совершить первую, самую страшную месть.
Было летнее время; постоянно погруженный в мрачные думы, он выходил по вечерам из своего уединенного жилища и направлялся по узкой тропинке между утесов к дикому и одинокому местечку, которое пришлось ему по душе; здесь он садился на какой-нибудь скалистый обломок и, закрыв лицо руками, просиживал так по нескольку часов, – иногда до глубокой ночи, до тех самых пор когда длинные тени утесов, нависших над его головою, клали непроницаемый черный покров на все окружающие предметы.
Однажды, в тихий вечер, он сидел так, в своем обычном положении, приподнимая иногда голову для того, чтобы проследить за полетом стрекозы, или устремляя глаза на великолепную багровую полосу, которая, начинаясь среди океана, шла, казалось, до самого его горизонта, до самого того места, где спускалось солнце. Вдруг глубокое безмолвие окрестности нарушилось громким воплем о помощи. Он прислушался, неуверенный в том, что слышал, но крик повторился с еще большею силою, чем прежде. Он вскочил тогда с места и поспешил по направлению голоса.
Дело разъяснилось тотчас же само собою; на берегу лежала разбросанная одежда; в недалеком расстоянии от него виднелась немного из воды человеческая голова, a какой-то старик кидался из стороны в сторону по берегу, ломая руки в отчаянии и взывая о помощи. Больной, силы которого восстановились уже достаточно, сбросил с себя верхнее платье и кинулся к морю, с намерением броситься в воду и спасти утопавшего.
– Поспешите, сэр, ради Бога! помогите ему, молю вас именем Господа! Это мой сын, сэр, кричал вне себя старик. Мой единственный сын, сэр, и он умирает на глазах своего отца!
При первых словах старика, незнакомец остановился в своем разбеге и, скрестив руки, стал перед ним неподвижно.
– Великий Боже! – воскликнул старик, узнавая его, – Гейлинг!
Незнакомец молча улыбнулся.
– Гейлинг! – дико произнес старик. – Мой сын, Гейлингь, – это мой милый сын… Взгляните взгляните!..
И, задыхаясь, несчастный отец указал на то место, где молодой человек боролся со смертью.
– Слушайте! – сказал старик. – Он кричит еще… значит, он жив… Гейлинг, спасите его, спасите!
Незнакомец снова улыбнулся и продолжал стоять неподвижно, как статуя.
– Я был виноват перед вами, – продолжал с воплем старик, падая перед ним на колени и ломая свои руки, отомстите за себя; возьмите все мое, самую мою жизнь: бросьте меня в воду у своих нот и, если только человеческая природа может подавить в себе естественное сопротивление, я умру, не двинув ни рукой, ни ногой. Сделайте это, Гейлингь, сделайте, но спасите моего сына! Он так молод еще, Гейлинг, так молод для смерти!
– Слушайте, произнес незнакомец, грозно схватывая старика за руку, – я хочу жизни за жизнь, и вот теперь здесь одна. Мой ребенок умирал на глазах своего отца несравненно более мучительною и продолжительною смертью, чем та, которой подвергается теперь, пока я говорю, этот молодой поноситель чести своей сестры. Вы смеялись, – смеялись в лицо своей дочери, на черты которой смерть тоже накладывала свою руку, – смеялись над нашими страданиями. Как вы теперь о них помышляете? Смотрите сюда, смотрите!
Говоря это, он указывал на море. Слабый крик пронесся над водою: последнее мощное усилие утопавшего взволновало на несколько мгновений рябившие волны, a затем то место, где он канул в свою преждевременную могилу, сравнялось и сгладилось с окружающей водою…
Спустя три года после этого, какой-то джентльмен вышел из собственного экипажа у дверей одного лондонского стряпчего, известного в то время публике за не совсем чистого малого в своем ремесле, и попросил у него особого совещания по весьма важному делу. Посетитель был, очевидно, еще в первой поре молодости, но его лицо было бледно, тревожно и убито, так что и без острой наблюдательности дельца, стряпчему легко было догадаться при первом же взгляде на гостя, что болезнь или иные страдания совершили больше перемен в его наружности, чем то могла произвести рука времени в двойной против прожитой им жизни период.
– Я хочу поручить вам одно судебное дело, – сказал незнакомец.
Стряпчий поклонился почтительно и кинул взгляд на большой пакет, который был в руках у джентльмена. Посетитель заметил этот взгляд и продолжал.
– Это не совсем обыкновенное дело, и мне пришлось много хлопотать и издержать денег, пока эти бумаги достались мне в руки.
Стряпчий взглянул еще тревожнее на пакет; посетитель, развязав шнурок, опутывавший бумаги, выложил на стол множество росписок, копий с условий и других документов.
– Как вы увидите, – продолжал посетитель, – этот господин, имя которого стоит на документах, несколько лет тому назад, занял под них большие суммы денег. Между ним и теми людьми, в руках которых первоначально находились эти бумаги, и от которых я перекупил их все за цену тройную и четверную против их настоящей стоимости, подразумевалось соглашение, что все эти обязательства будут возобновляться по истечении известного периода. Но такое условие не выговорено нигде формальными актами; он же потерпел в последнее время большие потери и если все эти требования падут на него одновременно, они сокрушат его окончательно.
– Общая сумма доходит до нескольких тысяч фунтов, – сказал стряпчий, разбирая бумаги.
Это верно, – отвечал незнакомец.
– Что же следует делать? – спросил стряпчий.
– Что делать! – возразил клиент с большим волнением. – Пустить в ход каждый рычаг закона и каждую проделку, которую может изобресть ум, a мошенничество исполнить; употребить и честные, и подлые средства, – все открытое узаконенное преследование, поддержанное всею изворотливостью его самых сметливых исполнителей. Я хочу, чтобы он умер тяжкою и медленною смертью. Разорите его, продайте его земли и товары, выживите его из дома, оторвите от очага и сделайте его нищим на старости лет, пусть он умрет в долговой тюрьме!
– A издержки, дорогой сэр, все издержки, необходимые, чтобы довести до конца такое сложное дело, – заметил стряпчий, приходя в себя после минутного оцепенения. – Если ответчик умрет на соломе, кто заплатит за расходы, сэр?
– Назначайте сумму, – проговорил незнакомец, дрожа так сильно от волнения, что рука его едва сдерживала перо, которое он схватил при этих словах. – Какую угодно сумму, и она ваша. Не бойтесь называть ее, любезный! Я не сочту ее большою, если вы выиграете мое дело.
Стряпчий назначил наудачу очень большую сумму, в виде задатка, который мот бы обеспечить его в случае проигрыша дела – но назначил ее более с целью удостовериться, до каких издержек в действительности расположен идти его клиент, чем в предположении, что тот удовлетворит его требованию. Однако, незнакомец написал тотчас же чек на своего банкира, пометив всю сумму сполна, и ушел.
По чеку было выплачено, как следует, и стряпчий, находя своего странного клиента таким человеком, на которого можно было положиться, принялся серьезно за свою работу. Прошло слишком два года, после этого разговора, и м‑р Гейлинг частенько просиживал целые дни в конторе своего стряпчего, наблюдая за накоплением бумаг и прочитывая с блестящими от радости глазами, одно за другим, то укорительные письма, то просьбы о небольшой отсрочке, то представления о неизбежном разорении, грозившем ответчику. Эти бумаги стали появляться с тех пор, как на должника посыпались иск за иском, процесс за процессом. На все моления, хотя бы о краткой отсрочке, был один ответ: деньги должны быть уплачены. Земли, дома, движимое имущество, все пошло, в свою очередь, на удовлетворение многочисленных требований, и сам старик был-бы засажен в тюрьму, если бы ему не удалось обмануть бдительности полиции и бежать.
Неумолимое злорадство Гейлинга, вместо того, чтобы утоляться успехом преследования, возростало с разорением его врага. Когда же он узнал о побеге старика, бешенство его перешло всякие пределы. Он скрежетал зубами и осыпал страшными проклятиями людей, которым было поручено заарестование. Он был сравнительно успокоен лишь повторительными уверениями, что беглец будет наверное отыскан. Повсюду были разосланы агенты для его поимки; для открытия места его убежища были пущены в ход все хитрости, какие только можно было изобрести, но все было напрасно. Прошло с полгода, a убежище старика все еще не было открыто.
Наконец, однажды поздно вечером, в квартиру стряпчего явился Гейлинг, которого не было видно уже несколько недель, и послал сказать ему, что его желает немедленно видеть один джентльмен. Прежде, чем стряпчий, узнавший его по голосу, успел приказать слуге впустить его, он кинулся вверх по лестнице и вбежал в гостиную, бледный и едва переводя дух. Затворив за собою дверь, чтобы его не услышали, он опустился в кресло и проговорил шепотом:
– Тс! Я его нашел, наконец!
– Неужели? – спросил стряпчий. – Прекрасно, дорогой сэр, прекрасно.
– Он скрылся в жалкой лачужке в Кэмден-Тоуне – продолжал Гейлинг, – и, может быть, это лучше, что мы потеряли его из виду, потому что он жил тут все это время совершенно один, в самой отвратительной нищете… он беден, очень беден.
– Очень хорошо, – сказал стряпчий. – Вы хотите, чтобы его арестовали завтра, конечно?
– Да, отвечал Гейлингь. – Впрочем нет, стойте! Послезавтра. Вы удивляетесь моему желанию отложить арест, – продолжал он с ужасной усмешкой, – но я позабыл кое что. Завтрашний день памятен в его жизни: пусть он пройдет.
– Хорошо, – сказал стряпчий. – Вы сами напишите инструкции полицейскому чиновнику?
– Нет, пусть он встретится со мною здесь, в восемь часов вечера; я сам пойду с ним.
Встреча состоялась в назначенный вечер. Они сели в наемную карету и велели извозчику остановиться на том углу старой Панкрасской дороги, на котором стоит приходский рабочий дом. В то время, когда они вышли из экипажа, было уже почти темно; направясь вдоль глухой стены перед фасадом ветеринарного госпиталя, они повернули в боковой переулок, который зовется или звался в то время, Малою Школьною улицей и который, не знаю, как теперь, но тогда был порядочно пустынным местом, окруженным почти все одними полями да рвами.
Нахлобучив себе на глаза свою дорожную шляпу и закутавшись в плащ, Гейлинг остановился перед самым беднейшим домиком в улице и постучался тихонько в двери. Ему тотчас же отворила какая-то женщина и поклонилась ему, как знакомому; Гейлинг шепнул полицейскому, чтобы он оставался внизу, a сам тихо взобрался на лестницу и, отворив дверь в комнату, прямо вошел в нее.
– Предмет его розысков и неугасавшей ненависти, в настоящую минуту уже дряхлый старик, сидел за голым сосновым столом, на котором тускло горела заплывшая сальная свеча. Старик, испуганный внезапным появлением незнакомца, ухватился за стол, его слабые ноги дрожали.
– Зачем вы пришли сюда? – сказал он. – Здесь прозябает нищета. Чего вы ищете тут?
– Вас? Я желаю говорить с вами, – отвечал Гейлинг.
И сказав эти слова, он сел на стул у противоположного угла стола и, сняв свою шляпу и откинув воротник шинели, открыл свое лицо.
Увидев это знакомое лицо, старик внезапно потерял способность говорить. Он откинулся назад на своем стуле и, сложив обе руки на груди, вперил в Гейлинга пристальный взгляд, в котором выразилось омерзение и ужас.
– Шесть лет тому назад, – сказал Гейлинг, – в этот же самый день я взял у вас дорогую для вас жизнь в возмездие за жизнь моего ребенка. Над безжизненным трупом вашей дочери, старик, я поклялся, что и она будет отомщена. Ни на один час я не забыл о своей клятве, и, если бывали мгновения, когда ослабевала моя жажда мщения, я припоминал страдающий безропотный взгляд моей жены и изможденное от голода лицо моего ребенка, – слабость пропадала во мне, и я снова твердо шел к своей цели. Первый акт возмездия совершился – вы его хорошо помните; нынче будет последний.
Старик задрожал и руки его немощно упали с его груди.
– Завтра я оставляю Англию, – сказал Гейлинг после минутной паузы. – Нынешней ночью я предам вас на медленную смерть, которой умерла она – я пошлю вас жить безнадежной жизнью в тюрьме…
Он посмотрел в лицо старику и замолчал. Он поднес свечу, дотронулся до него слегка и вышел из комнаты.
– Вы получше присматривайте за стариком, – сказал он женщине, отворив дверь, и, дав знак полицейскому следовать за ним, прибавил: – он очень плох.
Женщина заперла дверь, вбежала на лестницу и нашла бездыханный труп старика.
На одном из самых тихих и уединенных кладбищ в Кэнте, среди богатой растительности, под гладким надгробным памятником, покоятся кости молодой матери и её ребенка. Но прах отца не смешивается с их прахом. Никто не знает, даже сам стряпчий, выигравший процесс, последующей истории его странного клиента.»
Окончив свой рассказ, старик Бембер немедленно встал с своего места, подошел к вешалке, стоявшей в углу залы, надел с большою осторожностью шляпу и пальто, и, не сказав никому ни одного слова, медленно вышел из дверей. Так как некоторые джентльмены покоились глубоким сном, a другие погрузились мыслями и чувствами в приготовление гоголь-моголя и глинтвейна, то м‑р Пикквик, руководимый здесь, как и везде, глубокими философскими соображениями, нашел средство спуститься незамеченным в нижний этаж, где уже давно с нетерпением дожидался его м‑р Самуэль Уэллер, вместе с которым и выбрался он благополучно из ворот знаменитой таверны.
Глава XXII
Мистер Пикквик едет в Ипсвич и встречается в Ипсвиче с интересной леди в желтых папильотках.
– Поклажа твоего старшины, Самми? – спросил м‑р Уэллер старший своего возлюбленного сына, когда тот явился на двор гостиницы «Пестрого Быка», в Уайтчапеле, с чемоданом и дорожной сумкой.
– Угадал ты, дядюшка, спасибо на добром слове, – отвечал м‑р Уэллер младший, складывая с плеч свое бремя и усаживаясь на чемодан.
– Будет сейчас и сам старшина.
– Едет на извозчике? – сказал отец.
– Восемь пенсов за две мили кабриолетной встряски для размягчения костей и полирования крови, – отвечал сын. – Ну что, дядя, как мачеха сегодня?
– Рычит, Самми, рычит, – отвечал старик Уэллер, качая головой.
– Это что такое, куманек?
– Блажит твоя мачеха, Самми, блажит, провал ее возьми. Недавно приписалась она к методистской сходке. Я недостоин её, друг мой Самми, чувствую, что недостоин.
– Право? Этакой смиренности за тобою не водилось, старичина.
– Да, любезный, послушлив я, смирен стал и кроток, как ягненок. Это, говорит твоя мачеха, делает мне честь. Ты ведь, я полагаю, не знаешь, в чем состоит вера этих методистов? Стоит посмотреть, как они там куралесят: потеха да и только. Ханжи, провал их возьми, лицедеи; и народ вообще демонски буйный.
– Запрети мачехе ходить на такие сборища.
– Ветренная голова ты, Самми, вихровая башка, – возразил Уэллер, почесывая переносье большим пальцем. – A что, думаешь ты, – продолжал он после короткой паузы, – что они поделывают там на этих методистских сходках?
– Не знаю, – сказал Самуэль. – A что?
– Пьют чай, видишь ты, и поклоняются какому-то проныре, который называется у них пастырем, – сказал м‑р Уэллер. – Раз как-то я стоял, выпуча глаза, подле картинной лавки на нашем дворе, и вдруг увидел выставленное в окне объявление, где было крупными буквами написано: «Билеты по полкроне. Обращаться с требованиями в комитет, к секретарю, м‑с Уэллер». – Пошел я домой, Самми, и увидел в нашей гостиной четырнадцать женщин, молодых и старых. Это и есть комитет. Как они говорили, Самми, провал их возьми, как они говорили! Дело шло о каких-то резолюциях, прожектах, вотах, и все это было крайне забавно. Меня сначала хотели выгнать: но я низенько поклонился, вынул кошелек и учтиво потребовал билет на запись в их компанию по методистской части. Вечером в пятницу я умылся, причесался, надел новое платье и отправился с своей старухой. Мы пришли в первый этаж довольно невзрачного дома, и, когда кухарка отворила дверь я увидел чайные приборы на тридцать персон. Женщины, можно сказать, переполошились все, когда взглянули на меня, и между ними поднялся такой дружный шепот, как будто никогда не приходилось им видеть плотного джентльмена пятидесяти восьми лет. Вдруг поднялся внезапный шум, какой-то долговязый парень с красным носом и в белом галстуке, вставая с своего места, затянул пискливым визгом: «идет пастырь, посетить свое верное стадо». И вслед за тем в комнату вошел жирный прежирный толстяк с белыми широкими щеками и открытым ртом. Мы все встали. Женщины отвесили низкий поклон и продолжали стоять с опущенными руками и понурыми головами. Жирный толстяк перецеловал всех до одной молоденьких и старых женщин. То же самое после него учинил и долговязый парень с красным носом. Я думал, что теперь моя очередь для целования и уже собирался чмокнуть в алые уста свою хорошенькую соседку, как вдруг вошла твоя мачеха, и с нею – огромные подносы с хлебом, маслом, яйцами, ветчиной и сливками. Подали чай, сначала пропели гимн, a потом все принялись закусывать и пить с методистским аппетитом. Я тоже навострил зубы и выпил стакан чаю. Жирный толстяк тоже величественно выпил стакан чаю, закусывая в то же время колбасой и ветчиной. Сказать правду, Самми, такого питуха и обжоры не видал я никогда. Красноносый парень тоже ел за четверых, но был он, можно сказать, младенец в сравнении с этим жирным толстяком. Очень хорошо. После закуски тем же порядком пропели гимн. Затем жирный толстяк, взъерошив свои волосы, сказал проповедь, которая произвела сильное впечатление на слушателей. После проповеди он, махнув рукой, пробасил с каким-то голодно-диким остервенением: – «Где есть грешник? Где оный несчастный грешник?» – При этом все женщины обратили на меня свои глаза и начали стонать общим хором, точно пришел их последний час. Мне это показалось довольно странным, но из приличия я не сказал ничего. Вдруг он всполошился опять и, взглянув на меня сердитыми глазами, проревел: – «Где есть грешник? Где оный оканнный грешник?» – И все женщины заревели опять, вдесятеро громче, чем прежде. Это уж меня совсем сбило с панталыку. Я сделал два шага вперед и сказал: «Мой друг, не на меня ли вы намекаете?» – Но вместо того, чтобы извиниться, как честному человеку, он взбеленился, как помешанный, и начал гвоздить с плеча, называя меня сыном гнева, чадом ярости и другими раздирательными именами. Я не выдержал, друг мой Самми, и кровь, что называется, хлынула у меня под самый затылок. Три тумака закатил я ему в брюхо, съездил по башке красноносого детину, да и поминай как звали. Только меня и видели. О, если бы ты слышал, Самми, как взвизгнули и завыли все эти бабы, когда пастырь их опрокинулся навзничь и сделал кувырколетие через красного детину! Это был демонский шабаш, где твоя мачеха отличалась пуще всех. – Однакож вот и твой старшина, если не ошибаюсь.
Еще м‑р Уэллер не кончил своей речи, как м‑р Пикквик вышел из кабриолета и вступил на широкий двор.
– Прекрасное утро, сэр, – сказал м‑р Уэллер старший.
– Прекрасное, – подтвердил м‑р Пикквик.
– Бесподобное, – подхватил какой-то рыжеватый джентльмен с инквизиторским носом и голубыми очками. Он вышел из кабриолета в ту же минуту, как м‑р Пикквик. – Изволите, сэр, отправляться в Ипсвич?
– Да! – сказал м‑р Пикквик.
– Какое необыкновенное стечение обстоятельств. Ведь и я тоже в Ипсвич.
М‑р Пикквик поклонился.
– На империале? – сказал рыжеватый джентльмен.
М‑р Пикквик поклонился опять.
– Скажите, пожалуйста, это просто удивительно – и я ведь тоже на империале, – проговорил рыжеватый джентльмен, – мы решительно едем вместе.
И рыжеватый джентльмен, наделенный от природы важною осанкой и заостренным носом, который, по птичьему манеру, вздергивался у него кверху всякий раз, как он говорил что-нибудь, – улыбнулся таким образом, как будто он сделал в эту минуту одно из самых удивительных открытий, какие когда-либо выпадали на жребий человеческой премудрости.
– Мне будет очень приятно пользоваться вашим обществом, сэр, – сказал м‑р Пикквик.
– И мне. Это, можно сказать, находка для нас обоих. Общество, видите ли, есть… не иное что есть, как… как… то есть, общество совсем не то, что уединение: как вы думаете?
– Истинно так, и никто не будет спорить, – сказал м‑р Уэллер, вступая, с обязательной улыбкой в разговор. – Это сэр, что называется: правда-матка, как говаривал один собачей, когда горничная, подавая ему баранью кость, заметила, что он не джентльмен.
– А! – воскликнул с надменной улыбкой рыжеватый незнакомец, обозревая м‑ра Уэллера с ног до головы. – Ваш приятель, сэр?
– Не совсем, – сказал вполголоса м‑р Пикквик. – Он, собственно говоря, мой слуга; но я охотно позволяю ему некоторые вольности, потому что, между нами, он большой чудак, и я отчасти горжусь им.
– Вот что! – сказал рыжеватый джентльмен.
– На вкусы, видите ли, нет закона; Что-ж касается до меня, я вообще терпеть не могу чудаков – все, что имеет некоторым образом притязание на оригинальность, производит во мне корчи. – Как ваша фамилия, сэр?
– Вот моя карточка, сэр, – отвечал м‑р Пикквик, забавляясь странными манерами забавного незнакомца.
– Вот что! – сказал рыжеватый джентльмен, укладывая карточку в свой бумажник. – Пикквик, м‑р Пикквик – очень хорошо, можно сказать, прекрасно. Я вообще люблю узнавать чужия фамилии: это некоторым образом выручает из больших затруднений. Вот вам и моя карточка, сэр. Магнус, моя фамилия, сэр, прошу обратить внимание на это обстоятельство; Magnus, то есть великий, – как вам это нравится?
– Хорошая фамилия, – проговорил м‑р Пикквик, стараясь подавить невольную улыбку.
– A имя еще лучше, – подхватил м‑р Магнус. – Вообразите, ведь меня зовут Петером! Как вы его находите!
– Прекрасное имя – сказал м‑р Пикквик.
– Вообразите, все мне говорят то же. Многие мои приятели решительно убеждены, что я сделаюсь когда-нибудь великим человеком.
– Очень может быть.
– Ну, господа, дилижанс готов, если вам угодно, – сказал кондуктор.
– Вещи мои уложены? – спросил м‑р Магнус.
– Уложены, сэр.
– Все?
– Все.
– Красный мешок, например?
– Уложен.
– A полосатый мешок?
– Уложен.
– A серый бумажный узелок?
– Уложен.
– A кожаная картонка для шляпы?
– Ничего не забыто, сэр.
– Теперь, не угодно ли вам садиться? – сказал м‑р Пикквик.
– Нет, нет, погодите, извините меня, м‑р Пикквик, – отвечал Петер Магнус, останавливаясь на колесе. – В делах этого рода я люблю совершеннейшую аккуратность; я вижу, кондуктор виляет. – Эй, любезный!
– Что вам угодно? – откликнулся кондуктор.
– Уложена ли кожаная картонка для шляпы?
– Да ведь уж я имел честь доложить вам, что ничего не забыто.
– Полно, так ли? куда вы ее уложили? Покажите.
Кондуктор принужден был вынуть и показать владельцу требуемую вещь, и после тщательного осмотра картонка опустилась опять под козла в глубокий ящик. Успокоенный насчет этого пункта, рыжеватый джентльмен постепенно обнаружил беспокойные сомнения касательно, во-первых, красного мешка, который могли забыть, и, во-вторых, полосатого мешка, который могли украсть. Кондуктор снова принужден был представлять наглядные доказательства относительно неосновательности подобных подозрений. После всех этих церемоний, продолжавшихся около четверти часа, рыжеватый джентльмен согласился, наконец, взобраться на кровлю дилижанса, заметив предварительно, что теперь у него гора свалилась с плеч, и что он совершенно счастлив.
– Подозрительны вы, сэр, Господь с вами, – сказал м‑р Уэллер старший, искоса посматривая на незнакомца, когда тот возился на империале.
– Да, почти так, когда дело идет насчет каких-нибудь безделиц, – сказал незнакомец. – Зато в важных случаях я великодушен, как маленький ребенок. Теперь я спокоен, совершенно спокоен.
– Еще бы! пора угомониться, – отвечал м‑р Уэллер. – Самми, помоги своему господину. Другую ногу, сэр, вот так. Вашу руку, сэр, понатужьтесь. Баста. Думать надо, сэр, мальчиком вы были гораздо легче.
– Ваша правда, – сказал задыхаясь м‑р Пикквик, продолжая взбираться на свое место.
– Ну, Самми, марш наверх, живей! – сказал м‑р Уэллер. – Ступайте Вилльям, пошевеливайтесь. Берегите под аркой свои головы, джентльмены, нагибайтесь – вот так.
И дилижанс покатился по Уайтчапелю, к великому удивлению всего народонаселения этого многолюдного квартала шумной столицы.
– Сторона, сэр, не совсем веселая, – сказал Самуэль, притрагиваясь к полям своей шляпы, что делал он всегда, при вступлении в разговор со своим господином.
– Справедливо, Сам, – отвечал м‑р Пикквик обозревая прочищенными очками тесную и грязную улицу, по которой катился дилижанс.
– Замечательно, сэр, что устрицы и бедность идут рука об руку всякий раз, как выглядывают на свет.
– Что вы под этим разумеете, Сам?
– Ничего особенного, сэр, только история вот какая: чем беднее место, тем больше охотников до устриц. Здесь, например, как изволите видеть, девчонки почти перед каждым домом торгуют устрицами на своих запачканных скамейках.
– Хорошо. Что-ж отсюда следует?
– A то, сэр, что, если, примером сказать, какой-нибудь голоштанник не знает, что ему делать, он тотчас же выбегает на улицу из своей квартиры и начинает уписывать устрицы. Это, я полагаю, делается с отчаянья, сэр.
– С чего-ж больше? Разумеется, – сказал м‑р Уэллер старший; – соленую семгу тоже хорошо употреблять с горя, особенно, если при этом водится хорошая настойка для утоления жажды. Вот почему, сэр, устрицы и семга идут рука об руку с бедными людьми.
– Это, однако ж, замечательные факты, – сказал м‑р Пикквик, – я запишу их в первом же месте, где мы остановимся.
Тем временем они спокойно проехали шоссейную заставу. После глубокомысленного молчания, продолжавшегося мили две или три, м‑р Уэллер старший вдруг поворотил свою голову к м‑ру Пикквику и сказал:







