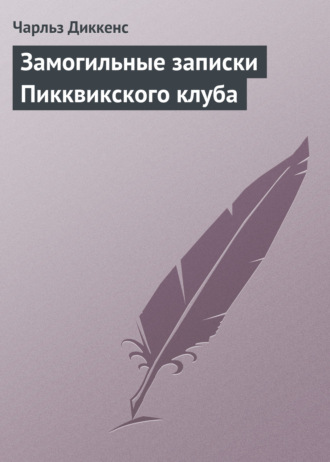
Чарльз Диккенс
Замогильные записки Пикквикского клуба
Несколько недель я раздумывал, какому роду смерти отдать предпочтение. – Сперва я подумал об отраве; потом мне пришла мысль утопить мою жертву; наконец, я остановился на огне. Наш громадный дом объят пламенем, a жена сумасшедшего превратилась в уголь и золу, – какая поразительная картина! Я долго лелеял эту мысль и хохотал до упаду, представляя себе, как разумные люди станут относиться к этой штуке, ничего в ней не понимая, и как ловко они будут проведены хитростью сумасшедшего! Однакож, по зрелом размышлении, я нашел, что огонь непригоден для моей цели. Бритва заняла все мое внимание. О! какое наслаждение испытывал я день за днем, натачивая ее и представляя в своем воображении тот рубец, какой будет сделан ею на шее моей жены.
Наконец, явились ко мне старые чудовища, которые и прежде руководили моими действиями, и на разные голоса прошептали, что пришла пора действовать, и положили мне в руку открытую бритву, Я крепко сжал ее, быстро вскочил с постели и наклонился над своей спящей женой. её лицо было прикрыто рукой; я осторожно отодвинул руку, и она упала на грудь несчастной женщины. Видимо, жена моя плакала недавно, потому что на щеках её еще оставались незасохшие капли слез. её бледное лицо было кротко и спокойно и в то время, как я смотрел на него, оно озарялось нежной улыбкой. Я осторожно положил руку на плечо. Она вздрогнула, но еще во сне. Я наклонился ниже… Она вскрикнула и пробудилась.
Одно движение моей руки – и звук навсегда бы замер в её груди. Но я испугался и отступил шаг назад. её глаза пристально смотрели на меня, и не знаю, отчего это случилось, но только её взгляд производил во мне чувство трепета и смятения. Она поднялась с кровати. Я задрожал, бритва была у меня в руке, но я не мог пошевелиться. Она стала медленно отступать к двери, продолжая смотреть на меня своим спокойным, пристальным взглядом. Приблизившись к двери, она обернулась. Очарование исчезло. Я подскочил вперед и схватил её за руку. Она вскрикнула раз и другой и упала на пол.
Теперь я мот убить ее без всякого сопротивления, но в доме уже была произведена тревога. Я услышал стук шагов на ступенях лестницы. Я вложил бритву в футляр, отпер дверь на лестницу и громко позвал на помощь.
Пришли люди, подняли ее и положили на кровать. Целые часы не приходила она в себя, a когда пришла и к ней воротилась способность говорить, она потеряла рассудок, стала дика и даже свирепа.
Призвали докторов. Великие люди подкатили к моему подъезду на прекрасных лошадях, и жирные лакеи стояли на запятках их карет. Несколько недель сряду бодрствовали они при постели моей больной жены. Открылся, наконец, между ними великий консилиум, и они совещались в другой комнате с торжественною важностью, обращаясь друг к другу на таинственном наречии врачебного искусства. После консультации, один из самых знаменитых эскулапов предстал передо мной с глубокомысленным лицом, отвел меня в сторону, сделал ученое вступление, сказал в утешение и назидание несколько красноречивых слов, и объявил мне, сумасшедшему, – что жена моя сошла с ума. Он стоял со мною у открытого окна, и его рука лежала на моем плече. Стоило употребить весьма легкое усилие, и премудрый эскулап полетел бы вверх ногами на кирпичный тротуар. Это была бы превосходнейшая штука! Но я глубоко таил в своей груди заветную тайну, и эскулап остался невредим. Через несколько дней мне было объявлено, что больную должно запереть в каком-нибудь чулане, под строгим надзором опытной сиделки: сумасшедший должен был озаботиться насчет ареста своей жены. Я удалился за город в открытое поле, где никто не мог меня слышать, и громко хохотал я, и дикий крик мой долго разносился по широкому раздолью.
Она умерла на другой день. Почтенный старец с седыми волосами сопровождал на кладбище свою возлюбленную дщерь, и нежные братцы оросили горькими слезами бесчувственное тело своей сестрицы.
Дух мой волновался, чувства били постоянную тревогу, и я предугадывал инстинктивно, что секрет мой, рано или поздно, сделается известным всему свету, что меня назовут её убийцей. Я не мог постоянно скрывать своей дикой радости и буйного разгула, клокотавшего в моей груди. Оставаясь один в своей комнате, я прыгал, скакал, бил в ладоши, кувыркался, плясал, и дикий восторг мой раздавался иной раз по всему дому. Когда я выходил со двора и видел на улицах шумные толпы, когда сидел в театре, слышал звуки оркестра и смотрел на танцующих актеров, неистовая радость до того начинала бушевать в моей груди, что я томился непреодолимым желанием выпрыгнуть на сцену и разорвать на мелкие куски весь этот народ. Но, удерживая порывы своего восторга, я скрежетал зубами, топал ногой и крепко прижимал острые ногти к ладоням своих собственных рук. Все шло хорошо, и никто еще не думал, не гадал, что я был сумасшедший.
Помню… это, однако ж, последняя вещь, которую я еще могу хранить в своей памяти: действительность в моем мозгу перемешивается теперь на половину с фантастическими грезами, да и нет у меня времени отделять перепутанные идеи одну от другой. – Помню, как, наконец, меня вывели на свежую воду. Ха, ха, ха! Еще я вижу, как теперь, их испуганные взоры, еще чувствую, как сжатый кулак мой бороздил их бледные щеки и как потом, с быстротой вихря, я бросился вперед, оставив их оглашать бесполезным визгом и гвалтом пустое пространство. Сила гиганта объемлет меня, когда я думаю теперь об этом последнем подвиге в своей жизни между разумными людьми. Вот… вот как дребезжит, хрустит, ломается и гнется эта железная решетка под моей могучей рукой. Я мог бы искромсать ее, как гибкий сучок, если бы мог видеть определенную цель для такого маневра; но здесь пропасть длинных галлерей, запоров, дверей: трудно было пробить себе дорогу через все эти преграды Да если б и пробил, на дворе, я знаю, пришлось бы наткнуться на железные ворота, всегда запертые и задвинутые огромным железным болтом. Всем здесь известно, что я был за человек.
Ну да… так точно: я выезжал на какой-то спектакль. Было уже поздно, когда я воротился домой. Мне сказали, что в гостиной дожидается меня один из трех братцев, желавший, сказал он, переговорить со мною о каком-то важном деле: я помню это хорошо. Этот человек, должно заметить, служил для меня предметом самой остервенелой ненависти, к какой только способен сумасшедший. Уже давно я собирался вонзить свои когти в его надменную морду. Теперь мне доложили, что он сидит и ждет меня для переговоров. Я быстро побежал наверх. Ему нужно было сказать мне пару слов. По данному знаку слуги удалились. Было поздно, и мы остались наедине, с глазу на глаз – первый раз в жизни.
Я тщательно отворотил от него свои глаза, так как мне было известно, – и я гордился этим сознанием, – что огонь бешенства изливался из них ярким потоком. Мы сидели молча несколько минут. Он первый начал разговор. Странные выходки с моей стороны, говорил он, последовавшие немедленно за смертью моей сестры, были некоторым образом оскорблением священной её памяти. Соображая различные обстоятельства, ускользавшие прежде от его внимания, он был теперь почти убежден, что я дурно обращался с его сестрой. Поэтому он желал знать, справедливо ли он думал, что я злонамеренно оскорбляю память несчастной покойницы и оказываю явное неуважение к её осиротелому семейству. Звание, которое он носит, уполномочивает его требовать от меня таких объяснений.
Этот человек имел должность, красивую должность, купленную на мои деньги. В его голове прежде всего родился и созрел остроумный план – заманить меня в западню и овладеть моим богатством. Больше всех и настойчивее всех других членов семейства принуждал он свою сестру выйти за меня, хотя знал, что сердце её принадлежало молодому человеку, любившему ее до страсти. Звание уполномочивает его! Но это звание было позорной ливреей его стыда! Против воли я обратил на него свой взор, но не проговорил ни слова.
Под влиянием этого взора, физиономия его быстро начала изменяться. Был он не трус, но краска мгновенно сбежала с его лица, и он отодвинул свой стул. Я подсел к нему ближе и когда я засмеялся – мне было очень весело, – он вздрогнул. Бешенство сильнее заклокотало в моей крови. Он испугался.
– A вы очень любили свою сестрицу, когда она была жива? – спросил я. – Очень?
Он с беспокойством оглянулся вокруг, и я увидел, как рука его ухватилась за спинку стула. Однакож, он не сказал ничего.
– Вы негодяй, сэр, – продолжал я веселым тоном, – я открыл ваши адские замыслы против меня и узнал, что сердце вашей сестры принадлежало другому, прежде чем вы принудили ее вступить в ненавистный брак. Я знаю все и повторяю – вы негодяй, сэр.
Он вскочил, как ужаленный вепрь, высоко поднял стул над своею головою и закричал, чтоб я посторонился, тогда как мы стояли друг перед другом лицом к лицу.
Голос мой походил на дикий визг, потому что я чувствовал бурный прилив неукротимой злобы в своей груди. Старые чудовища выступали на сцену перед моими глазами и вдохновляли меня мыслью – растерзать его на части.
– Будь ты проклят, изверг! – взвизгнул я во всю мочь. – Я сумасшедший! Провались ты в тартарары!
Богатырским взмахом я отбил деревянный стул, брошенный мне в лицо, схватил его за грудь, и оба мы грянулись на пол.
То была не шуточная борьба. Высокий и дюжий мужчина, он сражался за свою жизнь. Я знал, ничто в мире не сравняется с моей силой, и притом – правда была на моей стороне… Да, на моей, хоть я был сумасшедший. Скоро он утомился в неравной борьбе. Я наступил коленом на его грудь и обхватил обеими руками его мясистое горло. Его лицо покрылось багровой краской, глаза укатились под лоб, он высунул язык и, казалось, принялся меня дразнить. Я стиснул крепче его шею.
Вдруг дверь отворилась, с шумом и гвалтом ворвалась толпа народа и дружно устремилась на сумасшедшего силача.
Секрет мой был открыт, и теперь надлежало мне бороться за свою свободу. Быстро вскочил я на ноги, бросился в самый центр своих врагов и мгновенно прочистил себе путь, как будто моя могучая рука была вооружена секирой. Выюркнув из двери, я одним прыжком перескочил через перила и в одно мгновение очутился среди улицы.
Прямо и быстро побежал я, и никто не смел меня остановить. Я заслышал шум позади и удвоил свое бегство. Шум становился слабее и слабее и, наконец, совсем заглох в отдаленном пространстве; но я стремительно бежал вперед, перепрыгивая через болота, через рвы, перескакивая через стены, с диким воем, криком и визгом, которому дружным хором вторили воздушные чудовища, толпившиеся вокруг меня спереди и сзади, справа и слева. Демоны и чертенята подхватили меня на свои воздушные руки, понесли на крыльях ветра, заголосили, зажужжали, застонали, засвистали, перекинули меня через высокий забор, закружили мою голову, и я грянулся без чувств на сырую землю. Пробужденный и приведенный в себя, я очутился здесь, в этой веселой келье, куда редко заходит солнечный свет и куда прокрадываются лучи бледного месяца единственно для того, чтобы резче оттенять мрачные призраки и эту безмолвную фигуру, которая вечно жмется в своем темном углу. Бодрствуя почти всегда, днем и ночью, я слышу иногда странные визги и крики из различных частей этой обширной палаты. Кто и чего добивается этим гвалтом, я не знаю; но в том нет сомнения, что бледная фигура не принимает в нем ни малейшего участья. Лишь только первые тени ночного мрака набегут в эту келью, она, тихая и скромная, робко забивается в свой темный уголок и стоит неподвижно на одном и том же месте, прислушиваясь к веселой музыке моей железной цепи и наблюдая с напряженным вниманием мои прыжки по соломенной постели».
В конце манускрипта было приписано другою рукою следующее замечание:
«Случай довольно редкий и не совсем обыкновенный. Сумасбродство несчастливца, начертавшего эти строки, могло быть естественным следствием дурного направления, сообщенного его способностям в раннюю эпоху молодости. Буйная жизнь, необузданные прихоти и всевозможные крайности должны были постепенно произвести размягчение в мозгу, лихорадочное брожение крови и, следовательно, извращение нормального состояния интеллектуальных сил. Первым действием помешательства была странная идея, будто наследственное бешенство переходило в его фамилии из рода в род: думать надобно, что он случайно познакомился с известною медицинскою теорией, допускающей такое несчастье в человеческой природе. Мысль эта сообщила мрачный колорит деятельности его духа, произвела болезненное безумие, которое под конец естественным образом превратилось в неистовое бешенство. Весьма вероятно, и даже нет никакого сомнения, что все описанные подробности, быть может, несколько изуродованные больным его воображением, случились на самом деле. Должно только удивляться и вместе благодарить судьбу, что он, оставаясь так долго незамеченным в кругу знакомых и близких особ, не произвел между ними более опустошительных бед: чего не в состоянии сделать человек с пылкими страстями, не подчиненными управлению здравого рассудка?»
Лишь только м‑р Пикквик окончил чтение пасторской рукописи, свеча его совсем догорела, и свет угас внезапно без всяких предварительных мерцаний, шипений и хрустений в знак последнего издыхания, что естественным образом сообщило судорожное настроение организму великого мужа. Бросив на стул ночные статьи своего туалета и кинув вокруг себя боязливый взгляд, он поспешил опять запрятаться под одеяло и на этот раз весьма скоро погрузился в глубокий сон.
Солнце сияло великолепно на безоблачном небе, и был уже поздний час утра, когда великий человек пробудился от своего богатырского сна. Печальный мрак, угнетавший его в продолжение бессонной ночи, исчез вместе с мрачными тенями, покрывавшими ландшафт, и мысли его были так же свежи, легки и веселы, как блистательное летнее утро. После скромного завтрака в деревенском трактире четыре джентльмена выступили дружной группой по дороге в Гревзенд, в сопровождении крестьянина, который нес на своей спине деревянный ящик с драгоценным камнем. Они прибыли в этот город в час пополудни, сделав предварительное распоряжение, чтоб вещи их были отправлены из Рочестера в Сити. Дилижанс только-что отправился в Лондон, путешественники взяли места на империале и через несколько часов приехали благополучно в столицу Великобритании.
Следующие три или четыре дня были употреблены на приготовление к путешествию в город Итансвилль. Так как всякое отношение к этому важному предприятию требует особенной главы, то мы, пользуясь здесь немногими оставшимися строками, расскажем коротко историю знаменитого открытия в области антикварской науки.
Из деловых отчетов клуба, бывших в наших руках, явствует, что м‑р Пикквик читал записку об этом открытии в общем собрании господ членов, созванных ввечеру на другой день после возвращения президента в английскую столицу. При этом, как и следовало ожидать, м‑р Пикквик вошел в разнообразные и чрезвычайно остроумные ученые соображения о значении древней надписи. Впоследствии она была скопирована искусным художником и представлена королевскому обществу антиквариев и другим ученым сословиям во всех частях света. Зависть и невежество, как обыкновенно бывает, восстали соединенными силами против знаменитого открытия. М‑р Пикквик принужден был напечатать брошюру в девяносто шесть страниц мелкого шрифта, где предлагал двадцать семь разных способов чтения древней надписи. Брошюра, тотчас же переведенная на множество языков, произвела сильное впечатление в ученом мире, и все истинные любители науки объявили себя на стороне глубокомысленных мнений президента. Три почтенных старца лишили своих старших сыновей наследства именно за то, что они осмелились сомневаться в древности знаменитого памятника, и вдобавок нашелся один эксцентрический энтузиаст, который, в припадке отчаяния постигнуть смысл мистических начертаний, сам добровольно отказался от прав майоратства. Семьдесят европейских и американских ученых обществ сделали м‑ра Пикквика своим почетным членом: эти общества, при всех усилиях, никак не могли постигнуть настоящего смысла древней надписи; но все без исключения утверждали, что она имеет необыкновенно важный характер.
Один только нахал, – и мы спешим передать имя его вечному презрению всех истинных любителей науки, – один только нахал дерзновенно хвастался тем, будто ему удалось в совершенстве постигнуть настоящий смысл древнего памятника, смысл мелочный и даже ничтожный. Имя этого нахала – м‑р Блоттон. Раздираемый завистью и снедаемый низким желанием помрачить славу великого человека, м‑р Блоттон нарочно для этой цели предпринял путешествие в Кобгем и по приезде саркастически объявил в своей гнусной речи, произнесенной в полном собрании господ членов, будто он, Блоттон, видел самого крестьянина, продавшего знаменитый камень, принадлежавший его семейству. Крестьянин соглашался в древности камня, но решительно отвергал древность надписи, говоря, будто она есть произведение его собственных рук и будто ее должно читать таким образом: «Билль Стумпс приложил здесь свое тавро». Все недоразумения ученых, доказывал Блоттон, произошли единственно от безграмотности крестьянина, совершенно незнакомого с правилами английской орфографии. Билль Стумпс – имя и фамилия крестьянина; тавром называл он клеймо, которое употреблял для своих лошадей. Вся эта надпись, подтверждал Блоттон, нацарапана крестьянином без всякой определенной цели.
Само собою разумеется, что Пикквикский клуб, проникнутый достодолжным презрением к этому бесстыдному и наглому шарлатанству, не обратил никакого внимания на предложенное объяснение. М‑р Блоттон, как злонамеренный клеветник и невежда, был немедленно отстранен от всякого участия в делах клуба, куда строжайшим образом запретили ему самый вход. С общего согласия господ членов решено было, в знак совершеннейшей доверенности и благодарности, предложить в подарок м‑ру Пикквику пару золотых очков, которые он и принял с искреннею признательностью. Свидетельствуя в свою очередь глубокое уважение к почтенным товарищам и сочленам, м‑р Пикквик предложил снять с себя портрет, который и был для общего назидания повешен в парадной зале клуба.
К стыду науки, мы должны здесь с прискорбием объявить, что низверженный м‑р Блоттом отнюдь не признал себя побежденным. Он также написал брошюру в тридцать страниц и адресовал ее семидесяти ученым обществам Америки и Европы. Брошюра дерзновенно подтверждала свое прежнее показание и намекала вместе с тем на близорукость знаменитых антиквариев. Имя м‑ра Блоттона сделалось предметом общего негодования, и его опровергли, осмеяли, уничтожили в двух стах памфлетах, появившихся почти одновременно во всех европейских столицах на живых и мертвых языках. Все эти памфлеты с примечаниями, дополнениями и объяснениями Пикквикский клуб перевел и напечатал на свой собственный счет в назидание и урок бесстыдным шарлатанам, осмеливающимся оскорблять достоинство науки. Таким образом поднялся сильнейший спор, умы закипели, перья заскрипели, и это чудное смятение в учебном мире известно до сих пор под названием «Пикквикской битвы»
Таким образом, нечестивое покушение повредить бессмертной славе м‑ра Пикквика обрушилось всею своею тяжестью на главу его клеветника. Семьдесят ученых обществ единодушно и единогласно одобрили все мнения президента и вписали его имя в историю антикварской науки. Но знаменитый камень остается до сих пор неистолкуемым и вместе безмолвным свидетелем поражения всех дерзновенных врагов президента Пикквикского клуба.
Глава XII
Весьма важная, образующая, так сказать, эпоху как в жизни м‑ра Пикквика, так и во всей этой истории.
Уже известно, что лондонская квартира м‑ра Пикквика находилась в Гозуэлльской улице. Комнаты его, при всей скромности и простоте, были очень чисты, комфортабельны, опрятны, а, главное, приспособлены как нельзя лучше к пребыванию в них человека с его гением и обширными способностями к наблюдательности всякого рода. Кабинет его (он же и гостиная) помещался в первом этаже окнами на улицу, спальня – во втором. Таким образом, сидел ли он за своей конторкой с пером или книгою в руках, или стоял в своей опочивальне пред туалетным зеркалом с бритвой, щеткой и гребенкой – в том и другом случае великий человек имел полную возможность созерцать человеческую натуру во всех категориях и формах, в каких только она могла проявляться на многолюдном и шумном переулке. Хозяйка его, м‑с Бардль, – вдова и единственная наследница покойного чиновника лондонской таможни, – была женщина довольно статная и ловкая, с приятной физиономией и живейшими манерами, мастерица разливать чай и стряпать плом-пудинги – кухмистерский талант, полученный ею от природы и развитый продолжительным упражнением до значительной степени гениальности. Не было в доме ни детей, ни слуг, ни кур; ни петухов; кроме самой хозяйки единственными жильцами были здесь: большой человек и маленький мальчишка: большой человек никто другой, как сам м‑р Пикквик, a мальчишка составлял единственное произведение самой м‑с Бардль. Большой человек, постоянно занятый философическими упражнениями вне домашнего очага, приходил в свою квартиру в десять часов ночи, когда рукою заботливой хозяйки изготовлялась для него мягкая постель на складной кровати; маленький человек вертелся постоянно около своей матери, и гимнастические его упражнения не переходили за порог родительского дома. Чистота и спокойствие владычествовали во всех углах и закоулках, и воля м‑ра Пикквика была здесь непреложным законом.
Всякому, кто знаком был с этими подробностями в домашней экономии великого человека и с его необыкновенною аккуратностью во всех мыслях, чувствах и делах, показались бы, вероятно, весьма таинственными и загадочными – физиономия, осанка и поведение м‑ра Пикквика ранним утром, накануне того достопамятного дня, когда вновь должна была начаться его ученая экспедиция для исторических, географических и археологических наблюдений. Он ходил по комнате взад и вперед с замечательною скоростью, выглядывал довольно часто из окна, посматривал на часы и обнаруживал другие очевидные знаки нетерпения, весьма необыкновенного в его философической натуре. Было ясно, что предмет великой важности наполняет его созерцательную душу, но какой именно – неизвестно. Этого не могла даже отгадать сама м‑с Бардль, чистившая теперь его комод, стулья и диваны.
– М‑с Бардль! – сказал, наконец, м‑р Пикквик, когда его хозяйка, после своей утомительной экзерсиции, остановилась среди комнаты с половою щеткой в руках.
– К вашим услугам, сэр, – сказала м‑с, Бардль.
– Мальчик, мне кажется, ходит слишком долго.
– Не мудрено, сэр, дорога дальняя, – отвечала м‑с Бардль, – до Боро не вдруг дойдешь.
– Правда ваша, правда! – заметил м‑р Пикквик.
И он опять впал в глубокое раздумье, между тем как м‑с Бардль принялась мести пол.
– М‑с Бардль, – сказал м‑р Пикквик через несколько минут.
– К вашим услугам, сэр.
– Как вы думаете, м‑с Бардль, расходы на двух человек значительно больше, чем на одного?
М‑с Бардль покраснела до самых кружев своего чепца, так как ей показалось, что глаза её жильца заморгали искрами супружеской любви.
– Что за вопрос, м‑р Пикквик! Боже мой что за вопрос!
– Как же вы думаете, м‑с Бардль?
Хозяйка подошла к самому носу ученого мужа, который сидел в эту минуту на диване, облокотившись на стол.
– Это зависит, добрый мой м‑р Пикквик, – сказала она, улыбаясь и краснея как роза, – это зависит от особы, на которую падет ваш выбор. Если, примером сказать, будет она бережлива и осторожна, тогда, конечно… вы сами знаете м‑р Пикквик.
– Справедливо, сударыня, совершенно справедливо; но человек, которого я имею в виду… (Здесь м‑р Пикквик пристально взглянул на м‑с Бардль), человек этот владеет всеми свойствами, необходимыми в домашнем быту, и притом, если не ошибаюсь, он хорошо знает свет, м‑с Бардль: его проницательность и опытность могут принести мне существенную пользу.
– Вы так думаете?
– Да, я почти уверен в этом, – продолжал м‑р Пикквик, принимая важную осанку, отличавшую его во всех случаях, когда речь шла о каком-нибудь интересном предмете, – и если сказать вам правду, я решился, м‑с Бардль.
– Так скоро? Боже мой, Боже мой!
– Вам, может быть, покажется весьма странным, что я никогда не просил вашего совета об этом предмете и даже не упоминал о нем до нынешнего утра, когда я отправил вашего мальчика… не так ли, м‑с Бардль.
Но м‑с Бардль, вместо слов, могла отвечать только выразительным и нежным взором. Она поклонилась м‑ру Пикквику, глядя на него издали, как на предмет недоступный, и вот теперь вдруг, совершенно неожиданным образом, он возводит ее на такую высоту, которая никогда не грезилась ей в самых бурных и слепых мечтах её пламенной фантазии, развитой продолжительным вдовством. Итак – м‑р Пикквик делал предложение… какой остроумный план! – отослать её малютку в Боро, спровадить его с глаз долой… отстранить всякое препятствие… как это умно, деликатно!
– Что вы на это скажете, м‑с Бардль.
– Ах, м‑р Пикквик!.. вы такой добрый!
– По-моему, м‑с Бардль, это будет очень хорошо, во-первых, вы избавитесь от многих хозяйственных хлопот… не так ли?
– Об этом, сэр, не извольте беспокоиться, – возразила вдова, упоенная сладкою мечтой о близком счастии. – Пусть эти хлопоты увеличатся во сто раз, только бы вы были счастливы, мой добрый, несравненный м‑р Пикквик! Ваше внимание к моему одиночеству…
– Ну, да и это, конечно, пункт важный, – перебил м‑р Пикквик, – хотя я о нем и не думал. Вам не будет скучно, м‑с Бардль, потому что с вами будет человек разговорчивый и веселый.
– Вы меня осчастливите, я не сомневаюсь в этом, – сказала м‑с Бардль.
– Да и вашему малютке…
– Господи, спаси его и помилуй! – перебила м‑с Бардль с материнским вздохом.
– Вашему малютке, говорю, тоже будет очень весело. У него будет опытный товарищ, который станет его учить, наблюдать за его нравственностью. Под его руководством, я уверен, он в одну неделю сделает больше, чем теперь в целый год.
И м‑р Пикквик бросил на свою собеседницу самую благосклонную улыбку.
– Милый! милый!
М‑р Пикквик, совсем не ожидавший такого нежного эпитета, обнаружил изумленный вид.
– Милый, добрый мой толстунчик!..
И, не прибавляя больше никаких объяснений, м‑с Бардль бросилась в объятия м‑ра Пикквика и обвила его шею своими дебелыми руками, испуская при этом катаракты слез и хоры глубоких воздыханий.
– Что с вами, м‑с Бардль? – вскричал ошеломленный м‑р Пикквик. – Образумьтесь… м‑с Бардль… если кто-нибудь придет… оставьте… я ожидаю приятелей…
– О, пусть их идут!.. Пусть придет весь свет! – кричала исступленная вдова. – Я никогда вас не оставлю, мой добрый, милый, несравненный друг души моей!
С этими словами мисс Бардль прижалась еще плотнее к могучей груди президента.
– Отстанете ли вы наконец? – говорил м‑р Пикквик, вырываясь из насильственных объятий. – Чу, кто-то идет… шаги на лестнице. М‑с Бардль, ради Бога, подумайте, в какое положение вы ставите меня… бесполезные мольбы! М‑с Бардль без чувств повисла на шее отчаянного старика, и прежде, чем он успел положить ее на диван, в комнату вошел малютка Бардль, ведя за собою господ Снодграса, Топмана и Винкеля.
М‑р Пикквик остался прикованным к своему месту, без движения и языка. Он стоял среди комнаты с прелестным бременем на своих руках и бессмысленно смотрел на лица своих друзей, не обнаруживая ни малейшего покушения объяснить им этот загадочный случай. Друзья в свою очередь глазели на него; малютка Бардль таращил свои глаза на всех вообще и на каждого порознь.
Оглушительное изумление пикквикистов и столбняк почтенного президента могли бы, нет сомнения, продолжиться в одинаковом положении до той поры, пока сама собою восстановилась бы прерванная жизненность интересной, леди, если б через несколько минут возлюбленный сынок, осененный наитием внезапной мысли, не вздумал представить весьма чувствительное и трогательное доказательство своей детской любви. Пораженный тоже, в свою очередь, превеликим изумлением при виде неожиданной сцены, он сначала как вкопанный стоял у дверей без всякого определенного выражения на своем лице; но вдруг пришло ему в голову, что матушка его, по всей вероятности, потерпела какой-нибудь вред, быть может, побои от своего жильца, – и вот, не говоря дурного слова, он прямо вскочил на спину м‑ра Пикквика, дал ему тумака по голове и, в довершение эффекта, вцепился зубами в его плечо.
– Чего вы смотрите, господа? – вопиял м‑р Пикквик. – Оттащите этого сорванца: он с ума сошел.
– Что все это значит? – спросили в один голос ошеломленные пикквикисты.
– Право, я сам не знаю, – отвечал застенчиво м‑р Пикквик. – Оттащите прежде всего мальчишку…
Здесь м‑р Винкель схватил за вихор нежного сынка интересной леди и, сопровождаемый пронзительным визгом, потащил его на противоположный конец кабинета.
– Теперь, господа, – сказал м‑р Пикквик, – Помогите мне снести вниз эту женщину.
– Ох! ох! – простонала м‑с Бардль. – Что это со мною?
– Позвольте, сударыня, снести вас в вашу спальню, – сказал обязательный м‑р Топман.
– Покорно благодарю вас, сэр, благодарю.
И вслед затем интересная вдова, сопровождаемая своим любезным сыном, была отведена в свои покои.
– Не могу понять, господа, – начал м‑р Пикквик, когда приятели сгруппировались вокруг него, – право не могу понять, что сделалось с моей хозяйкой. Лишь только я сообщил ей о своем намерении нанять слугу, она вдруг, ни с того ни с сего, бросилась мне на шею и принялась визжать, как исступленная ведьма. Странный случай, господа!
– Странный, – повторили друзья.
– Поставить меня в такое неприятное положение!
– Очень странно!
Приятели покачали головами, перекашлянулись и перемигнулись весьма многозначительными взорами друг на друга.
Эти жесты и эти взгляды отнюдь не ускользнули от внимания проницательного президента. Он заметил недоверчивость своих друзей и понял, что они подозревали его в любовных шашнях.
– В коридоре стоит какой-то человек, – сказал м‑р Топман.
– Это, вероятно, тот самый слуга, о котором я говорил вам, – сказал м‑р Пикквик. – Сегодня утром я посылал за ним хозяйского сына. Позовите его, Снодграс.
М‑р Снодграс вышел в коридор, и через минуту вместе с ним, явился в комнату м‑р Самуэль Уэллер.
– Здравствуйте… Надеюсь вы не забыли меня? спросил м‑р Пикквик.
– Как можно забыть вас! – отвечал Сам, плутовски прищуривая левым глазом. – Я пособил вам изловить этого каналью… распребестия, сэр, провал его возьми! В одно ухо влезет, в другое вылезет, как говаривала моя тетка, когда сверчок забился в её ухо.







