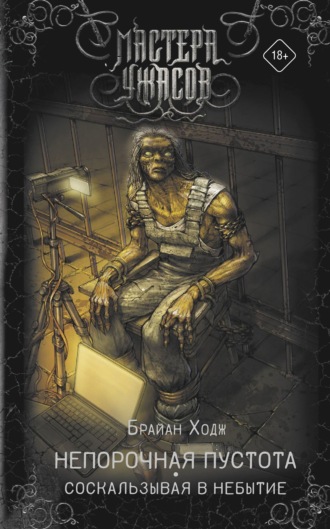
Брайан Ходж
Непорочная пустота. Соскальзывая в небытие
И, как понял Таннер, в мешанине останков Вала тоже.
По пути домой Берил высадила Таннера в Брумфилде, чтобы он забрал свой грузовик, и последние несколько миль до Лафейетта он ехал следом за ней, пытаясь не вырубиться за рулем и не погибнуть самым прозаическим образом.
Дома заснуть тоже не удалось. Он завис в том мучительном состоянии, когда от усталости сон не приходит, а мысли в голове мечутся слишком быстро. Укладывая Риза в постельку, Таннер поцеловал его в лоб и прошептал, что ему придется спать за двоих.
Когда они вышли из комнаты сына и тихо прикрыли за собой дверь, Берил выглядела почти так же ужасно, как Таннер себя чувствовал.
– Я из-за тебя лет на десять постарела, ты знаешь это?
Она обняла его, а он обнял ее в ответ, и какое-то время казалось, что они не дают друг другу упасть. От Берил пахло больницей, и Таннер подумал, что от него несет еще хуже. В ближайшем будущем их обоих ожидал долгий горячий душ.
– Нам нужно поговорить, – сказала она.
Наполняли ли его таким страхом еще хоть какие-то три коротких слова? «Я хочу развестись» – этого он никогда не слышал. «С Ризом беда» – ладно, это было на вершине хит-парада. «Брось свою сестру» – этого он ждал уже много лет.
– Дафна влипает в неприятности – и ты спешишь ей на помощь, – продолжила Берил. – Она бросает работу – и ты ходишь по знакомым, чтобы найти ей новую. Она пропадает – и ты отправляешься ее искать. У нее проблемы с очередным мудаком-бойфрендом – и ты идешь вселять в него страх божий. Тебе кажется, что она снова вышла из завязки – и ты проверяешь, трезва ли она.
Правда, чистая правда. Каждый раз это была правда.
– В половине случаев ей помощь вообще не нужна, но ты все равно прибегаешь, потому что не уверен в этом на сто процентов и не полагаешься на то, что она сама обо всем позаботится. Ты приучил ее этого не делать, Таннер, ведь она знает, что ты всегда рядом. Это единственная неизменная вещь в ее жизни.
Они вернулись в гостиную, где Таннер расчистил себе путь сквозь игрушки и рухнул на диван. Он закатал фланелевые рукава и принялся отдирать комочки ваты, налепленные поверх маленьких красных дырочек, из которых врачи забирали образцы крови – а то и плоти – на анализ.
Берил ухватилась за руку Таннера, чтобы остановить его. Он не был осторожен. Могло показаться, что он намеренно причиняет себе боль – если подумать, так оно и было.
– Я понимаю. Ты спасаешь жизни людей. Ты находишь их, когда они заблудились, и эвакуируешь их, когда они ранены. Это твое призвание. Я люблю это в тебе, потому что знаю, что мне никогда не придется беспокоиться о том, будешь ли ты рядом со мной. Я знаю, что, если понадобится, ты придешь ко мне и не позволишь ничему встать у тебя на пути. Кроме нее.
Порой Берил могла умело обращаться с кинжалом.
Таннер невольно вспомнил задачку из курса по этике. «Вы находитесь на тонущем корабле вместе с двумя любимыми людьми. Вы можете спасти лишь одного из них. Кого?» И заносчивый ответ себя девятнадцатилетнего: «А с чего вы взяли, что я не научил их обоих плавать еще несколько лет назад?»
Тогда все казалось таким простым. И невозможно было поверить, что некоторые люди могут отказаться учиться плавать. Или позволить себе забыть, как это делается. Или станут испытывать твою любовь, опускаясь на дно и подсчитывая, сколько времени у тебя ушло, чтобы нырнуть за ними.
Берил снова погладила его по руке и отпустила.
– Но все равно, это – твоя работа. Ты не обязан приносить ее домой. У тебя есть право на отдых. И я не могу нуждаться в тебе лишь в самых экстренных случаях. Иногда я нуждаюсь в тебе просто так. Иногда мне просто хочется почувствовать, как рядом бьется другое сердце, понимаешь?
Он привлек ее себе; оба они мариновались в больничных миазмах хвори, моющих средств и отчаяния. Таннер держал рот на замке. Она нуждалась в том, чтобы ее выслушали, а все, что он мог сказать в свою защиту, Берил знала и так. Это было такой же неотъемлемой его составляющей, как ДНК и мозоли: однажды, когда ему было двенадцать, он оставил шестилетнюю сестру одну без присмотра; он знал, что это неправильно, но все равно это сделал, и тогда ее учуяли чудовища. Всего лишь один раз – но одного раза хватило. Он не мог представить себе день, когда ощутит, что с него снято бремя ответственности за этот случай.
– Только позволь мне довести дело до конца в последний раз. Мне кажется, что сейчас все по-другому, – сказал он. – А потом я донесу до нее то, что ты сейчас донесла до меня. Ты права, я не дал ей понять, что от меня можно ждать чего-то другого. Но я не могу вывалить все это на нее посреди какого-то кризиса и оставить разбираться с ним самостоятельно.
Таннер чувствовал накал между ними, чувствовал, как напряжены ее плечи.
– Если бы я мог так поступить, – продолжил он, потому что не одна Берил держала кинжал наготове, – я не был бы тем человеком, которым ты меня считаешь.
* * *
Броди Бакстер был единственной жертвой, чье тело Уэйд Шейверс сжег.
Он сжег все, что смог, потом выгреб обгоревшие косточки и все то, что отказывалось рассыпаться в пепел, раздробил на куски и осколки и раскидал по лесу так широко, что нельзя было даже сказать, есть ли у несчастного мальчика настоящее место упокоения.
Странное отклонение от сценария. Шейверс был чудовищем высшего порядка, его преступления ужасали настолько, насколько это вообще возможно. Но если бы у вас получилось отключиться от чистых эмоций, вы бы поняли, насколько это необычно. Чудовища, как правило, довольно последовательны в своих методах.
До того случая Шейверс убил четырех девочек и всех их закопал. После того как он приносил их в свою маленькую рощицу, он хоронил их очень деликатно, учитывая обстоятельства. Вместо того чтобы просто сбрасывать их в ямы, он обращался с ними с нежностью, в которой отказывал в последние их часы. И то же самое было с последними четырьмя жертвами. Если бы он успел закончить со мной, то, не сомневаюсь, тоже устроил бы мне настоящее погребение.
Но не Броди.
Какого хера, Уэйд? Ну правда, в чем прикол?
Шейверс так и не дал удовлетворительного ответа.
Мать Броди показала мне целую кучу его фотографий, и он оказался довольно маленьким мальчиком, худым, с большими зелеными глазами и шелковистыми каштановыми волосами до плеч. Он утверждал, что стрижки… не то чтобы делают ему больно, но после них у него кружится голова. «Мне мутьно» – вот как он это называл.
Может быть, Шейверс перепутал его с девочкой, а потом, как мог, постарался стереть свою ошибку? Или он все знал с самого начала, но, в отличие от девочек, ничто не мешало ему измываться над телом мальчика даже после смерти? Ведь та кирпичная печь в его сарае была не настолько велика, чтобы семилетний мальчик влез туда целиком, знаете ли. Броди пришлось отправиться в нее по частям.
Однако со вторым мальчиком Шейверс этого не повторил. Энтони Диспенца, как и все остальные, оказался под землей.
Что им руководило, Шейверс говорить отказывался. Он ничего не объяснил, но позже его адвокаты и тюремные охранники рассказывали, что это было единственное из убийств, которое его беспокоило, хоть и не по каким-то понятным причинам. Он так и не пришел к раскаянию. Он все еще верил, что оказывал нам услугу. Скорее, Броди приводил его в замешательство, и Шейверс никак не мог сообразить почему.
Он утверждал, что мальчик заплакал далеко не сразу и что инструменты его зачаровали. Броди ткнул пальцем в один из них, судя по всему узнав его, и даже придрался к мелким недостаткам в дизайне. Похожий использовали для его первой жатвы, сказал он, только тот был толще, потому что маленьким вентральный стебель не перерезать. Указывал Броди на садовый нож.
Шейверс пришел к извращенному заключению, что Броди намеками говорит ему о том, какой инструмент на нем лучше использовать. Когда Уэйд подчинился, Броди рассмеялся и сказал: «Нет, глупый. Ниже. Они всегда начинают ниже».
По крайней мере, так об этом рассказывал сам Шейверс. Некоторые считали, что он выдумал это в качестве рационализации – хищники, бывает, утверждают, что их жертвы сами этого хотели. Или пытался таким образом добиться, чтобы его признали невменяемым. Обе версии были логичными – но почему тогда он не включил в эту историю кого-то из других детей? Об остальных из нас он говорил примерно то, чего можно было ожидать.
Последней, от кого я ожидала услышать, что она его понимает, была мама Броди. В мой второй визит она призналась мне, что верит Шейверсу, – осторожно, словно давно хотела с кем-то этим поделиться, но слишком привыкла не доверять людям.
Броди всегда говорил странные вещи, сказала мне Делия. Это для детей обычное дело, но он по странности опережал остальных. Она начала подозревать, что с Броди что-то серьезно не так, с тех пор, как он научился разговаривать, и даже раньше, судя по опыту с двумя своими старшими детьми и отпрысками друзей.
На улице – ему тогда не исполнилось еще и года – он смотрел на небо так, словно оно его беспокоило, даже в те дни, когда вокруг не было птиц, которые могли бы его напугать (если проблема вообще была в этом), и смотреть было не на что, кроме чистейшей синевы. Когда Броди научился говорить и задавать вопросы, он спросил, почему оно такого цвета. Нормальный вопрос, вот только потом, не удовлетворившись ответом, он сказал, что это неправильно, ткнул в оранжевые полоски Тигры на одеяле с Винни Пухом и заявил: «Вот. Вот правильный цвет».
Год спустя, ночью, он удивил ее, когда – думая, похоже, что его разыгрывают, – с искренней убежденностью ребенка спросил, куда девалась вторая луна. А в возрасте пяти лет, когда ему рассказывали о созвездиях, ставший очень разговорчивым Броди сообщил ей, что звезды все не на своих местах.
Бывало и более странное. Он останавливался на открытом пространстве, закрыв глаза, сдвинув ноги, и мягко, даже блаженно покачивался с каждым ветерком. Несколько раз указывал на пальцы своих ног и спрашивал, когда они вырастут по-настоящему. Самые тяжелые битвы родители вели с ним, когда заставляли его надевать обувь. Сама идея обуви вызывала у него патологическое отвращение.
Пик причуд и замечаний Броди пришелся на пять лет, а затем они пошли на убыль, хотя порой он все еще выкидывал что-нибудь необычное. Чаще всего – после сна или во время сильных переживаний. Казалось, будто что-то в нем угасало, проигрывало долгую медленную борьбу по мере того, как Броди становился обычным мальчиком, но иногда все же пробуждалось.
– Как вы это объясняли? – спросила я у Делии.
Она рассказала мне о том, что прочитала все, какие смогла найти, истории о детях, вспоминавших о том, что могло быть их прошлыми жизнями. Такое случалось по всему миру: дети пугали родителей, рассказывая жуткие истории о том, как разбились в горящем самолете или утонули вместе с кораблем, а может, просто о детях, которые были у них самих. Они указывали на свои родинки: на круглые – «вот куда вошла пуля»; на продолговатые – «вот куда вошел нож».
Господи, подумала я тогда. Какими же кошмарными родимыми пятнами будут покрыты мои призрачные братья и сестры, если вернутся на землю?
Иногда такие дети сообщали столько деталей, что исследования доказывали: человек, о котором они говорили, действительно существовал. Имена, места, даты, события, родственники – им были известны такие неочевидные, стародавние детали, о которых они никак не могли узнать.
Но это никогда не длилось долго. В возрасте пяти-шести лет дети обо всем забывали. Связь обрывалась. Они словно бы рождались, стоя одной ногой в настоящем, а другой – в прошлом, и постепенно совершали последний шаг.
Делия сказала мне, что это помогло ей смириться. Раньше она не верила в реинкарнацию, но теперь поверила. Броди научил ее верить. К тому времени, как мы с ней познакомились, его не было уже одиннадцать лет – этого времени вполне хватило бы, чтобы вернуться в наш мир. Быть может, прямо сейчас он рассказывал какой-то другой женщине о матери, которая ласкала и любила его прежде.
Невозможно было спорить со скорбящей матерью, нашедшей себе утешение, пусть даже мне в то время было семнадцать и спорить я умела лучше всего. Я сидела бок о бок с Делией на диване и думала: да, но… две луны? Оранжевое небо? Вентральный стебель, что бы это ни значило?
Какого хера, Броди? Ну правда, в чем прикол?
Иногда воспоминания путаются, сказала мне Делия, – это был единственный раз, когда я видела ее обороняющейся.
Конечно, ответила я. Конечно путаются. В этом наверняка все и дело.
Давить я не стала.
И уж тем более не стала рассказывать ей, что человек, убивший ее сына, засунул меня головой в печь, в которой сжег тело мальчика, потому что ему, похоже, казалось, будто там, внутри, осталось что-то, что я смогу найти.
* * *
Днем Таннеру удалось заснуть, и он проспал до позднего вечера. А когда проснулся, отдохнувший, полный сил, и увидел почерневшее небо и похожий на лезвие косы месяц, все показалось ему каким-то неправильным. Он был бодр и готов выходить на охоту в то время, когда ему стоило бы потихоньку укладываться спать.
У него все еще оставались незаконченные дела. Каждая клеточка его тела знала это.
Он сходил за пакетом с телефонами Дафны и вынес их на заднее крыльцо. Устроился на подушках деревянного шезлонга и продолжил то, что начал вчера в карантине.
На этот раз – дорогие наушники. С ними деревья, окружавшие крыльцо, и ночь, окружавшая деревья, умолкли. Теперь Таннер погрузился в них, в эти странные звонки, которые Дафна записывала сотнями, в эти сорокасемисекундные звуковые ландшафты, состоявшие из булькающего шума и того острого резонанса, похожего на нож, пытающийся прорезать статику. Второй звук, голос, слишком неясный, чтобы разобрать слова, боролся с ней, точно лицо, толкающееся в мембрану до тех пор, пока она не порвется.
Кто бы это ни был, чего бы он ни хотел, он не сдавался. Его одержимость была абсолютной. Она переходила от телефона к телефону, от месяца к месяцу, от одного номера к другому, на протяжении двух лет. Звонивший всегда находил Дафну, что бы она ни предпринимала, и не оставлял в этих беспорядочных буквах, или символах, или чем они там были, ни малейшей подсказки о том, кто он такой на самом деле.
Аттила? Если полагаться чисто на необоснованные догадки, человек по имени Аттила мог быть способен на преследование такого уровня… вот только оно началось до того, как Дафна с ним связалась. На этом этапе цепочки он еще не просматривался. Он не появлялся до пятого телефона – всего лишь очередной контакт: Аттила Чонка. Он подождет.
К последнему десятку звонков на телефоне номер пять Таннер начал различать отдельные слова – те, что первыми проникли сквозь звуковую завесу силой бесконечного повторения: их… ты… себя… узнаешь…
Контекста у них пока не было, но Таннер был уверен, что он появится. Чем бы ни было это послание, оно обладало размеренностью заклинания, мантры, стихотворного отрывка. На пятом телефоне оно начало по-настоящему обретать форму. Чем яснее становилось сообщение, тем более отвратительным казалось – это было ощущение сродни той гадливости, что нахлынула на Таннера, когда Вал ухватил его за плечо. Он не мог объяснить этого тогда и не мог сейчас. Была лишь уверенность, будто он слышит нечто такое, что слушать нельзя, звуки, порожденные ртом, которому стоило оставаться закрытым.
Он перестал воспроизводить каждую пятую запись и начал слушать их по порядку. С каждой итерацией источник звука, казалось, приближался еще на шаг сквозь туманы и расстояния, как будто наконец-то разглядел свою цель, и вот послание стало таким же четким, как и голос, который его произносил. Голос казался неправильным, хотя Таннер не мог сказать, почему именно. Так же неправильно звучал бы шепот, доносящийся зимой из недр пещеры на глубине в тринадцать тысяч футов.
Ты должна их убить.
Ты должна их убить ради нас.
Ты должна их убить ради себя.
Ты должна их убить ради своего мира.
Хрипящий голос, царапавший уши, казался… нечеловеческим. Словно нечто, плохо понимавшее, что такое человеческая речь, пыталось ее сымитировать. И это было не все, что оно хотело сказать.
Ты узнаешь их, когда почувствуешь их.
Ты узнаешь их, когда увидишь их.
Ты узнаешь их, когда прикоснешься к ним.
Ты узнаешь, что рождена для этой цели, когда сделаешь это.
Ты узнаешь зачем, когда это случится.
Их кровь станет залогом твоего бессмертия.
Оно не успокоилось, пробившись к ней. Оно передало то же самое сообщение еще как минимум сто пятьдесят шесть раз.
Голос был мертвый, будто синтезированный компьютером, лишенный эмоций и бесцветный. Однако в записях не было цифровой точности. Они отличались друг от друга. Паузы между фразами были разной длины. Голос делал акцент на отдельных словах, каждый раз иных, словно нащупывая нюансы языка.
И Дафна сохранила эти звонки. Их были сотни, а может и тысячи, и Дафна их все сохранила.
Побросав телефоны обратно в пакет, Таннер просидел на крыльце еще час, думая о том, что да, Берил снова оказалась права. Он не должен был приносить это домой. Теперь ему казалось, что он заражен, и если вернется в дом слишком скоро, то передаст заразу всем, до кого дотронется. Он зайдет туда лишь тогда, когда сочтет это меньшим риском, чем торчать здесь до тех пор, покуда ему не покажется хорошей идеей засунуть в каждое ухо по палке и шуровать ими там, пока он снова не ощутит себя чистым.
Так как же понимать то, что в момент, когда Таннер ожидал этого меньше всего, произошло событие, больше всего из виденного им в жизни напоминавшее божественное откровение?
Пока он смотрел на западное небо, сама судьба, похоже, прислушивалась к его мыслям и решила подтолкнуть Таннера, чтобы он не сошел с верного пути. С севера на юг над вершинами гор на горизонте пронеслась яркая вспышка бело-зеленого огня. Мгновением позже следом за ней промелькнули еще пять – и исчезли.
«Вспомни, что вы обещали друг другу», – словно бы сказали они. Таннер уже почти забыл об этом – о той далекой ночи на заднем дворе, когда они с Дафной, еще подростки, оба подняли взгляд точно в нужный момент, чтобы заметить в вышине сияюще-синий мазок метеорита. Это была ее идея: «Не важно, где мы и что мы делаем, – если кто-то из нас снова увидит падающую звезду, пусть остановится и вспомнит о другом, хорошо? Потому что другой тоже может в этот момент на нее смотреть».
И пусть он понятия не имел, где сейчас Дафна, он ощутил себя гораздо ближе к ней.
* * *
Каково это – быть девочкой, которая выжила?
Двадцать два года назад из стоявшего на отшибе сарая вынесли живое тело, но, пусть даже оно продолжало дышать, а сердце в нем – биться, часть его все равно умерла. Изначальную обитательницу выселили, и с тех пор она облетала ближайший лесок в поисках душ, принадлежавших тем ныне опустевшим могилам, чтобы воссоединиться с единственными друзьями, которые могли ее понять. Но все они ушли в мир иной, а она – нет.
На ее месте остался подменыш. Я. Эта другая я была чем-то втиснутым в сосуд, который оно не имело права занимать. Оно так привязалось к мясу, в котором обитало, что начало думать, будто здесь ему и место, хотя в глубине души знало, что оно – чужак, захватчик, что его сюда не приглашали, но оно все равно здесь поселилось, как будто сквоттер в заброшенном здании.
Я не должна была занимать это тело.
Я не должна была жить этой жизнью.
Я не должна была думать эти мысли.
Я не должна была терпеть это преследование, которое настигает меня, как бы часто я ни меняла телефоны, чтобы избавиться от его холодного, мертвого голоса.
И, пусть снаружи они по большей части зажили довольно неплохо, у меня не должно было быть этих шрамов.
А если и должны были, то у них не должно было быть корней, проросших вглубь меня и пробившихся на какую-то другую сторону, которую нельзя увидеть, а можно только почувствовать.
* * *
Народная мудрость гласит: «Ты что-то потерял? Вспомни, где ты видел это в последний раз, в каком месте оно было совершенно точно».
Когда Таннер думал об этом, то приходил к единственному выводу: последнее место, в котором Дафна была собой, – это сарай Шейверса. Туда внесли изначальную версию Дафны Густафсон, незаклейменную, такую, какой она родилась, а к тому моменту, как ее оттуда вынесли, она изменилась, преобразилась, и из осколков, оставшихся в этой сломанной маленькой оболочке, сформировалось зерно кого-то другого.
Ей было всего шесть. Этого не должно было случиться. Таннеру тогда едва исполнилось двенадцать, и даже в этом возрасте он понимал, что такого никогда не должно случаться.
До Форт-Коллинза было меньше часа, но дорога в прошлое исчислялась десятилетиями. Конец тупиковой улицы, называвшейся Черри-драйв, в трех кварталах от дома, где они выросли, – Таннер не возвращался сюда с тех самых пор. Последний дом справа стоял пустым, с заколоченными дверьми и окнами, уже больше двадцати лет – дом, который не мог продать ни один риелтор. Он оставался таким же уединенным, как и прежде, – удобство, за которое покупатели с радостью бы доплатили, но не в случае, когда им придется делить жилье с призраками детей.
Тогда стояло лето, теперь – осень. Дубы были сочно-оранжевыми, клены – пламенно-красными, березы – кремово-желтыми, а морозный воздух между ними был напитан золотым светом позднего дня. Он кусался мягко, предвещая приход зимы с ее ледяными зубами.
Лужайка заросла не так сильно, как ожидал Таннер. Время от времени кто-то ее подстригал – возможно, власти города, поддерживая более-менее приличный вид. А может быть, сбежавшая в новую неприметную жизнь Терри Шейверс возвращалась, чтобы исполнить свой долг перед этим домом, от которого не могла избавиться. Это были два этажа чьей-то американской мечты, построенные полвека назад, а теперь запечатанные, словно капсула времени, и разрисованные граффити, оставленными неутихающим коллективным гневом.
На заднем дворе Таннер обнаружил, что в сарай кто-то вламывался – впрочем, c улицы его было не видно и помешать этому никто не мог. Он навсегда останется притягательным – проклятым местом из здешних легенд. То, что в нем происходило, ужасное само по себе, в пересказе станет только хуже. Будь Таннеру шестнадцать, он, возможно, тоже бы выломал доски и замки – если бы у него не было никаких связей с этим местом, а было только нездоровое любопытство.
Кому-нибудь следовало снести сарай еще поколение назад, но никто так и не пришел сюда с ломами и кувалдами, чтобы это сделать. Так он и стоял, тихий, похожий на маленькую хижину из обветренного кедра, и его двойные двери без стекол были вечно распахнуты, подбивая ступить внутрь и замарать свою душу.
Все, что не являлось частью самой постройки, давно уже пропало. Пол был кирпичный – из того же кирпича, что и печь, которая вытянулась вдоль задней стены и напоминала яму для барбекю. Встроенный верстак выжил, как и панель для инструментов, прикрученная к боковой стене. На дальней стене остались примитивные полки – параллельные деревянные доски с промежутком между ними, куда можно было положить молотки, пассатижи, ножницы. Все остальное уже много лет назад вывезли как улики или растащили. По углам скопились мертвые листья, над ними висела паутина. Когда Таннер поддел ботинком одну из валявшихся на полу смятых пивных банок, она со звоном прокатилась по пятну втоптанного в кирпич сигаретного пепла.
Здесь граффити было еще больше – слои мыслей, которые годами оставляли на стенах скучающие детишки. О тех, кого они ненавидели, о тех, кого любили. Попытка призвать духов обитала рядом с чьим-то заявлением, что Уэйд Шейверс гниет в аду.
Таннер поднял руку, провел пальцами по центральной балке и нашел четвертьдюймовое отверстие, оставшееся от крюка, куда Шейверс подвешивал лебедку, c помощью которой добивал детей. Двадцать два года назад он как раз поднял Дафну с пола и закрепил веревку, когда к дому подъехала полиция. Если бы они опоздали всего на пару минут…
Шейверс признался, что на этом этапе всегда затыкал детям рот кляпом. Но все равно Дафна издавала такие звуки, что копы выломали дверь. Шейверс не сопротивлялся. Он просто отложил молоток с круглым бойком на верстак и поднял руки, а Дафна тем временем висела, подвешенная за запястья, избитая, истекающая кровью, с содранной кожей, задыхающаяся из-за ветоши, засунутой ей в рот.
На суде полицейские говорили, что Шейверс умолял их дать ему довести дело до конца. Это будет милосердно, говорил он… и самым худшим, о чем только мог вспомнить Таннер, было то, что за последующие годы он не раз слышал, как Дафна в мрачнейшие моменты своей жизни заявляла, будто Шейверс был прав и они должны были позволить ему взмахнуть молотком, прежде чем заковать в наручники и увезти, – последнее свободное деяние в его последний свободный день на земле.
Таннер присел перед печью – ее железная дверца перекосилась, а отверстие в грязной кладке походило на рот, прямой снизу и полукруглый сверху. В сарае было темно, но не настолько, чтобы Таннер не смог разглядеть почерневшие от сажи кирпичи. Оттуда выскребли все, что могло пригодиться экспертам, но отчистить печь они бы никогда не смогли.
Эту часть истории не знал никто, о ней не говорилось на суде, потому что Шейверс об этом никогда не упоминал, а Дафна вспомнила лишь десять лет спустя, под гипнозом.
Таннер потянулся внутрь, медленно, словно опасаясь, что его что-то укусит. Воздух внутри казался странно холодным, холоднее, чем в самом сарае, холоднее, чем должен был быть даже в солнечный осенний день.
А потом он отдернул руку так же быстро, как если бы обжегся, потому что услышал стук в открытую дверь.
* * *
До гипноза я не помнила о том, как Уэйд Шейверс заставил меня встать на четвереньки, чтобы он смог затолкнуть мои голову и плечи в кирпичную печь.
В первый раз это воспоминание вывело меня из транса, потому что тогда, в шестнадцать лет, я уже знала, что одного из нас он сжег. Я сегодняшняя слилась со мной тогдашней и испытала животный ужас, переживая это снова, но теперь зная, что в этой почерневшей полости меня окружают следы Броди Бакстера. Там до сих пор лежал пепел, скорее всего оставшийся от него. Часть запекшейся на стенках корки, должно быть, была обгоревшим жиром. Я наверняка вдыхала его молекулы.
И дело не в том, что Уэйд Шейверс был больным чудовищем. Это был не очередной способ, которым он решил помучить меня. Если бы дело обстояло так, он бы наверняка уже рассказал мне, что произошло в этой печи. Я помню, как думала, что он, должно быть, такой же, как ведьма из сказки про Гензеля и Гретель, и умоляла его не жарить меня. Если бы Шейверс хотел напугать меня еще сильнее, ему всего лишь нужно было дать мне понять, что такая возможность существует.
Но на самом деле он нуждался в… стороннем мнении?
«Скажи мне, что там. Скажи мне правду, и я позволю тебе вылезти».
«Тут воняет!»
«Это я уже знаю. Это кто угодно скажет. А еще что?»
Я не знала, какой ответ будет правильным, а какой – нет, и не знала, что вообще он хочет услышать и не подумает ли он, что я вру, потому что…
Потому что как может печь быть такой холодной в середине лета? Не вся, даже не большая ее часть, всего лишь одно место у задней стенки. Здесь слишком темно, а значит, это не огонь, но оно все равно обжигает. Начинает казаться, что я прижалась щекой к кусочку льда или к флагштоку в зимний день, и щека онемела. И я не просто прилипла, как если бы лизнула флагшток; оно оттягивает мою кожу – так бывает, если приложить руку к шлангу пылесоса без насадки, – а когда я поворачиваю голову, чтобы оно перестало жечься, мне приходится зажмуриться, потому что иначе оно высосет мне глаз.
И я знаю, что плохой дядя никуда не делся, я чувствую его тяжелую руку на пояснице и большую потную ладонь с растопыренными пальцами на спине. Каждый палец – словно ветка, проросшая в мои кости, чтобы удержать меня на месте. Но я больше не слышу его. Моя голова теперь так далеко, что сзади до ушей не доносится ни звука. Я едва слышу, как дышу, или плачу, или пытаюсь объяснить ему, каково тут, в печи. Здесь так тихо, что тишина сама превратилась в звук и заглушает все остальное, и я боюсь, что если он продержит меня здесь еще немного, то сначала улетит мой глаз, а за ним последует и все остальное, словно большая и длинная нитка спагетти. То, что скрывается здесь, внутри, меня проглотит.
Я не хочу, чтобы это случилось, не хочу туда. И при этом… хочу. По крайней мере, возможно, что тогда я попаду в место, где мне больше не будут делать больно. Но вдруг мне там не сделают больно только потому, что там нет никого, вообще никого, а это может оказаться еще хуже.
А потом он выдергивает меня из печи и смотрит на мою щеку, удивленный: что это, откуда оно взялось?
«Я буду хорошей, – вот что я ему говорю. – Я не хочу, чтобы меня жарили. Я буду хорошей».
Он смеется так, что это не похоже на смех.
«Не бойся. Я больше не могу разжечь там огонь. Даже когда просто хочу согреться. С тех пор, как… Это он его задувает. Но все хорошо. Мы можем заняться другими вещами».
И мы ими занялись.
Когда я сидела в безопасности, в одном из уютных кресел доктора Ганновер, и воспоминания вернулись ко мне свежими, отмытыми от грязи, сажи и пепла, я поняла, что Уэйд Шейверс, должно быть, делал это с каждым из нас, кого похитил после Броди. «Ну-ка, полезай туда». Что, во имя тварного мира, оставил там после себя этот странный паршивец?
* * *
На мгновение он и стоявшая в дверях пожилая женщина застыли, глядя друг на друга, и Таннер ощутил вину за то, что его застукали на месте преступления – каким бы оно ни было. Может ли это считаться проникновением со взломом, если двери уже были распахнуты?
– Ты ведь мальчишка Густафсонов, да? – спросила она наконец.
Он не ожидал, что его узнают. Родители увезли их отсюда через несколько месяцев, за восемьдесят миль от Черри-драйв.
– Раньше был, да.
– Я – миссис Рэмсиджер. Живу через дом, на той стороне улицы. Я увидела тебя в окно. Но ты не похож на обычных поганцев, которые тут ползают. Так что я решила сначала заглянуть сюда, прежде чем снова вызывать полицию.
Она была одета в джинсы и мешковатую футболку и, хотя кожа ее огрубела и покрылась морщинами, а волосы стали белыми как снег, выглядела здоровой и подтянутой – одна из тех женщин, которые не намерены расставаться с садовой лопаткой, пока кто-нибудь не вытащит ее из их холодных мертвых пальцев.
– Ты меня, наверное, не помнишь. Я смотрела, как вы растете, когда проезжала мимо вашего дома по пути сюда. А на Хеллоуин вы с целой толпой приходили к нам за конфетами.
Из прошлого, спотыкаясь, выбрели воспоминания: средних лет семейная пара, которой Хеллоуин и раздачи сладостей были настолько по душе, что каждый год она устраивала огромную выставку тыкв, картонных надгробий и висевших на деревьях призраков. Ни один ребенок не мог устоять перед таким приглашением, и награда за это всегда была первоклассной.



