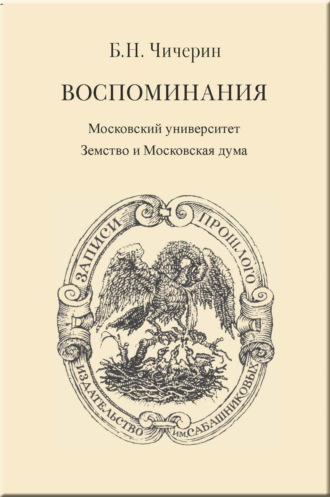
Борис Николаевич Чичерин
Воспоминания. Том 2. Московский университет. Земство и Московская дума
На это письмо брат мне отвечал:
«Ты не можешь себе представить, какой эффект произвело твое письмо. От Горчакова оно ходило к Михаилу Николаевичу и другим властям, и переписано для государя, за исключением конца, где ты говоришь, что в министры назначают по чину, что кончат тем, что нас всех пересекут и т. д. Ты имеешь репутацию одного из самых передовых людей, и из твоих уст слышать, что необходима крепкая власть, Горчакову очень драгоценно. Он формально поручил мне тебя благодарить за доставленные сведения и сказать тебе, что он с содержанием письма вполне согласен. «Либеральные меры и сильная власть это, – говорит Горчаков, – тема, которую я всегда проповедовал. Я рад, что с Вашим братом схожусь в этих мыслях, но, разумеется, не переговорив с ним, не могу знать, во всем ли так же схожусь».
Я ответил: «Чтобы дать некоторое понятие об общем направлении его мыслей, скажу, что он против конституции у нас». Он: «Но не следует ли ввести учреждения, не употребляя слова?» Я: «Только не надо допускать контроля совещательных собраний». Ему, очевидно, не хотелось ясно высказать своей мысли.
Потом он сказал: «Я хочу воспользоваться этим письмом, с некоторыми пропусками, в очень высоком месте, но я желал бы предварительно иметь на то ваше согласие». Я: «Я не вижу никаких к тому препятствий, поскольку дело идет об общем смысле, но вы могли заметить, что оно написано в интимном стиле, как пишет брат к брату». Он: «Я опустил конец, но то, что касается Тучкова, слишком важно; я не назову вашего брата; однако, если будут настаивать, я уступлю; по существу, в письме нет ничего такого, под чем бы я охотно не подписался». Я: «Я позволю себе подчеркнуть то, что мне кажется наиболее важным; ради бога, настаивайте на том, что власть должна выказать себя крепкой и не ронять себя. Но вместе с тем, не надо показывать вида страха, ни прибегать к бестолковой строгости диктуемой страхом».
Он: «Да, это необходимо. Вы можете сообщить вашему брату, что одна из мер строгости, которую я хочу предложить, заключается в отсылке к родителям всех, кто откажется принять матрикулы, чтоб очистить столицу от их присутствия. Я надеюсь, что ваш брат одобрит эту меру»[9]. В заключение он изъявил надежду, что ты будешь продолжать сообщать свою оценку всего, что происходит.
Перейду к разбору твоего письма. Я писал тебе вчера по почте, что из двух пунктов адреса умеренной партии, первый, касательно платы вступивших студентов, разрешен. Прибавляю, между нами, что начало необратного действия Положения было принято теперь только в правительственном Совете. Я тебе писал и повторяю просьбу изложить в умеренных выражениях, почему у нас такая мера бесполезна и вредна. На каких основаниях можно желать и требовать дарового высшего образования? (Тут советую быть осторожным). Что касается сходок, то также повторяю: 1) студентам остается право доносить о своих нуждах индивидуально; 2) правительство явно стремится уничтожить для студентов всякие корпоративные права и самую мысль о корпорации; 3) в эти последние годы сходками так злоупотребляли, что студенты сами виноваты, хотя бы даже это право было рационально. В прошлом году студенты вздумали сами в аудитории судить одного товарища за простую кражу, посадили его в карцер и т. п. Кроме того, произносили речи об общем ходе правительства и т. д. Итак ты можешь опять же с осторожностью развить свою мысль о корпорации.
NB. Барон Петр Казимирович Мейендорф говорит, что студенты везде имеют корпоративные права, например, форму. Он того мнения, что корпорации по факультетам лучше, нежели по национальностям, и что выбранные из студентов депутаты составляют залог спокойствия, потому что через них можно действовать на других. Передаю тебе различные мнения, чтобы ты мог ими руководствоваться. Но Петр Казимирович против демократизации университетов, в особенности против служебных привилегий».
Я просил тебя о разборе новых правил. Поговори с товарищами, не говоря зачем, и передай общее суждение о них, в частности о проректоре, о педелях. Насчет педелей вот еще разговор.
Кто-то сказал Горчакову: «Добейтесь их отмены – это непопулярная мера, и от нее надо отказаться». «Нет, сейчас не надо ничего переменять; если это распоряжение непопулярно, то оно и без отмены не будет осуществлено целиком». «Но, в таком случае, допускается прежняя ошибка; зачем сохранять вещь, которая не будет исполнена?»[10]
Ответа не было. Я не присутствовал, но, кажется, разговор передан довольно верно.
Что ни говори об Горчакове, однако, он единственный человек из окружающих государя, который имеет либеральные поползновения. На практике он не выдерживает и говорит иногда: «Le pouvoir ne pent pas se passer sans un pen d’arbitraire»[11]. Кроме того, занятый политикой, он не ясно сознает, в чем могут заключаться либеральные действия. Но все же либерализм ему доступнее, нежели другим, и нужно только представить ему программу, которая дала бы более определенный ход его красноречию… Итак напиши мне, что ты ценишь одобрительные слова, которые мне поручено было передать тебе».
В письме, посланном по почте, брат говорит, что особенно подействовало выражение: «либеральные меры и сильная власть», и просил подробнее развить эту тему. В ответ на его вызов, я написал ему длинное письмо, которое привожу здесь целиком.
Москва, 11 октября 1861.
Ты желаешь, чтобы я подробнее развил тебе свое выражение: «либеральные меры и сильная власть». Оно не случайно попалось мне под перо. По моему мнению, оно должно быть лозунгом правительственно-либерального или, если хочешь, консервативно-либерального мнения в России. Это мнение едва зарождается. При невозможности печатно обсуждать наши внутренние вопросы, при том разгаре страстей, который возбужден освобождением крестьян, образование его встречает почти непреодолимые трудности. Тем не менее, либеральное мнение в России положительно раздваивается, хотя люди, которые ничего в этом не понимают, всех нас крестят названием красных. Различное обсуждение моего письма к Герцену[12] до очевидности показало это раздвоение. Особенно в Москве есть зерно людей, которые так уже и прозваны государственниками.
В настоящее время первая наша потребность – предоставление обществу значительной доли самодеятельности. Без этого жить нельзя. Без этого мы вечно останемся в том положении, которое привело нас к бедствиям Крымской войны. Этого даже и уничтожить невозможно. Общество почувствовало свою самостоятельность и никогда уже не возвратится к тому полному подчинению, какое бывало в прежние времена русской истории. Это надобно сказать себе раз навсегда. Но это явление не печальное. Если правительство поймет свое положение и сумеет им воспользоваться, то Россия выиграет двойные силы от возбуждения энергии общественной. Правительство само всего делать не может. А покорные орудия сами ничего делать не в состоянии.
Отсюда необходимость либеральных мер по всем отраслям общественной жизни. Надобно, чтобы везде человеку была предоставлена свободная сфера деятельности. В особенности же надобно избегать тех мелочных стеснений, которые раздражают людей и унижают начальство, ставя его в мелочные столкновения с гражданами. Правительство теряет через это свое высокое значение и становится ответственным за всякую глупость самого последнего исполнителя, как это до очевидности показывает нынешнее состояние нашей цензуры. Пусть появляется множество бестолковых статеек, пусть студенты не ходят на лекции и толкуют между собой обо всяком вздоре. Государственный человек обращает внимание не на эти пустяки, а на общее направление умов. Тут нужен широкий взгляд на вещи, а не взгляд 3-го отделения.
Но чтобы все это сделать совершенно безвредным, надобно, чтобы над всем этим господствовала сильная власть, которая всегда была бы готова сдерживать непокорных. Закон должен быть широк, но исполнение его должно быть строгое и непременное. Уверенность в непременном наказании – лучшее ограничение свободы. Но, как скоро можно явно и безнаказанно нарушать закон, так водворяется анархия. В настоящее время сильная власть нужнее, нежели когда-либо. Она одна может сдержать расшатавшуюся Россию. Только не надо смешивать сильной власти, сохраняющей возвышенное свое положение, с мелочным вмешательством во всякие дрязги. В особенности приложение власти должно соединяться с глубоким знанием русского общества. Иначе она всегда будет бить невпопад. Теперь, для управления всеми внутренними делами, как насущный хлеб, потребны нам государственные люди, которые бы соединяли в себе чувство власти с знанием общества и с ясным пониманием настоящего положения дел. Но где их найти?
То, что я говорю о соединении либеральных мер с сильною властью, ты можешь видеть на освобождении крестьян. Вот мера вполне либеральная, которая соответствует самым существенным потребностям России, которая дает правительству право на вечную признательность со стороны всякого кто искренно любит отечество. Отчего же она сначала возбудила такие, смуты? Оттого, что она была объявлена, когда управление не было еще устроено. Вблизи не было власти, которая бы могла ее поддерживать. Неповиновению позволили сначала распространиться. Поэтому впоследствии нужны были гораздо сильнейшие меры. Вообще строгие меры избавляют от строжайших. Когда явилась власть, водворилось спокойствие, и явилась вместе с тем возможность законного и гражданского развития этого вопроса. Там, где «Положение» строго исполняется, где мировые посредники не льготят ни крестьянам, которые отказываются от отбывания повинностей, ни помещикам, которые хотят захватить больше, нежели им предоставлено законом, там все идет хорошо. Ты сам мог это видеть у нас. Дурно идет дело только в тех местах, где есть послабление той или другой стороне.
Посмотри же теперь, что сделано в университетах. Все происшедшие в университетах беспорядки суть только отражение того, что происходит в России. Вся Русская земля немного сбилась с толку. Взошло для нас весеннее солнце и произошла оттепель. Зелень еще впереди, если солнце будет продолжать греть, а пока только непроходимая грязь. Естественно, что это общественное состояние прежде всего отражается на молодых людях, которые увлекаются более других, и которых всегда следует сдерживать разумным употреблением власти. К несчастью, именно этого-то и не было сделано. Ты знаешь, что вся полицейская власть в университете находится в руках попечителя. Во многих отношениях это очень хорошо, но надобно уметь с нею обращаться. Мы на своих попечителей жаловаться не можем. Как предыдущий, так и настоящий, люди весьма благонамеренные, готовые на все хорошее. Но невозможно требовать от человека, который всегда служил на другом поприще, который не имеет никакого понятия о народном просвещении, чтобы он вдруг приобрел нужные для этого места знание и такт. Всякий благонамеренный человек сначала естественно остерегается и делает скорее менее, нежели более, чем нужно. Результатом этого было то, что в университете исчезла всякая полицейская власть. Студенты могли делать все, что им угодно, и, разумеется, нередко употребляли свою свободу во зло. Чтобы помочь этому, стоило только разбудить немного дремлющую власть, запретить сходки, прокламации, литографии и т. д., и дать университетскому начальству средства приводить в исполнение свои предписания, т.-е. усилить полицию и восстановить карцер, который один может заменить строгую меру исключения из университета. Больше ничего не было нужно.
«Вместо того приняли ряд мелочно-стеснительных мер. Студентам выдаются матрикулы и билеты, которые они всегда должны иметь при себе; университетская передняя загромождена баррикадами, которые сторожатся солдатами; запрещены всякого рода объяснения с начальством и т. д. Когда же дело дошло до выполнения этих мер, то оказалось, что власти никакой нет, и когда университетское начальство обратилось к генерал-губернатору, то генерал-губернатор принял под свое покровительство явное сопротивление закону. Вот что я называю радикально-ложною политикой от начала до конца. Тут не либеральные меры с сильною властью, а стеснительные меры и слабая власть. Вот что ведет к анархии. Кто же тут виноват, студенты или начальство? Когда молодых людей с одной стороны раздражают, а с другой – позволяют им явно нарушать закон, то иных последствий быть не может как то, что мы видим в настоящее время.
Мысль уничтожить корпорацию студентов совершенно фантастическая. Студенты корпорации не составляют, а всегда составляли и всегда будут составлять товарищество, вопреки всем постановлениям, ибо это естественно вытекает из их положения. В этом ничего нет дурного. Напротив, товарищество – лучшая сторона университетской жизни, и даже для человека зрелого это лучшее воспоминание молодости. Ты сам это знаешь. Дурно только то, что это товарищество употребляется иногда на недозволенные цели. Но для того, чтобы этого не было, нужно только, чтобы молодые люди знали, что над ними есть власть, которая непременно накажет всякое нарушение порядка. Свобода действий и карающая власть – с этим можно смело надеяться на успех.
Но из всех принятых мер – самая в настоящее время неловкая, по единогласному мнению всех, весьма умеренных профессоров нашего университета, это – обязательная плата студентов. Мы на днях намерены даже просить министра народного просвещения ходатайствовать об отмене этой меры, как уже оказавшей свои вредные последствия, и вот наши доводы: 1) Ты говоришь, что в Англии и Германии высшее образование не даровое. В Англии, точно, оно стоит очень дорого. Но зато Англия самая богатая страна в мире. Притом там общие средства образования, помимо университетов, несравненно доступнее, нежели у нас. В Германии же всякий студент, представляющий свидетельство о бедности, избавляется профессором от гонорара и от пошлин за матрикуляцию. Во Франции академическое обучение большею частью даровое: платят за степени. Мы же страна самая бедная, средства образования самые скудные; помимо университетов и других высших учебных заведений, их даже вовсе нельзя иметь. Следовательно, другие страны не могут нам служить примером.
2) Опытом дознано, что работают именно беднейшие люди. Они должны пробивать себе дорогу трудом. Из них выходят учители, без которых нам обойтись невозможно. Из них же выходят хоть несколько образованные чиновники, которые для государства необходимы. Детям бедных чиновников просто деваться некуда, если закрыть им доступ в университеты.
3) И главное, эта мера, при настоящих обстоятельствах, в высшей степени неполитична. В том безграничном умственном хаосе, в который погружена теперь Россия, у нас есть одна живая струя, которая вынесет нас на берег. Это – жажда просвещения. Всякий русский человек, и бедный и богатый, и образованный и дикий, чувствует, что наша первая и насущная потребность состоит в образовании. Оттого всякая мера, сколько-нибудь ограничивающая образование, возбудит всеобщее негодование и даст всякому протесту против нее опору в сочувствии общества. В этом сочувствии студенты находят себе главную поддержку. Не только в тверском дворянстве, но везде в клубах, в присутственных местах идут подписки на бедных студентов. Чиновник Казенной палаты или Опекунского совета жертвует на это часть своего скудного жалования. В этом явлении есть глубокий и отрадный смысл. Неужели же правительство пойдет против этих благороднейших и священнейших стремлений русского общества. Ты пишешь мне, чтобы я вообще об этой мере распространялся с крайнею осторожностью, я же, напротив, считаю долгом совести при всяком удобном случае говорить об этом с величайшею настойчивостью, потому что эта мера подкапывает значение правительства и составляет лучшую опору для той безрассудной оппозиции, которая слышится у нас со всех сторон. При этой мере разумным образом поддерживать правительство становится невозможным. Я прежде всего желаю сильной власти, но сильная власть не может существовать без нравственного влияния на общество, а это влияние неизбежно исчезает, когда правительство теряет в глазах общества свое высшее значение – значение образователя народа, когда оно полиции жертвует просвещением.
Вот тебе очень длинное письмо. Надеюсь, что я изложил все, что тебе нужно знать. Если в тебе родятся еще какие-либо недоумения, напиши.
Р. S. Внуши, пожалуйста, что заставлять студентов посылать прошения по городской почте и получать стипендии в частных домах – признак трусости, а это хуже всего.
На это брат отвечал:
«Когда я рекомендовал тебе величайшую осторожность, я не подозревал мягкости и, можно сказать, прямодушия Горчакова. По прочтении твоих замечаний на счет дарового университетского образования, он сказал: «Это я поддерживал в Совете ограничительные меры в отношении университетов. Я это сделал под впечатлением того, что видел в Германии, где мест не хватает для всех молодых людей, оканчивающих свое учение; они остаются на улице и становятся опасным элементом. В России условия иные, и я признаю что, может быть, был неправ»[13]. Но, сознавшись, что мера могла быть неудачна, он думает, что теперь невозможно ее отменить. Заметь, что в Совете Горчаков составляет едва ли не крайнюю левую, и что если он считает отмену невозможною, то чего же ожидать от других? Впрочем, он не останавливается на отказе и вслед за тем начал развивать мысль о преобразованиях, которыми можно бы помочь делу. Он просил об этом не говорить, потому что его мысли еще недостаточно разъяснились. Во всяком случае несомненно, что человек самый благонамеренный и ум самый всесторонний не могут отыскать настоящего исхода в деле, которого не изучали. Оттого я повторяю, если тебе приехать нельзя, то следует обсудить с Дмитриевым и другими, как правительству действовать, не исповедуя открыто, что оно ошиблось. Сделать новое Положение, на новом основании, ему легче, нежели из нынешнего Положения вычеркнуть несколько статей.
Твое письмо я должен был почти целиком переписать для государя. 1) Личная форма в нем устранена, т. е. ты знаешь, ты желаешь и т. д. 2) Выпущен твой намек на письмо к Герцену, потому что иначе следовало бы объяснить, что такое это письмо, может быть, представить его и т. д. 3) Намек на цензуру вычеркнут. Это вопрос посторонний, который требует развития. «Обращать внимание на общее направление умов», допуская, чтобы появлялось «множество бестолковых статеек», это – такие мысли, которые здесь неясно понимают и которыми пугаются. Несмотря на безотчетную цензуру (а может быть и вследствие ее безотчетности), направление литературы самое крайнее и даже вредное на общество. Не легко убедить правителей, что дать ей большую свободу не даст нам последнего толчка в пропасть. Изменить нашу цензуру едва ли возможно; можно ее преобразовать на совершенно иных основаниях. Каким же образом действовать на общее направление умов, этого никто не подозревает, разве только барон Александр Казимирович. Не читавши даже твоего письма, но слышав от моего тестя, что ты защищаешь даровое образование, он привез мне листок, который просит тебе передать. Прилагаю его. Напиши мне (для меня), что ты об нем думаешь и прибавь несколько слов, которые я мог бы ему прочесть.
Теперь здесь толкуют, кем бы заменить Путятина. Иные говорят о Титове, другие о Пирогове; вероятно ни тот, ни другой не будут назначены.
Государь полон доброй воли, но надобно известным образом представлять ему вещи, чтобы его убедить. А именно: не должно касаться самодержавия. Либеральные меры и сильная власть – кажется, должно понравиться. Едва ли можно убедить в необходимости изменить университетское Положение, но легче представить новую реформу и с точки зрения порядка, просвещения, общественного мнения. Должно напирать на «расшатавшуюся Россию» и побольше развить, что опасно «стягивать вожжи», о чем многие толкуют. Должно резче высказать, что все благонамеренные люди за правительство, но что не следует их отчуждать, потому что общее отчуждение от правительства наша главная опасность, а она произошла оттого, что слишком вожжи были стянуты.
Уверяют, что Шувалов во всем происходившем видел только генерал-адъютантские эполеты. Но кроме него, есть и многие другие, которые преувеличенно смотрят на все. Сам Горчаков говорит: «Молодежь нам сделала величайшее моральное зло; я люблю молодежь, но в этом случае я не могу ее извинить»[14]. Потому я считаю твою точку зрения отличной, и дай бог, чтобы ее оценили: что студенты дети, а что главная вина на начальстве, которое не должно быть мелочно строго, но твердо.
Не забудь написать, что ты ценишь одобрение Горчакова. Эта слабая струнка в нем есть, но в последнее время, видя его часто, я его ценю больше: мягкий, благонамеренный, допускающий всякие убеждения, готовый быть либеральным, лишь бы не зайти слишком далеко. Одна из его слабостей – присваивать себе совершенно всякую мысль, которая ему понравится; например, выражение: «либеральные меры и сильная власть» – не твое, потому что Горчаков давно уже написал его на своем знамени. На днях, за обедом он характеризовал всех присутствующих; меня назвал rougeatre[15], а себя liberal modere[16]. Надобно отдать ему справедливость, что он от этого наименования никогда не отказывался, даже когда отстаивал плату студентов и в крестьянском деле был за добровольные соглашения. Но даже в случаях более серьезных он по-своему оставался с собою консеквентным. Так, на счет Польши, он тотчас сказал: «Надо бороться всячески с уличными беспорядками, но держаться на почве законности и от нее не отступать»[17], – и я думаю, он много содействовал тому, что мы не отступали от дарованных полякам прав. В крестьянском вопросе он искренне радуется удаче мировых посредников. На чины он смотрит совсем не как действительный тайный советник, а домогается их уничтожения. Но во внутренних делах этот либерализм далеко не систематичен, и особенно в вопросе о цензуре его мысли отнюдь не установились. Тут следовало бы внушить ему программу, которую он с обычною ловкостью мог бы защищать перед царем и перед товарищами по Совету.
Завтра вечером хочу поехать к Петру Казимировичу и, если можно, прочесть ему твое письмо. П. Б.[18] едет в Москву в пятницу, и я с ним напишу, если будет что. Но я желал бы, чтобы ты сам приехал. Сегодня Горчаков спрашивал, написал ли я тебе об этом и повторял, что хотел бы с тобой поговорить».
Ехать в Петербург я в это время не мог, ибо должен был начать свой курс, да в сущности и не было в том нужды. Я отвечал следующим письмом:
«Любезный друг, прошу тебя передать князю Горчакову, что я весьма ценю его одобрение моих мыслей. Он единственный наш государственный человек, который не заражен баронскими предрассудками и способен понять толковое мнение, не пугаясь ложных призраков демократии и красной республики. Это редкость, потому что высшие круги составляют у нас совершенно особенный мир, который к России не имеет решительно никакого отношения и не ведает, что в ней творится.
Примерами могут служить хоть бы записочка твоего дядюшки А. К. Мейендорфа, и мнение другого твоего дядюшки, П. К. Мейендорфа, об университетском образовании. Все это очень умно, все выписано из глубоких писателей, из Гизо, из Токвиля, все вынесено из Германии, из С.-А. Штатов, но к России решительно неприложимо. Говорить в России об излишнем разлитии образования в массах или о демократизации наших университетов, это русскому человеку, знающему состояние нашего просвещения, покажется довольно странным. В России эти массы – ничтожная капля в море. У нас необходимо, чтобы в университет стекалось как можно больше людей, для того чтобы образовался хоть кто-нибудь, чтобы из этого числа выработались какие-нибудь серьезные силы, а серьезные силы нам нужны на всех поприщах. Если дожидаться хорошо подготовленных молодых людей, то наши университеты останутся совершенно пусты. У нас университеты заменяют все – и гимназии, в которых почти не учатся и не могут учиться, потому что нет порядочных учителей, и специальные школы, и литературу и, наконец, самое общественное образование, которого у нас нет. У нас университеты вовсе не такие высшие учебные заведения, как в других странах. Наши университеты – это умственная атмосфера, в которой человек получает хоть какое-нибудь развитие. Через университеты русское общество выходит из сферы «Мертвых душ». Совершенно несправедливо, что демократическими и социальными идеями заражаются преимущественно люди, которые не в состоянии заплатить 50 рублей в год. Напротив, эти люди вступают в университет, чтобы проложить себе дорогу и должны работать и жить своим трудом, тогда как студенты с большим достатком могут предаваться безделью и на досуге наслаждаться разными дикими мечтами. В университетах проявляются дикие мысли, не потому что в них есть, soi disant, демократические элементы, а потому что в них отражается дикость всего нашего общества, как высшего, так и низшего, и я, право, не знаю, которое в этом отношении заслуживает пальму первенства. У нас из самых аристократических фамилий выходят такие студенты, что уму непостижимо.
Для того, чтобы университетам дать разумное направление, необходимо прежде всего, чтобы управляли ими люди знающие как университеты, так и состояние общества. Между тем в продолжении последних 13 лет у нас не было ни одного министра и ни одного попечителя (в Москве), который бы в этом что-нибудь понимал. Каково бы было состояние нашей армии, если бы в течение десяти лет военными министрами и генералами назначали дипломатов или чиновников почтового ведомства. Между тем, вопросы об армии – вопросы технические, а вопросы о народном просвещении в настоящее время вопросы политические. Это надобно себе сказать и крепко сказать.
Все наше несчастие в настоящее время состоит в том, что правительство и общество составляют как бы два лагеря, которые не имеют между собой решительно ничего общего. Правительство живет в заколдованном кругу тайных и действительных тайных советников, а общество всякого тайного и действительного тайного советника считает почти что личным своим врагом, потому что долгий опыт убедил его, что, за весьма немногими исключениями, тайные и действительные тайные советники больше заботятся о собственной своей пользе, нежели о пользе общественной. Отсюда отрицательное направление литературы, которая людей, принадлежащих к заколдованному кругу, приводит в негодование и изумление. Литература другого направления иметь не может, пока правительство совершенно уединяется от общества. Надобно, чтобы правительство опиралось на какие-нибудь разумные общественные элементы, чтобы оно в среде своей имело людей, которые бы в состоянии были иметь какое-нибудь влияние на общество. Пока этого нет, будет продолжаться настоящая анархия.
Людям весьма немногочисленным, которые с глубоким прискорбием видят это состояние России и, стоя между обоими лагерями, не в силах их сблизить, остается только по возможности распространять в обществе более здравые понятия о вещах, нежели те, которые теперь в ходу, и стараться приготовить как можно более людей, которые были бы в состоянии действовать, как скоро правительству благоугодно будет выйти из заколдованного круга тайных и действительных тайных советников. Давать же какие-нибудь советы и стараться проводить какие-нибудь меры совершенно бесполезно. Совет можно дать только один: призывать по каждой части людей, которые эту часть знают. Иначе наилучшие меры ни к чему не послужат.
Из всего этого ты поймешь, что я решительно не намерен обсуждать никаких мер, относящихся до народного просвещения. Не намерен, потому что я не вижу в правительстве серьезного желания решить эти вопросы разумным образом и прямо смотреть на вещи. Сегодня, например, князь Горчаков с величайшею ловкостью успеет убедить государя в пользе какой-нибудь благоразумной меры, но кто поручится, что завтра князь В. А. Долгорукий или граф В. Н. Панин с такою же ловкостью не нагородят какого-нибудь вздора и не ввернут в постановление такую заковычку, которая даст ему совершенно превратное действие? Если правительство серьезно желает принять, наконец, какую-нибудь разумную систему относительно народного просвещения, то путь один: представить новые меры на обсуждение университетских советов и затем созвать в Петербурге комиссию из сведующих людей, которые бы могли выработать из этого что-нибудь толковое. Если князь Горчаков желает добра нашему образованию, то пусть он на этом настаивает.
Я очень рад, если ни Титов, ни Пирогов не будут назначены в министры народного просвещения. Оба – хорошие люди, но оба на это место не годятся. Титов тряпка, а Пирогов фантазер. Человек, который заводит журнальную полемику о своих собственных мерах, не имеет понятия о власти, а власть теперь нужна. По-моему Путятину надобно непременно остаться, пока все совершенно успокоится. Иначе студенты подумают, что они его выгнали. А единственным возможным министром, по моему мнению, все-таки был бы Григорий Щербатов. Он во время своего петербургского попечительства давал студентам излишние льготы[19]. Но тогда это было общее направление, которое не оказало еще своих вредных последствий. Но он человек твердый, знающий дело, и, как попечитель московский и петербургский, приобрел значительную популярность. Только ему нужно хорошего товарища.
Вероятно, это последнее политическое письмо, которое я пишу тебе теперь. Кажется, я сказал все, что нужно. Мы от Совета делаем донесение министру о ходе событий, с изъяснением причин. Мы решили не ходатайствовать прямо об отмене обязательной платы. В настоящее время это была бы вредная уступка. Но мы довольно ясно на это укажем. Донесение пойдет на будущей неделе. Я думаю, что при обсуждении мер относительно университетов, не дурно будет вытребовать это донесение. Если князь Горчаков желает подробнее познакомиться с делом, он найдет в нем многое такое, что надобно принять к сведению».
Донесение, упомянутое в предыдущем письме, было представлено Советом по окончании университетских беспорядков, которые пришли к давно ожидаемой развязке. Она последовала по приезде попечителя, который вернулся наконец из отпуска. Исаков был военный генерал, вовсе не сведущий в деле народного образования, но человек хладнокровный, твердый, разумный и порядочный. Он попал в самый разгар страстей, когда студенты бунтовали, профессора давали им отпор, а генерал-губернатор им мирволил. Разумеется, все обрушилось на попечителя, от которого, главным образом, зависел исход дела. Он приехал в университет и тут произошла неприличная сцена. В профессорскую ворвалась масса студентов, которые подступили к попечителю с требованием об отмене новых мер. Он отвечал твердым отказом. Между тем, комната все более и более наполнялась народом, так что его, наконец, прижали к стене. Из толпы слышались неприличные крики. Тут было несколько профессоров: Бодянский, Ешевский и другие, которые старались образумить студентов. Сам Исаков, которого положение было весьма незавидное, в течение целого часа сдержанно и твердо настаивал на своем отказе делать какие бы то ни было уступки. Наконец, толпа, видя, что ничего не добьется, вышла из комнаты.







