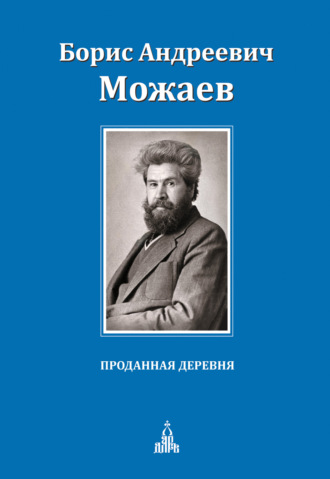
Борис Можаев
Проданная деревня (сборник)
Направление мысли молодого Можаева и сфера его художественных исканий определяется тут достаточно внятно. Он займется тектоникой народного сознания. И то, что мы станем читать у него в предстоящие ему 40 лет, так или иначе будет связано с исследованием глубины этого сознания и динамики его возможностей.
Спустя три года после окончания романа «Мужики и бабы», защищая в 1983 году в Главном управлении культуры Мосгорисполкома «Бориса Годунова», спектакль Юрия Любимова в Театре на Таганке, Можаев скажет: «Мне кажется, у Пушкина народ представлен и поступает, может быть, и не так, как следовало бы, но в силу обстоятельств он не мог поступить иначе. Это есть внутреннее выражение протеста и понимания того, что происходит. А безмолвие народа говорит о том, что народ достаточно хорошо понимает ситуацию. Сейчас он не мог не безмолвствовать, а через полгода мог…
Народ – море, народ – океан. В нем всплески. Ваши нападки, связанные с осуждением, – неуместны».
Так он сам определил масштаб и образ своего видения мира.
Дальний Восток войдет в творчество Можаева соединением тайги и океана. Океан как масштаб. Тайга как хранилище природных богатств и сплетение человеческих судеб – бродяг и строителей. И тоже как масштаб богатств и возможностей края. Его собственная судьба – судьба военного, флотского инженера – началась и закончилась на Дальнем Востоке. Но инженерный подход, подход конструктора и строителя, остался в нем на всю жизнь и осветил все его творчество. Так же и судьба российского флота осталась ему кровно близкой до самых последних дней жизни. Его последняя командировка – в Севастополь, где он жил на корабле. Его последняя работа – «Крымские страдания»[10], законченная за два месяца до смерти. Она так и начинается: «Я, бывший офицер флота, отслуживший тринадцать лет и ушедший в запас в звании старшего инженер-лейтенанта, нет-нет да и погружаюсь в заботы и нужды того бедственного состояния, в котором оказался наш флот после вульгарной растащиловки великой державы». Следующей после Севастополя, уже так и не состоявшейся командировкой должен был стать снова Дальний Восток. Он мечтал об этой поездке, рвался туда.
Есть одна особенность, сближающая две повести, написанные на Дальнем Востоке: «Тонкомер» (1956) и «Наледь» (1959). И в той, и в другой герой уходит от порчи, когда к ней вынуждают. В «Тонкомере» он не хочет портить лес. В «Наледи» не хочет строить поселок для горняков – в месте, по природным условиям, для жилья не пригодном. На Дальнем Востоке окреп, а возможно, и выработался можаевский подход к жизни – будь то жизнь природы или жизнь человека. Он защищает и то, и другое. И друг от друга их защищает тоже.
Вот два пейзажа, на которых стоит «Наледь».
Весна в этом году на Тихом океане была ранняя; еще в апреле на речных разводьях и по болотистым распадкам зазеленели красноталы, потом тронулся, закурчавился подлесок – черемуха, жимолость, амурская сирень; но монгольский дуб еще долго держал прошлогоднюю жухлую листву, отчего прибрежные сопки до самого мая сохраняли красноватый ржавый оттенок, точно они были железными. Но майское солнце здесь горячее, и, несмотря на холодные ветреные зори, мало-помалу доверчиво раскрылся и монгольский дуб и сразу все заполнил своей широкой густой листвой, и скрылись в его округлых кущах все еще нагие голенастые ветки манчьжурского ореха и колючие сучья аралии, цепкие, точно пальцы. А к июню не выдержали и эти нежные недотроги и выбросили, как стрелы, редкие перистые листья.
Другой пейзаж в то же самое время года, но выше в горах, вверх по ущелью, в пойме рвущейся из-под земли «сумасшедшей реки» Снежинки. Здесь и планировалось строить жилье.
От самой кромки противоположного берега, сплошь покрывая неширокую речную пойму, поросшую низкорослым жиденьким леском, потянулась наледь. Из ее ноздрястой грязной поверхности торчала клочковатая бурая щетина застарелого бурьяна, отчего наледь смахивала на шелудивую шкуру издыхающего зверя. Она все еще была толстой и крепкой, от нее веяло холодной сыростью и горьковатым грустным запахом оттаивающей ольховой коры. Все эти прихваченные наледью деревца стояли трогательно обнаженными и по сравнению со своими рослыми зелеными собратьями на склонах сопок выглядели какими-то жалкими недокормышами. Все здесь было запоздалым и почти ненастоящим: ольха казалась голенастой, и крохотные зеленые листики удерживались на ней рядом с черными прошлогодними шишечками; тонкие, словно вымученные березки росли кустами и были похожи на картофельные побеги, вытянувшиеся из подполья; на них тоже еле распускались листочки; багульник стоял совершенно голый и цвел вовсю, хотя пора его цветения прошла уже давным-давно – месяца два назад. И только темные ели, равнодушные и к теплу, и к холоду, сохраняли свой обычный вид и достоинство, одиноко возвышаясь остроконечными макушками, да вокруг них теснились стайками маленькие лиственницы, опушенные налетом мягкой хвои.
Ни убедить, ни победить тех, кто заставлял строить поселок в этой наледи, Сергей Петрович Воронов так и не смог. Как позже Кузькин из колхоза, так Воронов уходит со стройки. Сюжет героя, деятельного, честного, с головой, но независимого, – этот сюжет остается с открытым финалом. Автор не задергивает перед Вороновым перспективы, но Воронов возвращается к нулю и с него должен опять начинать. Наледь как омертвление, как образ порочных хозяйственных отношений, непреодолимых в силу их разветвленности и повсеместности, написана Можаевым как система отношений костенеющая и бесплодная. «Наледь смахивала на шелудивую шкуру издыхающего зверя» – метафора яростная, хотя автор остается в рамках пейзажа, на который глядит инженер:
«Характер наледи оказался тоже очень неприятным.
Если бы она имела определенное направление, ее можно было бы преградить барьером. Но она вырастала повсюду и принимала самые неожиданные формы. Здесь, в ущелье, били сотни ключей – грунтовые воды выбивались повсюду. Они неслись в Снежинку и наращивали наледь. “Очень сложные условия. И не столько для строительства, сколько для жизни здесь”, – думал Воронов».
В местных идеологических кругах повесть вызвала скандал. Молодому автору, в ту пору вольному журналисту, грозила статья за тунеядство.
Не прошло, однако, и двух лет, как Можаев обнаружил на Алтае, в Солдатове, у «трудного» председателя Николая Ивановича Лозового целую плеяду своих любимых героев, но уже реальных. Там, на Алтае, «под сиянием огромной азиатской луны» он впервые скажет о бесценной для него «воле к независимости»: «Уходя на новые земли, русский крестьянин не просто искал святое Беловодье, край изобилия и красоты, он уносил с собой мечту хозяйствовать без помещиков и начальства. Он сам хотел распоряжаться урожаем, плодами своего труда. Он шел на вольные земли, чтобы жить по справедливости, по законам стариков, слушая только землю, приноравливаясь к ней. И великая тяга земли рождалась мудрым законом взаимного послушания хлебороба и поля».
Спустя пять лет, в июльской книжке «Нового мира» за 1966 год, Твардовский публикует повесть Бориса Можасва «Из жизни Федора Кузькина».
На Четвертом съезде писателей СССР (1967), в отчетном докладе съезду, повесть была причислена к произведениям с тенденциями, «далеко не во всем отвечающими правде современности и критериям искусства социалистического реализма. <…> Где силы, которые выражают самые коренные устремления многомиллионной колхозной массы? Силы, которые противостоят Кузькину, остались за пределами изображения, они как бы отторгнуты по авторскому произволу[11], – утверждал докладчик (Г. M. Марков), обращаясь к аудитории, расположившейся в Большом Кремлевском дворце. В правительственных ложах: Л. И. Брежнев, А. Н. Косыгин, М. А. Суслов, А. Н. Шелепин, Ю. В. Андропов…
С поста главного редактора «Нового мира» Твардовский был снят в начале 1970 года – февральский номер последний, им подписанный. Он умер 18 декабря 1971 года. Ни одна газета не обмолвилась о его редакторской деятельности. В сообщении о его смерти – от ЦК КПСС, Верховного Совета и Совета министров – о «Новом мире» ни слова. В официальном некрологе, подписанном Брежневым и множеством лиц, должность главного редактора вскользь упомянута среди других его обязанностей. Константин Симонов сказал о ней на гражданской панихиде. В печати только Чингиз Айтматов сумел не промолчать: «Твардовскому многие из нас обязаны своей литературной судьбой. Мы все в этот час несем его гроб на плечах» («Литературная газета»). И Мустай Карим – изумительно просто: «Он обладал еще одним редким талантом – быть старшим». И позже, в 1978-м: «В башкирском языке есть слово “эдэп”, что примерно означает высшее приличие, совесть. При нем, в его присутствии не так просто было обходить этот самый эдэп… Слово для него имело только вложенный в него смысл и ничего иного».
Некролог для «Известий» – «Слово прощания», – написанный Б. А. Можаевым по заказу газеты, помечен 21 декабря 1971 года. Впервые опубликован спустя тридцать лет в газете «Новые Известия» (2001. № 228.18 декабря).
Можаев писал: «Почти сорок лет его могучее дарование пробуждало в людях сознание своего достоинства, воспитывало непримиримость к фальши, мужество, бесстрашие в борьбе и сострадание к униженным и оскорбленным. Он был певцом высокого ратного подвига уверенного в своих силах народа и мятущегося духа человеческого в поисках справедливости на земле. Крестьянин Моргунок и солдат Василий Теркин – две стороны одной и той же медали, отлитой поэтом из чистого золота людских страданий и надежд. <…>
Твардовский был счастливо наделен судьбою редким даром собирателя народных талантов – за долгие годы, проведенные им на посту главного редактора журнала“ Новый мир”, он сплотил вокруг себя великолепное созвездие истинных дарований, украсивших нашу литературу превосходными творениями. <…>
Он был неистовым работником, как тот крестьянский конь Саврасушка, который натягивает гужи, пока не выпрягут. А вывели из оглоблей – он и упал».
Когда у Твардовского отбирали «Новый мир», Можаев возглавил группу писателей, тщетно требовавших от ЦК партии оставить Твардовского на посту его главного редактора.
На повесть Можаева в «Новом мире» внимание Ю. П. Любимова обратил, по его признанию, Николай Эрдман. Спектакль, поставленный по этой повести, Любимов считал одной из главных удач и главной трагедией Театра на Таганке. Спектакль был запрещен. Многочисленные «прогоны сделали его известным всей театральной Москве, но к широкой публике он не был допущен. Лишь спустя 21 год – в 1989-м – спектакль был восстановлен. В планах Любимова, когда он в 1988 году вернулся в Россию, «Живой» стоял на первом месте. Роль Кузькина исполнял Валерий Золотухин – и в 1968-м, и в 1989-м.
Несколько фрагментов из аудиозаписей разных лет – о Можаеве в Театре на Таганке, о том, как истребляли «Кузькина».
Валерий Золотухин (6 марта 1996 r. – день похорон Б. А. Можаева).
По случаю приезда Фурцевой[12] театр был объявлен «на режиме», а мы, молодые актеры, не знали даже, что обозначает слово «режим». Была охрана вокруг театра, не пускали мою беременную жену. Демидова смотрела из осветительской будки – какая-то была жуть. Но это мы тогда не понимали. И это было 6 марта 1969 года. Сегодня 6 марта 1996 года. Какое-то совпадение жуткое. Я пошел перед этим в церковь. Отпевали старуху.
Я спросил, как ее имя – Анна. Мне показалось, что прозвучало – Федор. Я прошел в театр. В театре был один человек – Любимов, который стоял среди березок и бросал мой реквизит, то есть эти былинки кидал, колокольня висела и он крестился. Я остановился с ужасом, потому что он член партии был. Крестился и что-то шептал в это время. Очевидно, он молил, чтобы Фурцева пропустила ему спектакль. И это было 6 марта.
Для нас Можаев тогда, для молодого поколения, – теперь мы все деды и бабушки – был эталоном чести, благородства. Он развертывал всегда человека так, даже его врага, что враг высвечивал свои добрые стороны, становился лучше хотя бы на тот момент, когда Можаев с ним разговаривал. Это было удивительное качество Можаева. Мы соревновались, кто лучше поет, кто лучше играет. Много было огромно светлого, просто великого – присутствие Можаева в нашей жизни, в нашей действительности.
Юрий Любимов. Он замечательно вел себя, Борис, но он наивный был в чем-то человек. Он меня покорил, когда Фурцева кричала, и никого в зале не было, и какой-то молодой чиновник вскочил и начал говорить всякие гадости. Вдруг встал Можаев – сидели все чиновники, замминистра и так далее – мало их было, человек пятнадцать, пустой зал, никого не пустили, даже композитора не пустили, Эдисона Денисова. Вознесенский пробрался, но она сказала: «А вы уж сядьте и помолчите». Он, бедный, заткнулся, как говорят на молодом сленге. И вот когда этот чиновник молодой стал подсюсюкивать мадам и стараться нас клеймить всякими словами: антисоветчики, глумятся над народом… Тут Можаев вскочил и сказал: «Ай-яй-яй! Сядьте, молодой человек!» И Кате (Е. А. Фурцева): «Неужели вам, министру, не стыдно, кого вы воспитываете – жалких карьеристов!» Тот: «Как вы смеете!» – «Сядьте, я вам говорю!» И был у них шок, и минуты две они в растерянности слушали. Потом спохватились, начали кричать на нас. Катя закричала: «Вы думаете, с этим «Новым миром» вы далеко уйдете?» – там на сцене висел на березках «Новый мир», в котором была опубликована эта повесть Можаева. А я не сообразил, сказал: «А вы думаете, что вы со своим “Октябрем” далеко ушагаете?» А она поняла, что я говорю это про Октябрьскую революцию, а не про журнал кочетовский. И тут она закричала: «Что же это такое! Я сейчас же иду докладывать Генеральному секретарю…» Побежала, манто упало… Она все-таки была дама. Потом она кричала там уже, внизу, – я не пошел ее провожать, и пальто не подал, которое упало, рассердился очень. И она кричала: «Нахал какой! Он даже не проводил до машины, негодяй!» Так что она все-таки по сравнению с химиком Петром Нилычем…[13]
Тот так милостиво сказал: «Пусть идет». Потом приехал в министерство – и запретил. Дали нам 90 поправок, потом 70, потом мы попали к Зимянину[14] – там был крик. Он катил бочку на Бориса: «Этот закоренелый антисоветчик, матерый подрывник наших основ марксистско-ленинских, народник жалкий…»
Валерий Золотухин. Каждую третью весну Любимов возвращался к «Живому». По весне рубили березки и привозили их в театр. Проходили какие-то пленумы с какими-то общими словами, но эти слова давали зацепку Любимову и Можаеву написать очередное письмо и затеять очередную кампанию с «Кузькиным», хотя ничего кардинально не менялось.
Юрий Любимов. Последняя попытка восстановить «Живого» была в 1975 году, уже с Демичевым.
Валерий Золотухин (из интервью журналу «Россия», 1997).
Единственно, что я помню, что это был один из тех прогонов, когда яблоку негде было упасть. Когда я вышел, что меня просто поразило – я никогда не видел столько золота, да еще волнение, свет, я был просто ошарашен… от этих медалей, орденов, я видел такое количество золота на один квадратный сантиметр, наверное, впервые. Начался спектакль, и он шел потрясающе. На просмотрах было обычно ну 150–200 человек, это одна реакция. А здесь было 600 человек – помню смех, шум в зале, очень горячий прием, аплодисменты. И я готовился, конечно, въехать на белом коне. Когда началось обсуждение, я сел на сцене, как победитель. Я был, как Кузькин, в гимнастерке, как он на суде, начистил медали…
Но тут все очень быстро пошло наоборот. Помню недоумение, растерянность на лицах Любимова и Можаева… Такого подготовленного, массового, мощного натиска, когда на белое говорится – черное, когда люди смеялись, плакали сначала, а потом говорили нечто совершенно заготовленное, вспоминая про свой партбилет… это была чудовищная акция, потому что если раньше спектакль закрывали сами чиновники, то теперь они подготовили мнение народа. Руками народа закрывался спектакль «Живой», руками специалистов по сельскому хозяйству.
Спустя три-четыре года меня пригласили на один племенной завод, в Подмосковье. Попросили выступить в профилактории, спеть старушкам «Ой мороз, мороз…». Было человек 50, стол накрыт, а одно место свободное. Через пятнадцать минут появляется директор. Депутатский значок, Герой Соцтруда. Он мне говорит: «А ведь мы с вами знакомы. Мы однажды встречались». – «Где?» – «Я смотрел у вас очень хороший спектакль». Тут до меня доходит, что он один из тех, кто выступал на обсуждении «Кузькина». Самое ужасное, их собрали за две недели, поместили в гостинице, лекции читали, объясняли, какие слова говорить, какие мотивы… а потом написать в Политбюро, чтобы не Демичев и компания, не Министерство культуры, не критика, а кто понимает в сельском хозяйстве, закрыли спектакль наглухо. Я говорю этому директору: «Как же вы сейчас так хвалите этот спектакль, а тогда?» – «Да, спектакль был хороший, и нам об этом сказали, но добавили, что именно поэтому его нельзя показывать. Всю правду – народ знать не должен».
Для меня это было потрясение – я вот говорю с человеком, который решал судьбу театра и мою личную. Когда сделали этот спектакль, в театре шутили, что я проснусь после премьеры знаменитым, как Москвин после «Царя Федора Иоанновича».
А сейчас проходит время…
У меня отец председатель колхоза. В 69-м после прогона, после Фурцевой приехали домой, дома отец ждет, он гостил тогда у меня. Я рассказал ему как мог, да разве может он против члена ЦК что-то иметь-говорить – ученый. Я взял балалайку и спел ему: «За высокой тюремной стеною…» Отец сказал: «Вот заодно это надо посадить, такую мрачность разводите». Он очень боялся за меня, что я в Москве со своим языком доиграюсь… «Посадят, посадят, посадят…» – без конца говорил. Всю жизнь прожил в страхе и поступал подчас так же круто, как иные Гузенковы, как Пашка выгонял людей бичом из-под бричек. Но и укрывал в сорокаградусный мороз свиноматок своей дохой – скотные дворы были раскрыты. Помню наезды энкавэдэшников. Дом был наполнен этой драмой. Это была трагедия не только Кузькина – трагедия, может быть, большая, заключается в Гузенковых, в исполнителях, один более рьяный, другой менее рьяный. Мне теперь больше жалко тех, кто закрывал спектакль. Не знаю, кто из них жив. Да и, наверное, трудно пожилым людям отречься от своих убеждений, тем более что наша жизнь дает к тому основания. Не знаю, как сказать, но Тихий Дон еще впереди.
Юрий Любимов. Почему тогда взорвались все против этого спектакля? Потому что удивительная судьба мужика простого совпала с совершенно разными слоями этого странного социалистического сообщества. Однажды Петр Леонидович Капица, великий ученый… Когда говорили спичи на его золотой свадьбе, я сказал: «Петр Леонидович, самое удивительное в этой стране то, что вам тоже надо быть Кузькиным, а иначе вы ничего не сделаете». И Анна Алексеевна, его жена, дочь Крылова, который корабли строил, академика, у него замечательные мемуары… Так вот, Анна Алексеевна говорит: «Как вам не стыдно, Юрий Петрович! Ну какой же Петр Леонидович Кузькин?» Он поморгал детскими глазками, сказал: «Кузькин, Крысик, Кузькин». Анна Алексеевна была по профессии археолог, кличка у них «крысики». Петр Леонидович прочел «Кузькина», пришел в восторг и сказал: «А вы не можете, чтоб он приехал к нам сюда?» Так же он меня просил насчет Ерофеева Венедикта, так же про Эрдмана когда-то – читал его пьесу «Самоубийца»…
Борис так замечательно написал этот характер, потому что у него черты были кузькинские. Он всегда, даже когда подковали его, все равно быстро на ноги мог встать. Это вообще национальный характер. Ему удалось создать на нашей русской почве такого Швейка своеобразного. У меня аналогия со Швейком – в смысле масштаба, а не в смысле образа. Русский вариант по-своему.
…Умирал Николай Робертович Эрдман. Он умирал очень тяжело, без сознания, бредил, и вот когда очнется от этого ужаса, он начинал говорить об искусстве, о литературе и о театре – вот что поразительно.
Милда Шноре. А Борис все время о стране, то о земле, то о границе, то о флоте, «дали кредиты – ну и что? в чьи руки они попадут?..».
Был у Можаева еще один план, связанный с несостоявшейся командировкой на Дальний Восток. Он тоже произрастал из его дальневосточной молодости. Уже в качестве газетчика бродя по тайге, по ее заповедным и глухим местам, он записал сказки удэгейцев, народа, ведущего свое происхождение от древнейших азиатских народов и населяющего Хабаровский и Приморский края. Эти записи Можаев делал в верховьях реки Бикин, в удэгейских селах Сяин и Олон – от сказителей Екатерины Суляндзига, Сусаны и Екатерины Геонка, Александра Канчуга, Михаила Канчуга, Нядыга Кимонко и других. Их именами наречены герои таежных повестей Можаева. В обработке Можаева сказки были изданы во Владивостоке (1955), в Магадане (1956), в Благовещенске (1959), в Москве (1960).
Когда спустя полвека Можаев стал редактором нового журнала «Россия», одним из его первых редакторских замыслов было представить на страницах журнала поэзию коренных народов России, населяющих ее восточные окраины. Собрать эту поэзию было одной из целей его командировки на Дальний Восток. Он говорил об этом не раз, и в этой сосредоточенности ощущалась насущность важной для него, но еще не разрешенной задачи.
Неизведанные народы манили его, словно неизведанная земля. И удэгейцы, и нанайцы проходят в его дальневосточной прозе персонажами остро характерными – их отличает то сокровенное, идущее от предков и накапливаемое поколениями знание природы, которое завораживало Можаева в чужой охотничьей и земледельческой культуре в той же мере, что и в родной. Для него это всегда чудо – как отличает удэгеец «своего» тигра от пришлого, маньчжурского, или почему в родной рязанской речке сом берет приманку не на шерстяной нитке, а на льняной.
Острый слух на человеческую разноголосицу, в которой он тонко различал разноплеменные говоры и диалекты, достигал у Можаева артистизма, и если он вспоминал жену, то сразу слышался латышский акцент, а если речь заходила о старообрядцах в его местах, то он тут же переходил на их говор. О Тихоне Спиридоновиче Колобухине, садоводе и правдолюбце (рассказ «Тихон Колобухин», 1970), Можаев пишет:
«Говорил он с корабишинским напевом, растягивая гласные в конце слов: “Нюрка-то, ставь самова-ар!” “Подвывают”, – смеются у нас в Тиханове над корабишинскими. Они, мол, люди пришлые и прозывались “талагаями”. Одни, говорят, из Латвии переселились, другие – с Кавказа, третьи – из Крыма. Трудно определить, какая легенда наиболее правдива – среди корабишинских жителей есть и медлительные голубоглазые гиганты Лактюнины, похожие на латышей, и бойкие приземистые черноголовые Кадушкины да Колобухины, смахивающие на крымских татар. Воистину русский бог велик.
– Вы родом из Корабишина, – говорю я.
– Как вы отгадали?
– По говору да по внешности.
Смеется:
– Меня на службе то за татарина, то за кавказца, а то и за еврея принимали».
Прежде чем на Тиханово и его окрестности надвинется каток коллективизации, Можаев в восьмой главе первой книги романа опишет тихановский базар, который устраивали на Троицу. И здесь его праздничное мастерство писать человеческое многолюдье в пестроте уже местных различий достигает полного раздолья. «И пошло с утра, повалило со всех концов в Тиханово великое множество пешего и конного люду: от кладбищенского конца мимо двух церквей вдоль железной в крестиках ограды потянулись “залесные глухарю”. <…>
Обочь залесным, с другой стороны церковной ограды, от Лепилиной кузницы, стоявшей на бугре у въезда в село, вливался в Тиханово другой поток торговых гостей; эти все больше ехали от Пугасовского черноземья, от городской станции далекой железной дороги, ехали по большаку в тарантасах, в бричках, на широких ломовых дрогах, ехали и на русаках, и на битюгах, и даже в пристяжку на паре… <…>
А навстречу этим юго-западным колоннам двигались в село с севера, с востока, с юга такие же бесконечные вереницы людей и повозок. <…>
Вся площадь центральная застроена татарскими дощатыми корпусами: здесь и краснорядцы с шелками да сукнами, с батистом, сатином, с коврами, с персидскими шалями; здесь и татары-скорняки да меховщики с каракулем черным и серым, с куньими да бобровыми воротниками, с красными женскими сапожками с мягкой юфтью и блестящим хромом, с твердыми, громыхающими, как полированная кость, спиртовыми подошвами».
И наконец, последние строки и слова последней можаевской статьи «Крымские страдания», окончательно завершенной в январе 1996 года:
«На нас словно затмение нашло: все, что было пережито вместе за много веков, забыто в одночасье, а порой искажено и даже оплевано.
Мы свою общую родину не только не щадим, а порой поносим площадной бранью. Очнемся же от этого темного наваждения! Уясним хотя бы такую малость – ничего доброго не сотворишь в площадной перебранке. Ибо основой благополучия народов всегда был и остается – “мир во языцех”».
Инна Борисова
Эту книгу Инна Петровна Борисова, литературный критик и многолетний друг Можаева составляла в 2005–2006 годах. Она вновь, в который уже раз, перечитывала писателя, подбирая произведения, которые бы позволили в одной книге целостно представить его творчество во всей его сложности. Отказавшись от хронологического принципа, она искала баланс между динамикой движения вперед, расширения сфер интересов и постоянством возвращений к самым значимым, главным темам. В результате получилась живая, яркая и неожиданно актуальная книга, которую, к сожалению, в то время не удалось издать в задуманном Инной Петровной виде.
Но такой сильный созидательный порыв просто не мог пропасть бесследно, и нынешнее издание хранит память прекрасного и светлого человека.
Анита Можаева


