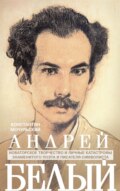Борис Зайцев
Чехов
Труба
На кольце внутренних бульваров, недалеко от Кузнецкого моста, есть в Москве площадь, по названию Трубная, или просто Труба. Место странное, а по-своему и живописное. Во времена Чехова, да и позже, Труба славилась своим птичьим рынком. Торговали тут и другим, но в том же роде. Можно было купить зайца, болонку, ежа. В весенние дни площадь пестрела клетками с разными канарейками, щеглами, чижами. Продавцы зазывали, по рядам прохаживались покупатели, иногда чудаки-любители. Гомон, грязь, щебетание птиц, детские воздушные шары разных цветов. Противоположности и нелепости Москвы – все жило рядом. Огромный и великолепный «Эрмитаж» на углу Страстного бульвара и убогие пивные через улицу, дальше разные первобытные Самотеки и Грачевки. Люди мира Островского, допотопные конки и наглые лихачи у «Эрмитажа».
На взгорье, близ Сретенки и Маросейки, Рождественский монастырь. Туда шла от Трубы по бульварам конка. Чтобы легче втаскивать ее на изволок, припрягали вперед пару лошадей с мальчишкой-форейтором, он погонял, сидя верхом, кони скакали, конка с разбегу взлетала на подъем, а назад Сенька или Ванька на отпряженных выносных шагом спускались к Трубе, ожидая следующего вагона.
А за Трубой, в сторону внешних бульваров и Сухаревки, начинались темные места Москвы – кабаки, притоны.
Вероятно, из-за дешевизны Павел Егорыч, бежав из Таганрога, снял квартирку именно здесь, как бы в трущобах Достоевского, только не петербургских, а московских. Семья Мармеладова вполне могла поселиться тут, но Павел Егорыч на Мармеладова меньше всего был похож. Если иной раз у Евгении Яковлевны оставалось четыре копейки и она горестно сообщала об этом «Антоше», то Павел Егорыч, первое время нигде не находивший работы, при всей нищете своей оставался в семье таким же величественным и важным. Так же любил церковь, пение, архиереев, так же оставался владыкой дома.
Старшие сыновья, студент Александр и художник Николай, жили отдельно. Иван, Михаил, Маша с родителями в полуподвальном этаже, убого. Спали вповалку на полу, подкладывая кое-какое тряпье (тетушка Федосья Яковлевна, о которой скажет потом Антон Павлович: «святая женщина», из опасения пожара и что не успеет выскочить, спала momnia sua, т. e. не раздеваясь, «и даже в калошах»).
Бедствовали, ссорились, упрекали друг друга, упрекали Александра, что мало помогает… – Александр же, долговязый, с нескладным лицом юноша, сообщал в Таганрог Антону, каковы доходы его: «за 3 листа начертательной геометрии б р., 2 листа дифференциалов – 4, переписка 3-х л. химии 3 руб. = 13 руб. Из них родителям 5, сестре башмаки 2.50. Стол стоит 7 руб., квартира 6 р., освещение и белье 2 р. Чтобы уничтожить этот минус, спущены плед и часы» (заложены).
А Павел Егорыч продолжает свое. Хора, правда, теперь нет, и вообще в Москве он ничто, но у себя дома все по-прежнему. На стене вдруг появляется бумажка:
«Расписание делов и домашних обязанностей для выполнения по хозяйству семьи Павла Чехова, живущего в Москве» (будто из раннего юмористического рассказа Антона Чехова). Но это не юмористика. Сыну Ивану – ему 17 лет – вставать тогда-то, делать то-то.
«Чехов Михаил 11-ти лет, Чехова Мария 14-и лет. – Хождение неотлагательное ко всенощной в 7 ч. в. К ранней обедне в 61/2 и поздней в 91/2 ч. по праздникам.
Примечание. Утвердил отец семейства для исполнения по расписанию.
Отец семейства Павел Чехов.
Неисполняющие по сему расписанию подвергаются сперва строгому выговору, а затем наказанию, причем кричать воспрещается».
Но вот последнего не так легко достигнуть. Происходит, например, ранним утром ссора «отца семейства» с «членом семейства» Иваном Чеховым из-за каких-то штанов. Штаны висели в сарае, надо было идти за ними… – одним словом, на дворе дома на Грачевке Павел Егорыч ударил сына, а тот примечания не послушался и завопил. Вышло вроде скандала. «Сбежались и другие члены семьи, и хозяева дома пристыдили отца. За сим последовало со стороны хозяев объяснение и внушение с указанием на ворота».
Обо всех этих горестных пустяках отписывал Александр Антону, но для самого Александра это были далеко не пустяки: они очень задевали его жизнь. Родители косо смотрели на то, что он поселился отдельно. Считали это ненужной роскошью. Выходили тяжелые объяснения, с упреками, увещаниями. Александр силен характером не был – уступил и переселился к ним, вместе с собакой своею Корбо. Хорошего получилось, конечно, мало. «Как мне живется, не спрашивай. Комнаты отдельной у меня нет. В той комнате, в которой я предполагал жить, обитает «жилец».
Но прошло время, и некоторые корни он пустил.
Уже в феврале 1879 года пишет Антону: «Я… обзавелся птицами певчими всех сортов и видов. Штук до 40; летают на свободе по всем комнатам. Радуют меня и всех».
Одного Корбо, пса, оказалось мало. Близость Трубы и птичьего рынка дала себя знать – Александр впал в птичничество. Но можно представить себе, как пачкали эти жильцы и так неблестящее жилье Чеховых! Только что щебет утешал.
В письмах Александр обращался к брату так: «Толстобрюхий отче Антоние» или: «Глубокочтимый и достопоклоняемый братец Антон Павлович!» Но рядом: «Regis coelesti olechus»[3] – остроумие, забавлявшее в 80-х годах наших отцов. Но за шутками этими очень серьезное отношение к «достопоклоняемому братцу», собственно, даже любовь к нему и забота. Какие-то гроши собираются, чтобы он приехал на праздники, хлопоты о том, как его устроить. В них же и отголоски первых литературных шагов самого Антона Павловича. И тоже большое внимание.
Брат Александр, сам склонный к иронии и насмешке, сам и к литературе тяготел, кое-что уже печатал в мелких журнальчиках, убогих и наивных, как убога была вся газетно-журнальная среда Москвы того времени. Кое-что этим подрабатывал. В сравнении с гимназистом Антоном был уже литератором. Антон стал присылать ему кое-какие мелочи. Иногда их печатали. «Анекдоты твои пойдут. Сегодня я отправил в «Будильник» по почте две твоих «остроты». Остальные слабы. Присылай побольше коротеньких и острых. Длинные бесцветны».
Они вовсе не сохранились. Вряд ли Чехов жалел об этом. Но вот написал он в своем Таганроге, в бывшем собственном доме, а теперь в комнатушке Селиванова, вещь более (для него) серьезную: драму «Безотцовщина». Драму эту послал в Москву Александру и сохранил первую рецензию на первое свое произведение, – должно быть, оно что-то для него значило.
Александр отнесся к делу серьезно. Несмотря на разные Regis coelesti olechus, прочитал пьесу основательно, со всею внимательностью старшего. Отзыв получился и суровый и любопытный. «В «Безотцовщине» две сцены обработаны гениально, если хочешь… (Чехов зрелый улыбнулся бы на это «гениально». – Б. 3.) Но в общем она непростительная, хотя и невинная ложь. Невинная потому, что истекает из незамутненной глубины внутреннего миросозерцания. Что твоя драма ложь – ты сам это чувствовал, хотя и слабо и безотчетно, а между прочим, ты затратил на нее столько сил, энергии, любви и муки, что другой больше не напишешь».
Неизвестно, как принял Антон эту критику, но, конечно, долговязый, незадачливый Александр, пока еще опекающий Антона, почувствовал в нем особенное. Сам он уже печатается, а тот получает еще пятерки в гимназии и пишет «ложь», но какую-то такую, что мимо нее не пройти и даже вот две сцены «обработаны гениально».
Так же, как на семейной группе круглолицый, с приятным здоровым лицом мальчик-гимназист резко выделяется из других и рядом с ним Александр, Николай явно напрашиваются в неудачники, так и в полудетской «Безотцовщине» чувствовал, разумеется, Александр некое «неспроста». Так же всегда чувствовала материнским сердцем Евгения Яковлевна, что весь ключ жизни семьи в «Антоше».
«Мне кажетца что ты как приедешь то мне лучше будет».
* * *
Она не ошиблась. Лучше стало не ей одной, а всей семье Чеховых.
Павел Егорыч отодвинулся. «Расписание делов и домашних обязанностей» не висело уже на стене. Сам он получил наконец место – очень скромное, но все-таки место: конторщика у купца Гаврилова, в Замоскворечье. Там и жил, с приказчиками. Получал тридцать рублей в месяц. Домой приходил только в праздничные дни – мог любоваться по воскресеньям щеглами, чижами, зайцами Трубного рынка. Но дома не мешал.
Антон же Павлович водворился уже студентом Московского университета. Факультет выбрал самый трудный, медицинский. По чеховским тогдашним понятиям, привез с собой целый капитал – сто рублей. Мало того, привез двух жильцов-нахлебников для усиления оборота. Прежняя квартирка оказалась тесной, сняли другую, также на Грачевке, в пять комнат. Теперь спали уже не вповалку и не на полу. Дух порядка, труда и некоторого благообразия сразу появился – он всюду Антону Чехову сопутствовал. Не зря Селиванов называл шестиклассника таганрогского по имени-отчеству: Антон Павлович.
Этот Антон Павлович представлял из себя тогда, в первые годы Москвы, крупного юношу, несколько еще нескладного и как бы мешковатого, но на вид здорового и краснощекого, с обильными, зачесанными назад волосами, в длинной визитке странного на теперешний взгляд покроя. Вот он стоит, опершись спиной о бюро, скрестив за спиной руки, и спокойно смотрит, как брат Николай, сидя у столика рядом, что-то рисует на огромном листе ватманской бумаги. Восьмидесятые годы в тяжелых занавесях на окне, в бронзовом четырехсвечнике на этажерке, в восточном ковре на полу.
Но этот, будто с ленцой, неуклюжий молодой человек совсем не ленив – напротив, трудится очень много и не зря. Брат Николай со своим художеством вполне богема, нервная и мятущаяся, разжигаемая алкоголем, как и старший брат Александр. Но Антон – удивительное равновесие. Человек его возраста, его жизнелюбия, полный сил, не может, конечно, жить аскетом или заоблачным философом. Жизнь есть жизнь. Брат Антон, студент первого, а потом и всех следующих курсов, очень даже не прочь выпить и похохотать, ухаживать за барышнями, острить, целую ночь просидеть за стуколкой – смешной провинциальной игрой того времени, но, как позже и в искусстве его, чувство меры ему прирожденно.
Он стоит на ногах очень прочно, сдвинуть его нельзя. Никакие запои и пьяные фантасмагории, посещавшие старших братьев, ему несвойственны. Он живет в эти свои молодые годы, будто бы так располагавшие к долголетию и спокойно-ровной жизни, очень напряженно и труднически, но толково. Есть определенная цель: выбиться самому, вытащить и семью, всё наладить, поставить благообразно.
Университет и наука давали ему, после Таганрога, конечно, много нового. Некоторую религию науки, так стеснявшую потом его философствование, он начал усваивать на этом медицинском факультете. Только что вышли «Братья Карамазовы». Юный, но уже блистательный Вл. Соловьев восходил над горизонтом, Чехов же питался лекциями Склифосовского и других со всей страстностью провинциала, которому Москва восьмидесятых годов с конками, Трубой, «студенчеством», распевавшим по ресторанам на Татьянин день Guadeamus igitur, – всё это казалось верхом культуры, чуть ли не центром мира.
Он усердно учился, посещал разные практические занятия, благоговел пред самоуверенными, с самодурством, Захарьиными, но была в нем сторона и другая. Для чего-то писалась в Таганроге «Безотцовщина», устраивался журнальчик «Заика», подбирались разные смешные мелочи и проливались слезы над «Без вины виноватыми». Правда, слезы эти были еще детские, теперь он уже студент и в театре не заплачет. Зато и театр в Москве настоящий – Малый театр блистал тогда, был у театра этого и первейший драматург – Александр Николаевич Островский.
(Можно думать, что единственно, что могла дать юному Чехову Москва, был именно театр.)
Но надо было и зарабатывать. Тут проявилось трудничество его замечательное. Как успевал он и учиться в университете, и много писать, об этом знают одни молодые его силы, не надорванные ли, впрочем, таким напряжением?
Из Таганрога он присылал Александру «остроты». Теперь стал писать маленькие юмористические рассказы – печатать их начал уже без Александра: редакторы сразу заметили, что студент этот не совсем обычный. Он подписывал творения свои «Антоша Чехонте». (Есть известие, что прозвище такое дал ему еще в Таганроге, в гимназии, смешливый законоучитель – явление довольно странное и редкое для тех времен: не без труда представляешь себе смешливого батюшку с журналом ученических отметок, а ведь все-таки такой нашелся и оставил даже след в биографии Чехова.)
Крестник же литературный этого благодушного иерея начинал свое писание так скромно, так ужасно скромно и непритязательно, как ни один из наших писателей.
И в какой среде приходилось начинать! «Будильники», «Стрекозы», разные другие ничтожества. Среди них «Осколки» Лейкина считались уже «чем-то», как и сам Лейкин.
На фотографии изображен средних лет, плотный, в бороде, здорового и «русского» вида мужчина, скорее даже приятный, вроде племянника Островского. Николай Александрович Лейкин и происходил из купеческого петербургского рода, в молодости был приказчиком, но с ранних лет занялся литературой. В шестидесятых годах сотрудничал в «Современнике», «Искре», знавал Некрасова, Глеба Успенского. Был человек живой и остроумный, очень хозяйственный. Писал разные мелочи юмористические, а одна его книжка даже отчасти осталась в малой литературе: «Наши за границей». Журнальчик же, им устроенный, «Осколки», хорошо расходился и был несколько выше других. В эти «Осколки» Чехов попал очень рано, ранние письма его Лейкину помечены 83-м годом, еще с Трубы. Не так давно «старшим» был для него брат Александр, теперь это петербургский редактор-издатель Лейкин, считающий, что его «Осколки» ведут какую-то свою линию в литературе. Журнальчик был юмористический, и уже одно то, что там печатался Чехонте, подымало его над другими. Лейкин считал себя чуть ли не наставником Чехова, сумел внушить ему, что существует какой-то «осколочный» жанр – Чехов считался с этим, посылая рассказы. «Я могу написать про Думу, мостовые, про трактир Егорова… Да что тут осколочного и интересного?» – так писал он Лейкину в 85-м году, почти уже на закате своей юмористики. Что же сказать, когда был просто молоденьким студентом, стипендиатом города Таганрога и только-только начинал?
Все же Лейкин оказался на первых порах не вреден, скорей даже полезен. Для того скромного с виду ремесла, каким Чехов занимался, «Осколки» действительно больше подходили. У Лейкина была толковость, здравый смысл, сметка. Журнальчик читали. И платил он лучше других (но тоже мало). Для Чехова же в это время заработок особенно был нужен. Он и подрабатывал. Несмотря ни на какие студенческие вечеринки, Татьянины дни, gaudeamus, на стуколку и барышень, не забывал вовремя отправлять хозяину мелкие, иногда просто блестящие штучки.
Братья Александр и Николай были натуры артистические и богемные. Уж одно пьянство путало им все расчеты, вносило сумбур и горе. Брат Антон жил очень сдержанно, внешне веселый и, как всегда, остроумный, внутренне, как всегда, одинокий, весьма закаленный. Распущенности в нем не видно. Надо написать Лейкину рассказик к понедельнику – просидит ночь, а напишет. И свезет на Николаевский вокзал, прямо к поезду. Если выйдет затруднение с писанием, то приложит все усилия, чтобы не опоздать (с дачи под Воскресенском пришлось раз в те наивные времена отправлять рассказ в Петербург «с богомолкой»).
* * *
Писал он тогда много, даже слишком много. В зрелости сам удивился, будто смутился: чуть не до тысячи номеров. В книги попало меньше, он выбрасывал, не жалея. Все же с 1880-го по 1888 год в пяти книгах оказалось 173 рассказа. Томы все одинаковые, число же рассказов по годам падает – как температура у больного: 52, потом 43, 38, 30, в последнем томе 10. Рассказы стали больше, серьезнее и печальней – юморист, как и полагается, оборачивался меланхоликом.
Но во время Трубы это были еще мелочи – некоторые исключительны по блеску. Рассказиком «В бане» обычно открываются собрания его сочинений. (Мог ли тогда думать Лейкин, что сотрудник его, отправлявший свои творения с богомолкой, станет писателем мировым? Впрочем, как ни даровит и своеобразен был этот сотрудник, все же угадать в нем будущего Чехова было почти невозможно.)
Географически и в бытовом отношении Труба отозвалась в двух его рассказах. Один так и называется: «В Москве на Трубной площади» – зарисовка Трубного рынка, очень живая и милая. Охотником Чехов не был, но природу знал и любил. Любил птиц, собак, цветы. Ясно, что по Трубе не раз бродил – это совсем близко от Грачевки, – все видел и заметил. Что-то весеннее есть в этом очерке. Есть в нем и улыбка.
«Юнцам и мастеровым продают самок за самцов, молодых за старых. Они мало смыслят в птицах. Зато любителя не обманешь. – Положительности нет в этой птице, – говорит любитель, засматривая чижу в рот и считая перья в его хвосте. – Он теперь поет, это верно, но что же из этого? И я в компании запою. Нет, ты, брат, мне без компании, брат, запой; запой в одиночку, если можешь… Ты подай мне того вон, что сидит и молчит. Тихоню подай! Этот молчит, стало быть, себе на уме…»
Университет, наука, медицина – само по себе, но вот простая жизнь, птицы, зверюшки, продавцы, чудаки-любители, солнце Москвы над Трубой – это другое и это собственно жизнь, ему она и ближе и нужней. Юным, острым взором впитывает он все. Нравится и продавец, считающий, что «заяц, ежели его бить, спички может зажигать», и чудак-любитель в меховом картузе, ко всему приценяющийся, все критикующий и ничего по бедности не покупающий. И даже строгий учитель гимназии, тоже маниак, которого называют здесь «Ваше местоимение» (начало дальнейших чеховских словечек). Насмешки, горечи в этих страницах нет. Но кроме жизнечувствия – такой дар показать, рассказать, что бедному Александру не до поучений. Это не «Безотцовщина». Тут учить нечему.
Другой рассказ, связанный с теми же местами Москвы, в ином роде. Называется он «Припадок». Написан гораздо позже, в 1888 году, когда Чехов жил уже не здесь. Помещен в сборнике памяти Гаршина, незадолго перед тем погибшего. Тут никакой улыбки нет, как не было ее и у самого Гаршина.
Ноябрьский вечер, только что выпал снег. Юный художник и студент-медик уговорили студента-юриста, застенчивого и болезненного, посмотреть веселые дома. Так что это история одного путешествия. Кончается оно нервным припадком студента. А видел он самое обыкновенное, будничное мира сего.
Все происходит в известном тогда Соболевой переулке, сплошь состоявшем из притонов, – в двух шагах и была та Грачевка, на которой ухитрился Павел Егорыч найти первое свое пристанище в Москве.
Рассказ мрачен и тяжек. Несколько a these, и это выпирает – против проституции. Сам Чехов находил, что он «отдает сыростью водосточных труб». «Но совесть моя по крайней мере покойна:…воздал покойнику Гаршину ту дань, какую хотел и умел. Мне, как медику, кажется, что душевную боль я описал правильно, по всем правилам психиатрической науки».
Суворина он упрекнул, что в «Новом времени» ничего не пишут о проституции. «Ведь она страшнейшее зло. Наш Соболев переулок – это рабовладельческий рынок».
И все же художник в нем неизбывен. Тому же Суворину пишет он позже: «Литературное общество, студенты, Евреинова, Плещеев, девицы и проч. расхвалили мой «Припадок» вовсю, а описание первого снега заметил один только Григорович».
Описание, правда, отличное. Художнически это лучшие строки в рассказе. А в общем, от этого «Припадка» ведет уже дорожка к «Сахалину» и дальше, дальше: ко всему тому в его писании, где о человеческом устройстве жизни говорит он горькие слова. Мрак, тягость и несправедливость, угнетение одних другими узнал он очень хорошо. И не молчал об этом.
* * *
В 1884 году Чехов окончил Московский университет, вышел врачом. Кончилась и Трубная полоса его жизни. В конце этого года у цветущего и крепкого, казалось, молодого человека, случилось первое кровохарканье. Нельзя сказать, чтобы он отнесся к этому внимательно («не чахоточное»). Все-таки… «нездоровье немножко напугало меня», с другой же стороны «доставило… немало хороших, почти счастливых минут. Я получил столько сочувствий искренних, дружеских. До болезни я не знал, что у меня столько друзей».
«Доктор Чехов»
Еще в 1880 году, когда Антон Павлович был студентом, брат его Иван выдержал экзамен на приходского учителя и получил место в городке Воскресенске, недалеко от Москвы. Теперь Павел Егорыч не мог уже составлять для него «Расписание делов и домашних обязанностей», ссориться с ним в убогом домике Грачевки из-за штанов: Ивану дали в Воскресенске большую квартиру, настолько просторную, что летом Евгения Яковлевна с Машей и вообще вся семья могли приезжать к нему на дачу. Ездил туда и Антон Павлович. Воскресенск, как и Звенигород, сыграл в жизни его некую роль – и по медицинской части, и по литературной.
Это прелестные места. Мягкий и светлый подмосковный пейзаж, в нем заштатный городок с широкими улицами, церквами, в полутора верстах монастырь Новый Иерусалим, где каждое воскресенье пасхальная служба («особенность Нового Иерусалима», отмечает в письме Чехов, отлично знавший богослужение).
Недалеко и Звенигород, на высоком берегу Москва-реки, с далекими видами на луга, на чудесные леса; средь темноватой синевы их белел старинный дом имения графа Гудовича. В Звенигороде тоже монастырь – св. Саввы Звенигородского. Собор XIV века, входящий в историю нашей архитектуры. Он стоит отдельно, высоко, господствуя и над лугами, и над лесами. Его белый, древний куб увенчан золотым куполом, как шлемом. Собор невелик, но строг и благороден, похож на воина времен Дмитрия Донского и Куликовской битвы. От Звенигорода, его монастыря, церквей остается ощущение простора, света, благообразия.
С 1881 года Чехов, еще студент, работает летом в земской больнице под Воскресенском, у врача Архангельского. Это разгар русского интеллигентства. У Архангельского собирались по вечерам; видимо, много и молодежи.
Все они, на собраниях у Архангельского, за самоваром, вели «либеральные разговоры». «Салтыков-Щедрин не сходил с уст – им положительно бредили».
Занимался всем этим, конечно, и Чехов, может быть и подтрунивал, острил. Конечно, не разглагольствовал, больше наблюдал и наматывал себе на ус.
Позже, в 1884 году, уже врачом, трудился в самом Звенигороде – заменял уехавшего жениться доктора. Это давало довольно много для писания (на которое он смотрел тогда еще очень скромно). Более чем известная, отчасти даже заезженная актерами «Хирургия» родом из Звенигорода. Со Звенигородом же связаны «Сирена», «Мертвое тело» – приходилось ездить со следователем и на вскрытия.
Именно в это время Иван Павлович познакомился с тамошним помещиком Киселевым. У того в пяти верстах от Воскресенска было имение Бабкино. Познакомилась с Киселевыми и Мария Павловна, тогда еще просто Маша, – и подружилась с Марией Владимировной, женой Киселева.
Знакомство оказалось для всех Чеховых очень приятным, полезным, а для Антона Павловича даже и важным.
Алексей Сергеевич Киселев был племянник известного деятеля и министра николаевских времен П. Д. Киселева, как бы провозвестника освобождения крестьян. Человек культурный и просвещенный, либеральный барин восьмидесятых годов, довольно легкомысленный и привлекательный. Всегда в долгах: Бабкино закладывалось и перезакладывалось. Надо было доставать деньги, платить проценты. (Корни «Вишневого сада» именно в Бабкине, хотя самый сад не отсюда. Но «место в банке» Гаева – нечто вроде банка в Калуге, куда поступил в трудную минуту Киселев.) Мария Владимировна, жена его, по культуре – его уровня, но серьезнее и основательней. Занималась отчасти и литературой, писала для детей.
В этом Бабкине Чеховы дачниками провели три лета: 85, 86 и 87-го годов. Имение было большое, роскошное, с барским домом, английским парком, лесами вокруг, лугами. Вблизи река. Отдельный флигель – собственно, целый дом, его Чеховы и снимали. Главное, жили в дружбе с хозяевами, людьми хорошей культуры. Много книг, приезжают из Москвы артисты, музыканты. Это не Лейкин и не «Осколки». Жизни, ее действия и зрелища повседневного у Чехова всегда было много, культурного окружения мало. У Киселевых именно этим и дышал он, как позже знакомство с Сувориным тоже действовало хорошо. Брат Иван, Евгения Яковлевна, сестра Маша, не говоря уж о Павле Егорыче, – это одно, а Киселевы с их библиотекой, журналами, просвещенными гостями, певцами, приезжавшими сюда, музыкантшами – как г-жа Ефремова, по вечерам игравшая им на рояле Бетховена и других классиков, – это другое. Где-то на горизонте Чайковский, о котором, быть может, впервые узнал Чехов именно у Киселевых. И наконец Левитан, вначале живший в трех верстах в деревне Максимовке «на этюдах», снимая избушку у пьяницы-горшечника. Потом переехал он в Бабкино и поселился «в маленьком флигельке» (были в Бабкине флигеля и большие и малые).
Знакомство с Левитаном шло еще из Москвы: брат Николай учился с ним вместе в Училище живописи и ваяния. Левитан Чехову очень подходил. Худенький молодой человек с изящным очертанием лица, несколько продолговатого, томный, склонный к меланхолии, очень нервный. Прекрасные глаза, темная окаймляющая бородка, поэтически разметанные на голове волосы – подчеркнутый художник, ему бы ходить в бархатных куртках, с бантом-галстухом романтического вида, в огромной шляпе. Но, по-видимому, это был простой и естественный живописец-богема, весьма одаренный, природно тонкий и мягче самого Чехова – сквозь свое сентиментальное еврейство удивительно чувствовал он русский пейзаж.
Молодой Чехов гораздо сильнее и крепче, замкнутей, мог казаться и холодноватым. Левитан же весь как на ладони. Может восторгаться, влюбляться, делиться с друзьями чувствами, от восторга переходить к отчаянию, как и подобает настоящему неврастенику. Левитан жил в Бабкине жизнью художника, много работал, закладывал основание будущей своей славы – век его, как и Чехова, оказался кратким.
С Чеховым все три бабкинских лета он очень дружил. Чехов сам был еще полон сил. «Портрет Чехова работы Левитана» показывает профиль такого прочного и сильного молодого человека, про которого никак не скажешь, что это будущий «сумеречный» Чехов – скорее народный тип, именно правнук Евстратия Чехова из Воронежской губернии. Правнук этот идет в жизни твердо, уверенно и одиноко.
В повседневности же может придумать такую, например, вещь: после дня, когда писал какого-нибудь «Налима» или «Дочь Альбиона», лечил бабу или ездил по вызову в соседнюю деревню к больному, вот он способен в наступающей ночи, под проливным дождем затеять путешествие с братом в Максимовку – будить и пугать Левитана. Надевают высокие сапоги, хлюпают по лужам и грязи, идут темным лесом, чтобы в хибарке горшечника поднять с постели испуганного Левитана (он подумал, что это разбойники, схватил даже револьвер). Конечно, начинается болтовня, шуточки, остроты.
Когда Левитан перебрался в бабкинский флигелек, «доктор Чехов» прибил над дверью вывеску:
Ссудная касса купца Левитана.
И весьма утешался с ним рыбной ловлей, всяческими прогулками, даже охотой. (Трудно похвалить их, однако, за охоту с гончими в мае. Это никуда не годится. Тургенев просто ужаснулся бы, но он был уж в могиле.)
Можно хохотать и возиться с удочками, охотиться и писать, спорить об искусстве и лечить направо и налево, но иногда и с Левитаном бывало не так легко. На него нападала тоска, он уходил в лес, его одолевали страшные мысли. «Со мной живет художник Левитан. С беднягой творится что-то недоброе. Психоз какой-то начинается. Хотел вешаться». Чехов его «прогуливает».
«Словно бы легче стало» – жизнь Левитана, однако, навсегда осталась проникнута острым вкусом печали, дававшей особую ноту его подходу к природе, к миру. Но в живописи выразит он это позже – «Над вечным покоем» помечено 1894 годом. Позже придется и Чехову выхаживать его в еще более серьезном деле.
* * *
Кроме Левитана и старших Киселевых были у Чехова в Бабкине и еще приятели: Киселевы-дети, Саша (девочка) и Сережа.
В каком раннем возрасте появляется у Чехова нежность к детям! Ему всего двадцать шесть – двадцать семь лет. Он еще сам кипит жизнью, это не есть умиление зрелого человека, но вот его к детям тянет. И они любят его.
Я не знаю подробностей его отношений к Сереже и Саше. Уверен, что тут не было никакой слащавости. Скорей шуточки, придумыванье игр, вообще то, что интересно детям.
След внимания и любви, дошедший до нас, – произведение «Сапоги всмятку», милая чепуха, но довольно обширная, написанная именно для этих детей. Она сохранилась и даже напечатана теперь; вряд ли Антон Павлович думал тогда об этом. Она безмолвно свидетельствует о том, сколько сил, времени мог тратить Чехов, вообще-то много в молодости писавший, еще и для забавы друзей-детей. Мало того что написал – там рисунки, иллюстрации, все сделано его рукой.
Позже, когда время Бабкина кончилось, в письмах к Киселевым-старшим всегда поминаются младшие.
Сашу он называл Василисой, Сережу по-разному, у него много прозвищ: Грипп, Коклюш, Коклен Младший, Финик, Котафей Котафеич. Но всегда с сочувствием. «Прекрасной Василисе и любезнейшему Котафею Котафеичу мой нижайший поклон и пожелание отличного аппетита» (1889). «И желаю обитателям милого, незабвенного Бабкина… всего хорошего (1894). Всем обитателям милого, незабвенного Бабкина…» (1895).
В 1888 году, когда Чехов уже утвердился как писатель и жил на Кудринской-Садовой, а Сережа поступил в 1-й класс гимназии и поселился у Чеховых нахлебником, Чехов, отписывая Марии Владимировне, всегда о сыне тревожившейся (не заболел ли? как себя ведет?), вот как изображает жизнь Финика: «Каждое утро, лежа в постели, я слышу, как что-то громоздкое кубарем катится вниз по лестнице и чей-то крик ужаса: это Сережа идет в гимназию, а Ольга провожает его. Каждый полдень я вижу в окно, как он в длинном пальто и с товарным вагоном на спине, улыбающийся и розовый, идет из гимназии. Вижу, как он обедает, как занимается, как шалит, и до сих пор не видел и тени такого, что могло бы заставить меня призадуматься серьезно насчет его здоровья или чего-нибудь другого». В конце письма – «поклон Василисе» (Саша жила еще в Бабкине).
Первая его встреча и дружба с детьми – это именно с киселевскими.
* * *
Как просторно жили тогда в среднерусском, даже небогатом кругу! Если и денег мало, то жилья много. Уезжая летом на подножный корм сперва в Воскресенск к Ивану Павловичу, потом в Бабкино к Киселевым, Чеховы могли чуть не каждый год менять квартиры: весной уехали, прежнюю бросили, осенью без затруднения находят новую. В 1885 году живут на Сретенке, в 86-м уже на Якиманке, в доме Клименкова. В 1888-м адрес опять новый: Кудринская-Садовая, дом Корнеева.